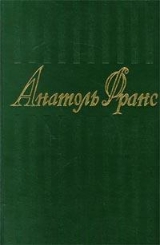
Текст книги "Красная лилия"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Съежившись, подперев щеку рукой, она, точно любопытная вопрошательница сибиллы, вспоминала подле угасшего камина годы своего одиночества, и перед ней вновь возник образ маркиза де Ре, возник такой отчетливый и яркий, что она удивилась. Маркиз де Ре, которого ввел к ней ее отец, превозносивший его, предстал перед ней во всем величии и блеске тридцатилетних любовных побед и светских успехов. Его похождения были неотделимы от него. Он обольстил три поколения женщин, и в сердцах всех, кого любил, оставил неизгладимую память о себе. Его мужское обаяние, строгая изысканность и привычка нравиться были причиной того, что молодость его продолжалась за положенными ей пределами. Молодую графиню Мартен он отметил вниманием совсем особым. Восхищение этого знатока польстило ей. Она и сейчас с удовольствием вспоминала об этом. У него была пленительная манера разговаривать. Он ее занимал; она дала ему это понять, и тогда он с героическим легкомыслием поклялся себе достойно завершить свою счастливую жизнь победой над этой молодой женщиной, которую он первый оценил и которой явно нравился. Чтобы завладеть ею, он пустил в ход самые тонкие уловки. Но она легко от него ускользнула.
Два года спустя она отдалась Роберу Ле Менилю, который желал ее страстно, со всем пылом молодости, со всей простотой своей души. Она говорила себе: «Я отдалась ему, потому что он меня любил». Это была правда. Но правда была и то, что глухой и могучий инстинкт проснулся в ней и что она покорилась силам, таившимся в глубине ее существа. Но сама она тут была ни при чем; она и ее сознание только поверили в подлинное чувство, согласились на него, пожелали его. Она уступила, как только увидела, что возбуждает любовь, близкую к страданию. Отдалась она скоро и просто. Он же счел, что это от легкомыслия. Но он ошибался. Она испытала гнет непоправимого и тот особый стыд, который вызывает в нас внезапная необходимость что-нибудь скрывать. Все, что при ней шептали насчет женщин, у которых есть любовники, звенело у нее в ушах. Но гордая и чуткая, руководясь своим безупречным вкусом, она постаралась скрыть цену дара, который принесла, и ничего не сказать такого, что могло бы связать ее друга помимо его чувств. Он и не подозревал об этой нравственной тревоге, продолжавшейся, впрочем, всего несколько дней и сменившейся совершенным спокойствием. Прошло три года, и теперь она считала свое поведение невинным и естественным. Никому не причинив зла, она не чувствовала и сожалений. Она была довольна. Эта связь была самое лучшее, что она знала в жизни. Она любила, была любима. Правда, она не узнала того опьянения, о котором мечтала. Но испытывает ли его кто-нибудь? Она была подругой хорошего и порядочного человека, которого весьма ценили женщины, который в обществе пользовался большим успехом, слыл презрительным и привередливым, а ей выказывал искреннее чувство. То удовольствие, которое она ему доставляла, и радость быть красивой ради него привязывали ее к другу. Он делал для нее жизнь если и не всегда пленительной, то все же весьма сносной, а порою и приятной.
Он открыл ей сущность ее характера, ее темперамент, ее истинное призвание – то, чего она не угадывала в своем одиночестве, несмотря на томившее ее смутное беспокойство и беспричинную печаль. Узнавая его, она узнавала себя. И для нее это было счастливым открытием. На их взаимную симпатию не влияли ни ум, ни душа. Она питала к нему спокойную и ясную привязанность, и это было прочное чувство. Вот и сейчас ее радовала мысль, что завтра она вновь увидит его в квартире на улице Спонтини, где они встречались в течение трех лет. Она порывисто тряхнула головой, пожала плечами более резко, чем можно было ожидать от этой очаровательной светской дамы, и, сидя у камина, теперь уже угасшего, сказала самой себе: «Да, мне нужна любовь!»
II
Начинались уже сумерки, когда они вышли из квартирки на улице Спонтини. Робер Ле Мениль знаком подозвал извозчика и, беспокойным взглядом окинув кучера и лошадь, вместе с Терезой сел в экипаж. Прижавшись друг к другу, они ехали среди смутных теней, прорезываемых порой внезапным лучом света, кругом был призрачный город, а душами их владели впечатления нежные и ускользающие, подобные огням, мелькавшим сквозь запотелые стекла. Все, что было вне их, казалось им неясным и неуловимым, и в сердце они ощущали сладостную пустоту. Экипаж остановился у Нового моста, на набережной Августинцев.
Они вышли. Сухой холодный воздух оживлял этот хмурый январский день. Тереза радостно вдыхала его сквозь вуалетку, а порывы ветра, дувшего с другой стороны реки, подымали над затвердевшей землей пыль едкую и белую, как соль. Терезе нравилось идти по незнакомым местам, чувствуя себя свободной. Она любила смотреть на этот каменный пейзаж, озаренный слабым и далеким светом, пронизывавшим воздух; идти быстрой и твердой походкой вдоль набережной, где на фоне неба, рыжеватого от городских дымов, деревья развесили черный тюль своих веток; глядеть, склонившись над парапетом, на узкий рукав Сены, катящей свои зловещие волны; впивать грусть реки, текущей меж плоских берегов и не окаймленной ивами или буками. В высоком небе уже мерцали первые звезды.
– Ветер словно хочет их погасить, – сказала она. Он тоже заметил, что они часто мигают. Он, однако, не думал, чтобы это предвещало дождь, как считают крестьяне. Напротив, ему приходилось наблюдать, что в девяти случаях из десяти звезды мигают перед хорошей погодой.
Подходя к Малому мосту, они по правую руку увидали лавки старьевщиков, где торговля шла при свете коптящих ламп. Она поспешила туда, шаря взглядом в пыли и ржавчине. Страсть собирательницы заговорила в ней: она повернула за угол и даже рискнула зайти в барак с навесом, где под сырыми балками висели какие-то темные лохмотья. За грязными стеклами при огне горевшей свечи видны были кастрюли, фарфоровые вазы, кларнет и подвенечный убор.
Он не понимал, какое удовольствие она находит в этом.
– Вы наберетесь насекомых. Что тут может быть интересного для вас?
– Все. Я думаю о той бедной невесте, чей венок выставлен тут под стеклом. Свадебный обед происходил у ворот Майо. В числе гостей был республиканский гвардеец. Такой бывает почти на всякой свадьбе, которую по субботам видишь в Булонском лесу. Неужели вас не трогают, друг мой, эти бедные существа, смешные и жалкие, – ведь они в свое время тоже отойдут в величавый мир прошлого?
Среди надбитых и разрозненных чашек с узором из цветочков она обнаружила маленький ножик с ручкой из слоновой кости, изображающей фигуру женщины, плоскую и длинную, с прической а ля Ментенон. Тереза купила его за несколько су. Ее приводило в восторг, что у нее уже есть такая же вилка. Ле Мениль признался, что ничего не понимает в подобных безделушках. Но его тетка де Ланнуа – та великий знаток. В Каэне у антикваров только и речи, что о ней. Она в строго выдержанном стиле реставрировала и обставила свой замок. То был сельский дом Жана Ле Мениля, советника руанского парламента в 1779 году. Этот дом, существовавший и до него, упоминался под названием «дом бутылки» в некоем акте 1690 года. В одной из зал нижнего этажа в белых шкафах за решетчатыми дверцами еще и сейчас хранились книги, собранные Жаном Ле Менилем. Тетка де Ланнуа, рассказывал он, решила привести их в порядок. Но в числе их она нашла сочинения легкомысленные и украшенные столь нескромными гравюрами, что пришлось их сжечь.
– Так ваша тетка глупа? – сказала Тереза.
Уже давно ее сердили рассказы о г-же де Ланнуа.
У ее друга в провинции была мать, сестры, тетки, многочисленная родня, которой она не знала и которая раздражала ее. Он говорил о них с восхищением. Ее это возмущало. Сердило ее и то, что он подолгу гостит у этой родни, а возвращаясь, привозит с собой, как ей казалось, запах плесени, узкие взгляды, чувства, оскорбительные для нее. А он наивно удивлялся этой неприязни, страдал от нее.
Он замолчал. При виде кабачка, окна которого ярко пылали сквозь решетки, ему вспомнился поэт Шулетт, слывший пьяницей. Он чуть раздраженно спросил Терезу, встречается ли она с этим Шулеттом, который приезжает к ней в макфарлане, в красном кашне, намотанном до самых ушей.
Ей стало неприятно, что он разговаривает, как генерал Ларивьер. И она скрыла от него, что не видела Шулетта с осени и что он пренебрегает ею с бесцеремонностью человека занятого, капризного, отнюдь не светского.
– Он умен, оригинален, у него богатое воображение, – сказала она. – Он мне нравится.
А на его упрек, что у нее странный вкус, она с живостью возразила:
– У меня не вкус, а вкусы. Думаю, вы порицаете их не все.
Он не порицал ее. Он только опасался, как бы она не повредила себе, принимая этого пятидесятилетнего представителя богемы, которому не место в почтенном доме.
Она воскликнула:
– Не место в почтенном доме Шулетту? Так вам неизвестно, что он каждый год проводит месяц в Вандее у маркизы де Рие… да, у маркизы де Рие, католички, роялистки, старой шуанки, как она сама себя называет [18]18
…у старой шуанки, как она сама себя называет. – Французские аристократы-легитимисты называли себя шуанами в память контрреволюционных, роялистских мятежей «шуанов» (конец XVIII в.).
[Закрыть]. Но раз уж вас интересует Шулетт, выслушайте его последнюю историю. Вот как ее рассказывал мне Поль Ванс. И она мне делается более понятной на этой улице, где женщины ходят в широких кофтах, а на окнах стоят горшки с цветами.
Нынешней зимой, дождливым вечером, Шулетт в каком-то кабачке на улице, название которой я забыла, но которая своим жалким видом, наверно, похожа на эту, встретил одно несчастное создание. Эту женщину отвергли бы даже слуги в кабаке, но он полюбил ее за смирение. Ее зовут Мария. Да и самое это имя – не ее имя, она его прочла на дощечке, прибитой к двери меблированной комнаты под самой крышей, где она поселилась. Шулетта умилила эта беспредельная нищета, эта глубина падения. Он назвал ее своей сестрой и стал целовать ей руки. С тех нор он уже не покидает ее. Он водит ее, простоволосую, с косынкой на плечах, по разным кафе Латинского квартала, где богатые студенты читают журналы. Он говорит ей очень нежные речи. Он плачет, и она плачет. Они пьют, а когда выпьют, дерутся. Он любит ее. Он называет ее целомудреннейшей из женщин, своим крестом и своим спасением. Она ходила в башмаках на босу ногу; он ей подарил клубок грубой шерсти и спицы, чтоб она связала себе чулки, и сам огромными гвоздями подбивает ей башмаки. Он разучивает с ней стихи попроще. Он боится, что нарушит ее нравственную красоту, если вырвет из того позора, среди которого она живет в совершенной простоте и в восхитительной бедности.
Ле Мениль пожал плечами.
– Но он сумасшедший, этот Шулетт! Ну и милые истории рассказывает вам Поль Ванс. Я, разумеется, не аскет, но есть безнравственность, которая мне отвратительна.
Они шли куда глаза глядят. Она задумалась.
– Да, знаю, нравственность, долг… Но долг – кто скажет, что это такое? Уверяю вас, что я почти никогда не знаю, в чем заключается долг. Тут то же самое, что бывало с ежом нашей мисс в Жуэнвиле: целые вечера мы искали его под стульями и креслами, а когда находили, уже пора было идти спать.
По его мнению, в словах Терезы было много верного, больше даже, чем ей кажется. Он и сам размышляет о том же, когда бывает один.
– В этом смысле я иногда жалею, что не остался в армии. Предвижу, что вы мне скажете: от военной службы тупеешь. Пусть так, но зато знаешь в точности, что тебе делать, а в жизни это много значит. Я нахожу, что жизнь моего дяди генерала Ла Бриша – прекрасная жизнь, весьма почетная и довольно приятная. Но теперь, когда вся страна вливается в армию, нет больше ни офицеров, ни солдат. Это напоминает вокзал в воскресный день, когда кондукторы вталкивают в вагоны ошалевших пассажиров. Мой дядя Ла Бриш знал лично всех офицеров и всех солдат своей бригады. У него и сейчас в столовой висит их список. Время от времени он перечитывает его для развлечения. А теперь как прикажете офицеру знать своих солдат?
Она его больше не слушала. Она разглядывала продавщицу жареного картофеля, которая устроилась на углу улицы Галанд в застекленной будке; лицо ее, освещенное пламенем жаровни, выделялось в темноте. Женщина, опуская длинную ложку в шипящий жир, доставала из него золотистые серповидные ломтики картофеля и ссыпала их в желтый бумажный кулек, где словно поблескивали соломинки, а рыжеволосая девушка, внимательно следившая за ней, протягивала к ней красную руку с монетой в два су.
Когда девушка унесла свой кулек, Тереза, позавидовав ей, заметила, что проголодалась и непременно хочет попробовать жареного картофеля.
Он сперва воспротивился:
– Ведь неизвестно, как это приготовлено.
Но в конце концов ему пришлось спросить у продавщицы на два су картофеля и проследить, чтобы она его посолила.
Пока Тереза, приподняв вуалетку, ела подрумяненные ломтики, он увлекал ее в безлюдные улицы, подальше от газовых фонарей. Потом они снова оказались на набережной и увидели черную громаду собора, подымающуюся по ту сторону узкого рукава реки. Луна, повиснув над зубчатым гребнем крышп, серебрила ее скаты.
– Собор богоматери! – проговорила она. – Смотрите, он грузный, как слон, и хрупкий, как насекомое. Луна карабкается на его башни и смотрит на него с обезьяньим лукавством. Тут она не похожа на сельскую луну Жуэнвиля. В Жуэнвиле у меня есть своя дорожка, обыкновенная ровная дорожка, а в конце ее – луна. Она показывается не каждый вечер, но возвращается непременно, полная, красная, привычная. Это – наша соседка по имению, дама из окрестностей. Я в полном смысле слова иду к ней навстречу – из вежливости и из дружбы; а с этой парижской луной не хочется водить знакомство. Это – особа не из приличного общества. Чего она только не видела с тех пор, как бродит по крышам!
Он нежно улыбнулся.
– А! твоя дорожка… ты гуляла по ней одна и полюбила ее за то, что в конце ее – небо, не слишком высокое, не слишком далекое, – я как сейчас вижу эту дорожку.
В Жуэнвильском замке, куда его пригласил на охоту г-н де Монтессюи, он впервые увидел Терезу, сразу же ее полюбил, стал желать ее. Там, однажды вечером, на опушке рощи, он ей сказал, что любит ее, а она безмолвно выслушала его, с затуманенным взглядом, страдальчески сжав губы.
Воспоминание об этой дорожке, где она гуляла одна осенними вечерами, умилило, взволновало его, воскресило волшебные часы первых желаний и боязливых надежд. Он нашел ее руку под мехом муфты и пожал тонкую кисть.
Девочка, продававшая фиалки в плетеной корзинке, выложенной еловыми ветками, поняла, что перед ней влюбленные, и подошла предложить цветы. Он купил букетик за два су и поднес Терезе.
Она шла к собору и думала: «Это огромный зверь, зверь из Апокалипсиса…»
На противоположном конце моста другая цветочница, морщинистая, с усами, серая от старости и пыли, увязалась за ними с корзинкой, полной мимоз и роз из Ниццы. Тереза, которая в эту минуту держала фиалки в руке и старалась засунуть их за корсаж, весело сказала старухе:
– Благодарю, у меня все есть.
– Видать, что молодая, – нагло крикнула ей, удаляясь, старуха.
Тереза почти сразу же поняла, и в углах губ и в глазах ее промелькнула улыбка. Теперь они шли в тени, вдоль паперти, мимо расставленных в нишах каменных фигур со скипетрами в руках и с коронами на челе.
– Войдем, – предложила она.
Ему этого не хотелось. Ему было как-то неловко, почти страшно вместе с нею появиться в церкви. Он стал уверять, что сейчас закрыто. Он так думал, ему хотелось, чтобы так было. Но она толкнула дверь и проскользнула внутрь, в огромный храм, где безжизненные стволы колонн уходили в темную высь. В глубине, как призраки, двигались священники, мелькали огни свечей; замолкали последние стоны органа. В наступившей тишине она вздрогнула и проговорила:
– Грусть, которую навевает церковь ночью, всегда меня волнует; чувствуешь величие небытия.
Он ответил:
– Все-таки мы должны во что-то верить. Было бы слишком грустно, если бы не было бога, если бы душа наша не была бессмертна.
Под покровом мрака, ниспадавшего со сводов, она несколько мгновений стояла неподвижно, потом сказала:
– Ах, бедный друг мой, мы не знаем, на что нам и эта жизнь, такая короткая, а вам нужна еще другая, которой нет конца.
В экипаже, отвозившем их домой, он весело сказал, что отлично провел день. Он поцеловал ее, довольный и ею и собой. Но ей не передалось это расположение духа. Чаще всего так с ними и случалось. Последние минуты, проведенные вместе, бывали для нее испорчены предчувствием того, что, расставаясь, он не скажет того слова, которое надо сказать. Обычно он покидал ее как-то сразу, словно для него все пережитое не могло иметь продолжения. При каждом таком расставании ей чудилось, что это разрыв. Она заранее мучилась этим и становилась раздражительна.
Под деревьями аллеи Королевы он взял ее руку и стал покрывать ее короткими частыми поцелуями.
– Ведь правда, Тереза, редко бывает, чтобы двое любили друг друга так, как любим мы?
– Редко ли, не знаю, но мне кажется, что вы меня любите.
– А вы?
– Я тоже вас люблю.
– И всегда будете меня любить?
– Как можно знать?
И, видя, что лицо ее друга омрачилось, она прибавила:
– Вам было бы спокойнее с женщиной, которая поклялась бы любить всю жизнь вас одного?
Тревога его не проходила, вид у него был несчастный. Она смилостивилась и совершенно успокоила его:
– Вы же знаете, друг мой, я не легкомысленна. Я не так расточительна, как княгиня Сенявина.
Простились они почти в самом конце аллеи Королевы. Он удержал экипаж, чтобы ехать на Королевскую улицу. Он должен был обедать в клубе, а оттуда собирался в театр. Времени у него было в обрез.
Тереза вернулась домой пешком. Уже завидев Трокадеро, искрившийся огнями, точно бриллиантовый убор, она вспомнила цветочницу на Малом мосту. Слова, брошенные среди ветра и мрака: «Видать, что молодая» – приходили ей на память, уже не насмешливые, не двусмысленные, а угрожающие и печальные. «Видать, что молодая». Да, она была молода, она была любима – и скучала.
III
Посреди стола высилась целая чаща цветов в широкой корзине золоченой бронзы, а по краям ее, под массивными ручками в виде рогов изобилия, окруженные звездами и пчелами, расправляли крылья орлы. По бокам крылатые фигуры Победы поддерживали пылающие ветви канделябров. Эта ваза в стиле ампир была в 1812 году преподнесена Наполеоном графу Мартену де л'Эн, деду нынешнего графа Мартен-Беллема. Мартен де л'Эн, депутат Законодательного корпуса в 1809 году, был на следующий год назначен членом финансовой комиссии, занятия в которой, кропотливые и хранимые в тайне, соответствовали его характеру, трудолюбивому и робкому. Хоть и будучи либералом в силу наследственных традиций и по собственным склонностям, он понравился императору своим усердием и безупречной ненавязчивой честностью. Два года на него дождем сыпались милости. В 1813 году он вошел в состав умеренного большинства, которое одобрило доклад Лене [19]19
Лене Жозеф-Луи-Жоашен, виконт (1767–1835) – французский политический деятель, бонапартист, в дальнейшем роялист. В 1813 г. возглавлял комиссию, изучавшую отношения со странами коалиции, и в своем докладе в Законодательном корпусе подверг критике внешнюю политику Франции. Разгневанный Наполеон распустил Законодательный корпус и на ближайшей аудиенции в Тюильри назвал Лене мятежником, продавшимся Англии.
[Закрыть], содержавший запоздалые наставления пошатнувшейся Империи и осудившей ее мощь, так же как ее невзгоды. 1 января 1814 года он вместе со своими коллегами явился в Тюильри. Император оказал им ужасающий прием. Он пошел на них в атаку. Неистовый и мрачный, в страшном сознании своей теперешней силы и близкой гибели, он излил на них весь свой гнев и все презрение.
Он шагал взад и вперед между их смущенными рядами и вдруг схватил за плечи графа Мартена, случайно попавшегося на его пути, стал трясти его, потащил за собою, восклицая: «Разве трон – это четыре доски, покрытые бархатом? Нет. Трон – это человек, и человек этот – я. Вы пожелали забросать меня грязью. А время ли нападать на меня, когда двести тысяч казаков переходят наши границы? Ваш господин Лене – ничтожество. Грязное белье стирают дома». Император исходил яростью, то величественной, то пошлой, и, не переставая, теребил расшитый воротник депутата от Эна. «Народ знает меня. Вас же он не знает. Я избранник наций. А вы неизвестные представители каких-то там департаментов». Он предрек им участь жирондистов. Звон его шпор сопровождал раскаты его голоса. С тех пор граф Мартен уже всю жизнь дрожал и заикался и, все так же дрожа, притаясь в своем доме в Лане, после поражения императора призывал Бурбонов. Вотще обе Реставрации, вотще Июльская монархия и Вторая империя усеивали крестами и лентами его грудь, по-прежнему не смевшую вздохнуть свободно. Достигнув самых высоких должностей, удостоившись всяких почестей, которыми его осыпали три короля и один император, он вечно чувствовал на своем плече руку корсиканца. Умер он сенатором при Наполеоне III, оставив сына, страдавшего наследственной дрожью.
Этот сын вступил в брак с м-ль Беллем, дочерью председателя судебной палаты в Бурже, и тем самым – в союз с политической славой рода, который во времена конституционной монархии дал трех министров. Беллемы, служившие при Людовике XV в суде, помогли облагородить якобинское происхождение Мартенов. Второй граф Мартен принимал участие во всех заседаниях палаты вплоть до самой своей смерти, последовавшей в 1881 году. Шарль Мартен-Беллем, его сын, без особого труда занял там его место. Женившись на м-ль Терезе Монтессюи, чье приданое явилось поддержкой для его политической карьеры, он скромно выделялся среди тех четырех-пяти богатых и титулованных буржуа, что, став на сторону демократии и республики, встречали не слишком дурной прием у истых республиканцев, которым льстила аристократичность их имен, а умственное их ничтожество казалось успокоительным.
В столовой, где над дверьми угадывалась в сумраке пятнистая шерсть собак кисти Удри [20]20
Удри Жан-Батист (1686–1755) – французский художник-анималист.
[Закрыть], перед бронзовой корзиной, усеянной золотыми пчелами и звездами, между двумя Победами, несущими огни канделябров, граф Мартен-Беллем исполнял роль хозяина с той несколько хмурой любезностью, с той печальной учтивостью, с которой еще недавно в Елисейском дворце перед лицом двора великой северной державы надо было представлять Францию, одинокую и меланхоличную. Время от времени он обращался с бесцветными словами – направо к г-же Гарен, жене бывшего министра юстиции, налево – к княгине Сенявиной, увешанной бриллиантами и скучавшей до боли. Напротив него, по другую сторону корзины, сидя между генералом Ларивьером и г-ном Шмолем, членом Академии надписей, графиня Мартен обмахивала веером свои изящные, нежные плечи. По бокам, за полукружиями, которыми завершался стол, сидели г-н Монтессюи, рослый, голубоглазый, с прекрасным цветом лица, молодая родственница – г-жа Беллем де Сен-Ном, не знавшая, куда девать свои длинные худые руки, художник Дювике, Даниэль Саломон, Поль Ванс, депутат Гарен, г-н Беллем де Сен-Ном, какой-то сенатор и Дешартр, впервые обедавший в этом доме. Разговор, вначале дробный и вялый, оживился и перешел в смутный гул, над которым возвышался голос Гарена:
– Всякая ложная идея опасна. Считается, что мечтатели не приносят вреда; это заблуждение: они приносят большой вред. Утопии, самые безобидные на первый взгляд, оказывают самое пагубное действие. Они внушают отвращение к действительности.
– Но ведь и действительность, – сказал Поль Ванс, – тоже может быть нехороша.
Бывший министр юстиции начал уверять, что он сторонник любых усовершенствований. И, не напоминая о том, что в дни Империи он требовал упразднения постоянной армии, а в 1880 году отделения церкви от государства, заявил, что, верный своей программе, остается преданным слугою демократии. Его девиз, говорил он, – это порядок и прогресс. Ему и вправду казалось, что этот девиз изобретен им.
Монтессюи с обычным своим грубоватым добродушием возразил:
– Полно, господин Гарен, будьте искренни. Сознайтесь, что сейчас уже ни одной реформы не проведешь и что, самое большее, удастся изменить цвет почтовых марок. Худо ли, хорошо ли, но все идет так, как должно идти. Да, – прибавил он, – все идет так, как должно идти. Однако все непрерывно изменяется. С тысяча восемьсот семидесятого года промышленность и финансы страны пережили четыре или пять революций, которых экономисты не предвидели и до сих пор еще не могут понять. В обществе, как и в природе, превращения идут изнутри.
Относительно образа правления он держался простых и четких взглядов. Его, сильно привязанного к настоящему и мало заботящегося о будущем, социалисты нисколько не тревожили. Не беспокоясь о том, угаснут ли когда-нибудь солнце и капитал, он наслаждался тем и другим. По его мнению, надо было отдаться воле событий. Лишь глупцы борются с течением и лишь безумцы желают его опередить.
Но у графа Мартена, человека унылого от природы, были мрачные предчувствия. Он полунамеками предрекал близкие катастрофы.
Его опасения, перелетев через корзину с цветами, потрясли г-на Шмоля, и тот начал сокрушаться и пророчествовать. Он объяснил, что христианские народы сами по себе, без посторонней помощи, неспособны окончательно выйти из состояния варварства и, если бы не евреи и не арабы, Европа еще и сейчас, как во времена крестовых походов, погрязала бы в бездне невежества, нищеты, жестокости.
– Средневековье, – говорил он, – кончилось только в учебниках истории, которые дают школьникам, чтобы забить им головы. В действительности же варвары остаются варварами. Призвание Израиля – просвещать народы. Это Израиль в средние века принес Европе мудрость Азии. Социализм пугает вас. Это недуг христианский, так же как и монашество. А анархизм? Разве вы не узнаете в нем древнюю проказу альбигойцев [21]21
Альбигойцы (XII–XIII вв.) – религиозная ересь в южной Франции, выражавшая протест социальных низов против католической церкви. Папа римский организовал против альбигойцев кровавый крестовый поход.
[Закрыть]и вальденсов? [22]22
Вальденсы – приверженцы средневековой ереси, возникшей в XII в. на юге Франции и широко распространившейся в европейских странах; в XVI в. по существу слилась с движением Реформации.
[Закрыть]Евреи, которые просветили и цивилизовали Европу, одни только и могут спасти ее сейчас от евангельского недуга, снедающего ее. Но они изменили своему долгу. Они стали самыми ярыми христианами среди христиан. И бог наказывает их. Он позволяет, чтобы их изгоняли и грабили. Антисемитизм страшно развивается повсюду. В России моих единоверцев травят, как диких зверей. Во Франции гражданские и военные должности закрываются для евреев. Им больше нет доступа в аристократические клубы. Мой племянник, Исаак Кобленц, вынужден был отказаться от дипломатической карьеры, хотя блестяще сдал экзамен. Супруги некоторых моих коллег, когда моя жена приезжает к ним с визитом, нарочно кладут перед ней антисемитские газеты. И поверите ли, министр народного просвещения отказался представить меня к командорскому кресту, о котором я просил! Вот неблагодарность! Вот заблуждение! Антисемитизм – это смерть, слышите, смерть для европейской цивилизации.
Этот маленький человечек в своей непосредственности не считался ни с какими светскими условностями. Смешной и грозный, он смущал обедающих своей откровенностью. Г-жа Мартен, которую он забавлял, похвалила его:
– Вы по крайней мере защищаете ваших единоверцев; вы, господин Шмоль, не такой, как одна еврейская красавица, моя знакомая: прочитав в газете, что она принимает у себя цвет еврейского общества, она всюду стала вопить, что ее оскорбляют.
– Я уверен, что вы не знаете, сударыня, как прекрасна еврейская мораль, насколько она выше всякой другой морали. Знакома ли вам притча о трех кольцах? [23]23
…притча о трех кольцах. – Имеется в виду восточное сказание о богаче, который тайно вручил каждому из своих трех сыновей, в знак особой власти, по одинаковому перстню. Боккаччо в новелле о мудром еврее Мельхиседеке использовал это сказание для доказательства равноценности иудейской, магометанской и христианской религий. Позднее, в целях борьбы с религиозным фанатизмом, эту новеллу обработал немецкий писатель-просветитель Лессинг в драме «Натан Мудрый» (1779).
[Закрыть]
Но этот вопрос затерялся среди гула диалогов, в которых переплетались иностранная политика, выставки живописи, светские скандалы и толки об академических речах. Заговорили о новом романе, о предстоящей премьере. То была комедия. В эпизодической роли там был показан Наполеон.
Разговор теперь сосредоточился на Наполеоне, уже несколько раз выведенном на сцене, а за последнее время изображенном в нескольких весьма ходких книгах; это был модный персонаж, возбуждавший всеобщее внимание, уже больше не народный герой, не отечественный полубог в ботфортах, как в те дни, когда Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду [24]24
…Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду… – Норвен Жак-Марке, барон (1769–1854) – государственный деятель Первой империи; написал «Историю Наполеона» (1827–1828). Многие песни Беранже эпохи Реставрации посвящены солдатам наполеоновской армии. Шарле Никола (1792–1845) и Раффе Мари (1804–1860) – французские литографы и художники-баталисты, в своих картинах и рисунках прославлявшие Наполеона и его армию.
[Закрыть], а любопытная личность, занимательный, живой человек, чей образ нравился артистам, чьи жесты приводили в восторг зрительный зал.
Гарен, построивший свою политическую карьеру на ненависти к Империи, искренно считал, что этот возврат к Наполеону – просто нелепое увлечение. Он не видел в этом никакой опасности, совсем не боялся этого. Страх загорался в нем всегда внезапно и свирепо, а сейчас он был спокоен; он не говорил ни о том, чтобы запретить представления, ни о том, чтобы конфисковать книги, ни о том, чтобы арестовать авторов, ни о том, чтобы вообще что-либо пресечь. Невозмутимый и строгий, он видел в Наполеоне только тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот [25]25
…тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот. – Французский историк Ипполит Тэн в своей книге «Происхождение современной Франции» называл Бонапарта «кондотьером» (начальником наемного войска). Ссылаясь на сомнительные источники, Тэн утверждал, что Бонапарт, будучи консулом и рассердившись на сенатора графа Вольнея, иронически отозвавшегося о проекте конкордата, ударил его ногой в живот с такой силой, что Вольней лишился сознания. Полемизируя с Тэном, Франс еще в 1887 г. отрицал достоверность этого эпизода («Тэн и Наполеон» – «Temps», 2 октября).
[Закрыть].
Каждый попытался определить истинную сущность Наполеона. Граф Мартен, перед лицом императорского подарка, перед лицом крылатых Побед, подобающим образом высказался о Наполеоне, устроителе и правителе, и оценил его весьма высоко, как председателя Государственного совета, где слово его вносило ясность в самые темные вопросы.
Гарен утверждал, что на этих пресловутых, заседаниях Наполеон под тем предлогом, будто просит понюшку табаку, брал у членов совета их золотые, украшенные миниатюрами, усеянные бриллиантами табакерки, которых они потом больше и не видели. Кончилось тем, что на заседания стали приходить с табакерками из бересты. Этот анекдот он слышал от самого Мунье-сына [26]26
…от самого Мунье-сына. – Мунье Жан-Жозеф – французский политический деятель эпохи Революции и консульства; его сын барон Эдуард Мунье (1784–1843) занимал во время Империи высокие административные должности и играл видную роль в государственном аппарате вплоть до своей смерти.
[Закрыть].
Монтессюи ценил в Наполеоне любовь к порядку.
– Ему нравилось, когда дело делали хорошо. Сейчас к этому потеряли вкус.
Художник Дювике, который и мыслил как художник, находился в затруднении. В маске Наполеона, привезенной с острова Св. Елены, он не видел знакомых черт прекрасного и властного лица, сохраненного благодаря медалям и бюстам. В разнице легко было убедиться теперь, когда бронзовые копии маски, извлеченные, наконец, с чердаков, висели у всех старьевщиков среди орлов и сфинксов из золоченого дерева. И, по его мнению, раз уж подлинное лицо Наполеона оказывается не наполеоновским, то и подлинная душа Наполеона может быть не наполеоновской. Пожалуй, это душа какого-нибудь доброго буржуа: кое-кто уже высказывается в этом смысле, и он склоняется к такому взгляду. Впрочем, Дювике, мнивший себя портретистом своего века, знал, что знаменитые люди не бывают похожи на сложившиеся о них представления.
Даниэль Саломон заметил, что маска, о которой говорил Дювике, – маска, снятая с безжизненного лица императора и привезенная в Европу доктором Антомарки [27]27
Антомарки Франческо (1780–1838) – корсиканец по происхождению, последний врач Наполеона на острове Св. Елены, снявший с него посмертную маску. Автор мемуаров «Последние дни жизни Наполеона».
[Закрыть], – впервые была отлита в бронзе и распространена по подписке в 1833 году, при Луи-Филиппе, и что тогда же она возбудила и удивление и недоверие. Этого итальянца, настоящего аптекаря из комедии, болтливого и жадного, подозревали в том, что он сыграл злую шутку. Ученики доктора Галля [28]28
Галль Франц-Иосиф (1758–1828) – немецкий врач, основатель френологии, антинаучной теории о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека.
[Закрыть], система которого была тогда в чести, считали маску сомнительной. Они не находили в ней шишек гениальности, а лоб, исследованный согласно теории их учителя, не представлял по своему строению ничего замечательного.








