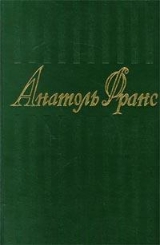
Текст книги "Красная лилия"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
На углу бульвара Марсо и улицы Галилея она не столько узнала, сколько угадала забытый образ, тень, скользнувшую рядом с нею. Она думала, она надеялась, что ошиблась. Тот, кто ей почудился сейчас, больше не существовал, да он и не существовал никогда. То был призрак, который она видела в прошлом, во мраке некоей полужизни, как бы в преддверии новых дней. И она шла, чувствуя после этой встречи, как смутная холодная тоска сжимает ее сердце.
Проходя по бульвару Марсо, она увидела газетчиков, которые неслись ей навстречу, протягивая номера вечернего выпуска, где крупными буквами объявлялось о новом правительстве.
Она миновала площадь Звезды; и чем нетерпеливее жаждала она встречи, тем быстрее шла. Она уже видела Жака, ждущего ее внизу лестницы среди нагих мраморных и бронзовых статуй; он возьмет ее в свои объятия и понесет ее, истомленную, трепещущую от поцелуев, в комнату, полную тени и блаженства, где сладость жизни заставит ее забыть самую жизнь.
Но вот на безлюдном бульваре Мак-Магона тень, которая мелькнула перед ней на углу улицы Галилея, приблизилась, приобрела отчетливость, и Терезе сразу стало тягостно и скучно.
Она узнала Робера Ле Мениля, который шел за ней следом от набережной Бильи и настиг в самом спокойном и самом удобном месте.
В его облике, в его манере держаться проступала та ясность души, которая когда-то нравилась Терезе. Его лицо, всегда жесткое, а теперь еще и обветренное, потемневшее от загара, немного осунувшееся и очень спокойное, говорило о глубоком скрытом страдании.
– Мне надо с вами поговорить.
Она замедлила шаг. Он пошел рядом с ней.
– Я старался забыть вас. После того, что случилось, это было вполне понятно, не правда ли? Для этого я сделал все. Конечно, забыть вас было бы лучше всего. Но я не мог. Тогда я купил яхту. И был полгода в плавании. Вы, может быть, слышали об этом?
Она кивнула в знак того, что слышала.
Он продолжал:
– «Розбад», хорошенькая яхта водоизмещением в восемьдесят тонн. У меня было шесть человек команды. Я вместе с ними управлял судном. Это было для меня развлечением.
Он замолчал. Она шла медленно, огорченная, но еще больше раздосадованная. Ей казалось нелепым, бесконечно мучительным – слушать чуждые ей слова.
Он продолжал:
– Мне стыдно было бы сказать вам, что я выстрадал на этой яхте.
Она почувствовала, что он говорит правду, и отвернулась.
– О! я вас извиняю. Я много думал в одиночестве. Я дни и ночи проводил, лежа на диване в рубке, и без конца перебирал все одни и те же мысли. За эти полгода я передумал больше, чем за всю свою жизнь. Не смейтесь. Ничто так не расширяет умственный кругозор, как страдание. Я понял, что потерял вас по своей вине. Надо было уметь удержать вас. И лежа ничком на диване, пока «Розбад» неслась по морю, я думал: «Я не сумел. О! если бы можно было начать сызнова». Я столько думал и страдал, что понял наконец, – понял, что недостаточно вникал в ваши вкусы и ваши взгляды. Вы женщина необыкновенная. Об этом я не думал, потому что не за это любил вас. Сам того не подозревая, я вас раздражал, шокировал.
Она покачала головой. Но он настаивал.
– Да! да! Я часто вас шокировал. Я мало считался с вашей чуткостью. Между нами бывали недоразумения. И все оттого, что у нас разные характеры. Да и потом я не умел вас занять. Я не доставлял вам тех развлечений, которые вам нужны; не понимал, что может доставить удовольствие такой умной женщине, как вы.
Он был так прямодушен и так искренен в своих сожалениях и в своем горе, что вызвал в ней что-то похожее на симпатию. Она мягко ответила ему:
– Друг мой, я не могу пожаловаться на вас.
– Все, что я вам говорю, – правда. Я это понял, когда был один, в открытом море, на своей яхте. Я провел на ней такие мучительные часы, каких не пожелаю даже человеку, причинившему мне всех больше зла. Сколько раз мне хотелось броситься в воду. Я этого не сделал. Почему – из-за религиозных убеждений, из любви к родным или потому, что у меня не хватило мужества? Не знаю. А быть может, вы издали привязывали меня к жизни. Меня влекло к вам, – недаром я здесь. Я два дня подстерегаю вас. Мне не хотелось появляться у вас в доме. Я не застал бы вас там одну, не мог бы поговорить с вами. И к тому же вам поневоле пришлось бы меня принять. Я решил, что лучше поговорить с вами на улице. Эта мысль пришла мне тоже на яхте. Я сказал себе: «На улице она выслушает меня, если захочет, как четыре года тому назад, в жуэнвильском парке, помните, под статуями около Короны».
И, тяжело вздохнув, он продолжал:
– Да, как в Жуэнвиле, раз все надо начинать сызнова. Уже два дня я подстерегаю вас. Вчера шел дождь: вы поехали в экипаже. Я мог бы поехать за вами, узнать, куда вы отправились. Мне очень этого хотелось. Я этого не сделал. Я не хочу делать то, что не понравилось бы вам.
Она протянула ему руку.
– Благодарю вас. Я ведь знала, что не пожалею о том доверии, которое питала к вам.
Встревоженная, нетерпеливая, раздраженная, боясь того, что он скажет, она попыталась прервать разговор и ускользнуть.
– Прощайте! Перед вами еще вся жизнь. Вы ведь счастливый. Знайте это и больше не мучайтесь из-за того, что не стоит терзаний.
Но его взгляд остановил ее. Его лицо приняло то резкое и решительное выражение, которое было ей знакомо.
– Я сказал вам, что мне надо поговорить с вами. Выслушайте меня, подождите минуту.
Она думала о Жаке, который уже ждал ее.
Редкие прохожие оглядывали ее и продолжали свои путь. Она остановилась под черными ветвями иудина дерева и стала ждать – с жалостью и страхом в душе.
Он сказал ей:
– Вот что: я прощаю вас и готов все забыть. Вернитесь ко мне. Обещаю никогда ни слова не говорить о том, что было.
Она вздрогнула и невольным движением, с такой непосредственностью выказала и удивление и печаль, что он умолк.
Потом, после недолгого раздумья, проговорил:
– То, что я вам предлагаю, необычно, я это знаю. Но я все обдумал, все принял в расчет. Только это и возможно. Подумайте, Тереза, и не отвечайте мне сразу.
– Было бы дурно обманывать вас. Я не могу, я не хочу делать то, о чем вы говорите, и вы знаете почему.
Мимо медленно проезжал фиакр. Она знаком велела кучеру остановиться. Он удержал ее на мгновение.
– Я предвидел, что вы мне это скажете. И потому-то я вам говорю: не отвечайте мне сразу.
Сев в экипаж, она сразу перестала смотреть на Робера. Этот миг был для него мучителен: он помнил то время, когда в минуту расставания ее чудесные серые глаза все еще продолжали с благодарностью глядеть на него из-под полуопущенных усталых век. Он сдержал рыдание и сдавленным голосом пробормотал:
– Послушайте, я не могу жить без вас, я вас люблю. Теперь-то я вас и люблю. Прежде я этого не знал.
Кучеру она бросила наудачу адрес какой-то модистки, а Ле Мениль пошел прочь легкой и быстрой, на этот раз чуть неровной походкой.
От встречи у нее осталось тревожное чувство и какой-то неприятный осадок. Уж раз суждено было встретиться с ним, она предпочла бы видеть его таким же грубым, каким он был во Флоренции.
На углу улицы она быстро крикнула кучеру:
– Улица Демур в Тернах.
XXXII
Это было в пятницу, в опере. Занавес только что опустился, скрыв лабораторию Фауста. В глубине волнующегося партера зрители наводили бинокли и осматривали красный с золотом зал – необъятное пространство, залитое светом. В темных углублениях лож виднелись женские головки, обнаженные плечи, сверкавшие драгоценностями. Амфитеатр нависал над партером длинной гирляндой из цветов, бриллиантов, причесок, человеческих тел, газа и шелка. В ложах у авансцены можно было увидеть жену австрийского посла и герцогиню Гледвин, в амфитеатре – Берту д'Изиньи и Джен Тюлль, которая вчера стала знаменита благодаря самоубийству ее любовника; в ложах – г-жу Берар дела Малль, с опущенными глазами – длинные ресницы бросали тень на ее нежные щеки, – великолепную княгиню Сенявину – прикрываясь веером, она зевала, как пантера, – г-жу де Морлен, сидевшую между двумя молодыми дамами, в которых она воспитывала изящество ума; г-жу Мейан, с ее неоспоримой тридцатилетней славой всепокоряющей красавицы; чопорную г-жу Бертье д'Эзелль с серо-стальными волосами, усеянными бриллиантами. Ее красное лицо лишь подчеркивало величавую строгость позы. Она привлекала внимание. Утром стало известно, что после того, как провалился план Гарена, г-н Бертье д'Эзелль принял на себя задачу – составить правительство. Это уже почти было сделано. Газеты печатали список, в котором на долю Мартен-Беллема приходились финансы. Но бинокли напрасно поворачивались к ложе графини Мартен; ложа была пуста.
Нескончаемый гул голосов наполнял театр. В третьем ряду партера генерал Ларивьер, стоя у своего кресла, разговаривал с генералом де ла Бришем.
– Скоро я сделаю то же, что и ты, старый товарищ, – поеду в Турень, буду жить на лоне природы.
Он переживал период меланхолии, близость конца наводила его на мысль о небытии. Он заискивал перед Гареном, а Гарен, считая его слишком хитрым, предпочел сделать военным министром не его, а какого-то сумасбродного близорукого артиллерийского генерала. Ларивьер мог по крайней мере наслаждаться неудачей Гарена, покинутого, обманутого своими друзьями – Бертье д'Эзеллем и Мартен-Беллемом. Он смеялся над ним всеми морщинками, окружавшими его маленькие глазки. Одни только морщины и смеялись на его лице. Это как раз было видно в профиль. Устав от долгой жизни, полной притворства, он вдруг позволил себе радостную роскошь – откровенно высказать свою мысль:
– Вот видишь ли, дорогой мой Ла Бриш, осточертели они нам со своей постоянной армией, которая обходится дорого, а никуда не годна. Хороши одни только малые армии. Таково было мнение Наполеона, а он-то знал в этом толк.
– Верно, совершенно верно, – вздохнул генерал де Ла Бриш умиленно, со слезами на глазах.
Монтессюи, направляясь к своему креслу, прошел мимо них; Ларивьер протянул ему руку.
– Говорят, это вы, Монтессюи, провалили Гарена. Поздравляю.
Монтессюи отрицал, что пользуется каким бы то ни было политическим влиянием. Не был он ни сенатор, ни депутат, ни даже генеральный советник на Уазе. Лорнируя зал, он проговорил:
– Смотрите-ка, Ларивьер, там в бенуаре, направо, прехорошенькая брюнетка с гладкой прической.
И он сел на свое место, спокойно вкушая прелесть достигнутой власти.
А между тем в фойе, в коридорах, в зале из уст в уста, среди вялой равнодушной толпы повторялись имена новых министров: председатель совета и министр внутренних дел – Бертье д'Эзелль, юстиции и вероисповеданий – Луайе, финансов – Мартен-Беллем. Все кандидатуры были известны, кроме министров торговли, военного и морского: имена их еще не были указаны.
Занавес поднялся, и стал виден кабачок Бахуса. Исполнялся уже второй хор студентов, когда в ложе появилась графиня Мартен с высокой прической, в белом платье, рукава которого напоминали крылья; в складках корсажа слева на груди сверкала большая рубиновая лилия.
Рядом с нею села мисс Белл в платье Queen Ann [138]138
Здесь: времен королевы Анны (англ.).
[Закрыть]зеленого бархата. После помолвки с князем Эусебио Альбертинелли делла Спина она приехала в Париж заказывать приданое.
Под шум и грохот кермессы мисс Белл говорила:
– Darling, во Флоренции у вас остался друг: он, как очарованный, свято хранит воспоминание о вас. Это профессор Арриги. Для вас он приберег самую прекрасную похвалу: он говорит что вы создание музыкальное. Но как мог бы не вспомнить о вас, darling, профессор Арриги, если вас не забыл даже ракитник в саду? Его отцветшие ветки грустят о вас. О! они тоскуют о вас.
– Скажите им, – ответила Тереза, – что я увезла чудесное воспоминание о Фьезоле и хочу сохранить его на всю жизнь.
В глубине ложи г-н Мартен-Беллем вполголоса излагал свои взгляды Жозефу Шпрингеру и Дювике. Он говорил: «Подпись Франции – первая в мире». И еще: «Погашать долги надо излишками, а не налогами». Он склонен был к осторожности в финансовых делах.
А мисс Белл говорила:
– О darling, я скажу ракитнику во Фьезоле, растущему на склоне холма, что вы тоскуете и скоро приедете его навестить. Да, вот о чем я хотела вас спросить: встречаетесь ли вы в Париже с господином Дешартром? Мне бы очень хотелось увидеть его. Он мне нравится – у него изящная душа. О darling, душа господина Дешартра полна изящества и изысканности.
Тереза ответила, что г-н Дешартр, вероятно, находится в театре и не преминет зайти поздороваться с мисс Белл.
Занавес опустился, скрыв пестрый вихрь вальса. Зрители уже толпились в коридоре: в мгновение ока маленькую аванложу наполнили финансисты, художники, депутаты. Окружив г-на Мартен-Беллема, они бормотали поздравления, жестами приветствовали его через головы других и толкались, чтобы пожать ему руку. Жозеф Шмоль, слепой и глухой, кашляя и охая, проложил себе дорогу сквозь презренную толпу и добрался до г-жи Мартен. Он взял ее руку и, обдав своим дыханием, покрыл звонкими поцелуями.
– Говорят, ваш муж назначен министром. Это правда?
Она слышала об этом, но не думала, что все уже решено.
Впрочем, муж ее здесь. Можно спросить его самого. Он все понимал в буквальном смысле слова и сказал:
– Ах, вот как! Ваш муж еще не министр? Когда он будет назначен, я попрошу вас уделить мне несколько минут для разговора. Дело исключительно важное.
Он умолк, устремляя из-за золотых очков взгляда слепца и мечтателя: несмотря на грубость и определенность его натуры, в нем чувствовалось и нечто мистическое. Он внезапно спросил:
– Вы ездили в этом году в Италию, сударыня?
И, не дав ей времени ответить, продолжал:
– Знаю, знаю. Вы ездили в Рим. Смотрели на арку гнусного Тита [139]139
…на арку гнусного Тита… – На триумфальной арке, воздвигнутой в Риме императору Титу (39–81) после победы над Иудеей, изображены римские солдаты, уносящие из иерусалимского храма священные предметы, в том числе канделябр с семью разветвлениями.
[Закрыть], на это отвратительное сооружение из мрамора, где семисвечник изображен среди добычи, доставшейся от иудеев. Ну, так я вам, сударыня, скажу, что к стыду всего мира этот памятник продолжает еще стоять, да притом в городе Риме, где папы существовали только благодаря искусству евреев – ростовщиков и менял. Евреи принесли в Италию искусство Греции и Востока. Возрождение, сударыня, дело рук Израиля. Это – непризнаваемая и все же бесспорная истина.
И он вышел, проталкиваясь сквозь толпу посетителей, провожаемый треском цилиндров, которые давил по дороге.
Между тем княгиня Сенявина, сидя у себя в ложе, у самого барьера, лорнировала приятельницу с тем особым любопытством, которое порой возбуждала в ней женская красота. Она кивнула Полю Вансу, находившемуся подле нее:
– Не правда ли, госпожа Мартен необычайно хороша в этом году?
В фойе, переливавшем светом и золотом, генерал де Ла Бриш спрашивал Ларивьера:
– Вы видели моего племянника?
– Вашего племянника? Ле Мениля?
– Да, Робера. Он только что был здесь, в театре. Ла Бриш на минуту задумался. Потом проговорил:
– Этим летом он приезжал в Семанвиль. Он показался мне каким-то странным, был погружен в свои мысли. Симпатичный малый, притом на редкость прямодушный и умный. Но ему необходимо занятие, цель в жизни.
Звонок, возвещавший конец антракта, только что умолк. Два старца шли по опустевшему фойе.
– Да, цель в жизни, – повторял Ла Бриш, высокий, худой, согбенный, а его собеседник тем временем, весело и легко ускользнув от него, поспешил за кулисы.
Маргарита в саду пряла и пела. Когда она окончила арию, мисс Белл сказала г-же Мартен:
– Ах, darling, господин Шулетт прислал мне изумительно прекрасное письмо. Он пишет, что стал знаменитостью. И я так обрадовалась. Он написал мне еще: «Слава других поэтов окружена ароматом мирры и иных благовоний. Моя же слава истекает кровью и стонет под градом камней и устричных раковин». Неужели правда, my love, что французы побивают каменьями милого господина Шулетта?
И пока Тереза успокаивала мисс Белл, Луайе, властный и несколько шумливый, велел отпереть дверь ложи.
– Я прямо из Елисейского дворца.
Он оказался так галантен, что г-жа Мартен первая узнала от него эту новость.
– Указы подписаны. Ваш муж получил финансы. Хорошее министерство.
– А президент республики, – спросил г-н Мартен-Беллем, – не возражал, когда ему назвали мое имя?
– Нет. Бертье указал президенту на наследственную честность Мартенов, на ваше имущественное положение, и главное – на связи, соединяющие вас с некоторыми деятелями финансового мира, чье содействие может быть полезно правительству. И президент, если пользоваться удачным выражением Гарена, поступил так, как подсказали ему требования момента. Он подписал.
На желтом лице графа Мартена появились и исчезли две-три морщинки. Он улыбался.
– Указ, – продолжал Луайе, – появится завтра в «Офисьель». Я сам в фиакре проводил чиновника, отвозившего его в типографию. Так оно надежнее. Во времена Греви, который все-таки не был тупицей, указы перехватывались по пути от Елисейского дворца к набережной Вольтера [140]140
…от Елисейского дворца к набережной Вольтера. – Елисейский дворец – с 1873 г. резиденция президента республики; на набережной Вольтера в Люксембургском дворце помещается сенат.
[Закрыть].
И Луайе опустился на стул. Глядя на плечи г-жи Мартен и вдыхая их аромат, он заметил:
– Теперь уж не будут говорить, как говорили во времена моего покойного друга Гамбетты [141]141
Гамбетта Леон (1838–1882) – лидер буржуазных республиканцев, председатель палаты депутатов (1879–1881) и премьер-министр (ноябрь 1881 г. – январь 1882 г.).
[Закрыть], что республике недостает дам. Благодаря вам, сударыня, нас теперь ждут блистательные празднества в залах министерства.
Маргарита, надев ожерелье и серьги, глядела в зеркало и пела арию с драгоценностями.
– Надо будет, – сказал граф Мартен, – составить декларацию. Я думал об этом. Что до моего ведомства, то я, кажется, нашел формулу: «Погашать долги излишками, а не налогами».
Луайе пожал плечами:
– Мой дорогой Мартен, ничего существенного нам не приходится менять в декларации предыдущего кабинета; положение явно осталось тем же.
Он ударил себя по лбу.
– Черт возьми! я и забыл. Военное министерство мы дали вашему другу старику Ларивьеру, не спросив его. Мне поручено его известить.
Он рассчитывал найти его в кафе на бульваре, которое посещают военные. Но графу Мартену было известно, что генерал в театре.
– Надо его поймать, – сказал Луайе.
И с поклоном спросил:
– Вы мне позволите, графиня, увести вашего мужа?
Не успели они удалиться, как в ложу вошли Жак Дешартр и Поль Ванс.
– Поздравляю вас, сударыня, – сказал Поль Ванс.
Но она обернулась к Дешартру:
– Надеюсь, что хоть вы-то не собираетесь меня поздравлять…
Поль Ванс спросил ее, думает ли она переезжать в квартиру в здании министерства.
– Нет, нет! Ни за что!
– Но вы, сударыня, – продолжал Поль Ванс, – по крайней мере будете ездить на балы в Елисейский дворец и в министерства, а мы будем восхищаться искусством, с каким вы и впредь сохраните ваши таинственные чары: вы останетесь той, о которой мечтаешь.
– Перемена кабинета вызывает у вас, господин Ванс, мысли весьма игривые, – заметила г-жа Мартен.
– Я не скажу, сударыня, как говорил мой дорогой учитель Ренан: «Какое до этого дело Сириусу?» – продолжал Поль Ванс, – ибо мне с полным основанием ответят: «Какое дело маленькой Земле до огромного Сириуса?» Но меня всегда немного удивляет, что люди взрослые и даже старые поддаются иллюзии власти, как будто голод, любовь и смерть, все эти низкие или великие неизбежности жизни, не имеют над человеческой толпой слишком большого могущества, чтобы еще оставлять сильным мира что-нибудь иное, кроме господства на бумаге и власти на словах. А еще удивительнее, что народы верят, будто у них есть другие правители и министры, кроме их собственных невзгод, желаний и глупости. Мудр был тот, кто сказал: «В свидетели и в судьи дайте людям Иронию и Сострадание» [142]142
В свидетели и в судьи дайте людям Иронию и Сострадание. – Ванс почти дословно цитирует слова А. Франса, высказанные им на страницах «Temps» и перепечатанные затем в «Саде Эпикура». Самая мысль об иронии и сострадании принадлежит Ренану (предисловие к «Философским драмам», 1888). Предыдущие слова Поля Ванса о власти голода, любви и смерти также воспроизводят рассуждения самого Франса в «Литературной жизни» и «Саде Эпикура».
[Закрыть].
– Но позвольте, господин Ванс, – рассмеялась г-жа Мартен, – ведь это написали вы. Я же вас читаю.
Тем временем оба министра тщетно разыскивали генерала в зрительном зале и в коридорах. По совету капельдинерш они проникли за кулисы и, пройдя мимо подымавшихся и опускавшихся декораций, пробравшись сквозь толпу молодых немок в красных юбках, ведьм, бесов, античных куртизанок, попали в фойе балета. Просторная зала, украшенная аллегорической росписью, почти безлюдная, имела торжественно важный вид, какой придают своим учреждениям государство и богатство.
В фойе неподвижно стояли две танцовщицы, подняв ногу на барьер, который тянется вдоль стен. Там и тут видны были почти безмолвные группы мужчин в черных фраках и женщин в коротких и пышных юбочках.
Луайе и Мартен-Беллем, войдя, сняли цилиндры. В глубине залы они приметили Ларивьера, беседующего с красивой девицей, одетой в розовую тунику с золотым поясом и с разрезами на бедрах, обтянутых трико.
В руке она держала кубок из золоченого картона. Подойдя ближе, они услышали, как она говорила генералу:
– Вы старый, но я уверена, что вы уж во всяком случае не уступите ему.
И она презрительным жестом обнаженной руки указала на молодого человека с гарденией в петлице, который ухмылялся, стоя рядом.
Луайе знаком дал понять генералу, что хочет с ним поговорить, подвел его к барьеру и сказал:
– Я имею удовольствие сообщить вам, что вы назначены военным министром.
Ларивьер, насторожившись, ничего не ответил. Этот плохо одетый человек с длинными волосами, в пыльном, мешковатом фраке, походивший скорее на балаганного фокусника, внушал генералу так мало доверия, что тот даже заподозрил – не ловушка ли это, или, чего доброго, скверная шутка.
– Господин Луайе, министр юстиции. – представил его граф Мартен.
Луайе настаивал:
– Генерал, вам никак нельзя уклониться. Я поручился за ваше согласие. Ваш отказ может способствовать возвращению Гарена, а он теперь еще более агрессивен. Он предатель.
– Ну, дорогой коллега, вы преувеличиваете, – сказал граф Мартен, – Гарену, пожалуй, несколько недостает прямоты. Однако согласие генерала совершенно необходимо.
– Родина прежде всего, – пробормотал взволнованный Ларивьер.
– Вы помните, генерал, – проговорил Луайе, – существующие законы должны применяться с неуклонной умеренностью. Не отступайте от нее.
Глазами он следил за двумя танцовщицами, которые вытягивали на барьере свои мускулистые ноги.
Ларивьер бормотал:
– Моральное состояние армии превосходное… Служебное рвение начальников всегда соответствует самым критическим обстоятельствам…
Луайе похлопал его по плечу:
– Большие армии, дорогой коллега, имеют свои достоинства.
– Вполне с вами согласен, – отвечал Ларивьер, – наша теперешняя армия отвечает высшим потребностям национальной обороны.
– Большие армии хороши тем, – продолжал Луайе, – что они делают войну невозможной. Надо быть сумасшедшим, чтобы вовлечь в войну все эти необъятные силы; управление ими требовало бы сверхчеловеческих способностей. Ведь вы такого же мнения, генерал?
Генерал Ларивьер подмигнул.
– Настоящее положение, – сказал он, – требует большой осмотрительности. Перед нами опасная неизвестность.
Тут Луайе спокойно-презрительно поглядел на своего военного коллегу:
– А не думаете ли вы, мой дорогой коллега, что если паче чаяния вспыхнет война, настоящими генералами окажутся начальники станций?
Три министра спустились по служебной лестнице. Председатель совета ждал их у себя.
Начинался последний акт; в ложе г-жи Мартен оставались теперь только Дешартр и мисс Белл.
Мисс Белл говорила:
– Я радуюсь, darling, – как это у вас говорится по-французски? – я восторгаюсь при мысли, что вы носите на сердце флорентинскую красную лилию. И господин Дешартр, у которого душа художника, тоже должен быть доволен, что видит на вашем корсаже эту прелестную драгоценность. О! мне хочется знать, darling, какой ювелир делал ее. Эта лилия – стройная и гибкая, как цветок ириса. О! она изящна, великолепна и жестока. Замечали вы, my love, что в драгоценностях есть черты какой-то великолепной жестокости?
– Мой ювелир здесь, и вы уже назвали его, – сказала Тереза, – господин Дешартр был так любезен, что сделал рисунок этой лилии.
Дверь ложи отворилась. Тереза слегка повернула голову и в полумраке увидела Ле Мениля. Он поклонился ей:
– Прошу вас, графиня, передайте вашему супругу мои поздравления.
Он суховато сказал, что она прекрасно выглядит. Для мисс Белл у него нашлось несколько любезных и подобающих случаю слов.
Тереза в тревоге слушала его, полуоткрыв рот, делая над собой мучительное усилие, чтобы ответить что-то незначительное. Он спросил, хорошо ли она провела лето в Жуэнвиле. Ему хотелось приехать туда на охоту. Но он не смог. Он плавал по Средиземному морю, потом охотился в Семанвилле.
– О, господин Ле Мениль, – воскликнула мисс Белл, – вы скитались по голубому морю. Видали ли вы сирен?
Нет, сирен он не встречал, но в течение целых трех дней поблизости от его яхты плыл дельфин.
Мисс Белл спросила, нравилась ли этому дельфину музыка.
Ле Мениль не думал, чтобы нравилась.
– Дельфины – это просто-напросто маленькие кашалоты, – сказал он, – моряки называют их морскими гусями, потому что в форме головы у них есть известное сходство с гусем.
Но мисс Белл не допускала, чтобы у чудовища, которое унесло поэта Ариона на мыс Тенар [143]143
…чудовища, которое унесло поэта Ариона на мыс Тенар… – Арион – древнегреческий поэт VII–VI вв. до н. э. По преданию, был брошен в море пиратами, но спасен дельфином, зачарованным его пением и перенесшим его на своей спине к мысу Тенар.
[Закрыть], могла быть гусиная голова.
– Господин Ле Мениль, если в будущем году дельфин снова проплывет вблизи вашего корабля, пожалуйста, сыграйте для него на флейте гимн Аполлону Дельфийскому. Вы любите море, господин Ле Мениль?
– Я предпочитаю лес.
Овладев собой, он говорил спокойно и просто.
– Ах! господин Ле Мениль, я знаю, вы очень любите леса и поляны, где зайчики пляшут при лунном свете.
Дешартр, побледнев, встал и вышел из ложи.
Шла сцена в церкви. Маргарита, стоя на коленях, в отчаянии ломала руки, голова ее с тяжелыми белокурыми косами откинулась назад. И хор загремел вместе с органом, зазвучал заупокойный гимн:
– Ах, darling, известно ли вам, что этот заупокойный гимн, который поется в католических церквах, возник во францисканском монастыре? В нем еще слышится шум ветра, что свистит зимой среди ветвей лиственниц в горах Оверни.
Тереза не слушала. Душа ее улетела в узенькую дверь ложи.
В аванложе раздался шум – падали кресла. Это вернулся Шмоль. Он узнал, что г-н Мартен-Беллем назначен министром. Тотчас же он стал требовать, чтобы ему дали командорский крест и более просторную квартиру в здании Академии. Ведь та, которую он занимает сейчас, – темная, тесная, слишком маленькая для его жены и пяти дочерей. Свой кабинет ему пришлось устроить в каком-то чулане. Он долго и тягуче жаловался и решился уйти лишь после того, как г-жа Мартен обещала, что замолвит за него слово.
– Господин Ле Мениль, – спросила мисс Белл, – будете ли вы плавать и в будущем году?
Ле Мениль думал, что не будет. Он не намерен сохранять «Розбад». На море грустно.
И, спокойный, решительный, упрямый, он посмотрел на Терезу.
На сцене, в тюрьме у Маргариты, Мефистофель пел: «День наступает», и оркестр воспроизводил жуткий конский скок. Тереза прошептала:
– У меня голова болит, здесь душно.
Ле Мениль приотворил дверь.
Звонкая музыкальная фраза Маргариты, призывающей ангелов, белыми искрами рассыпалась в воздухе.
– Darling, вот что я вам скажу: эта бедная Маргарита не хочет спасать свою плоть и потому-то спасена ее душа живая. В одно я верю, darling, – я твердо верю, что все мы будем спасены. О да, я верю в конечное очищение от всех грехов.
Тереза встала, высокая и белая, с кровавым цветком на груди. Мисс Белл сидела неподвижно и слушала музыку. В аванложе Ле Мениль взял манто г-жи Мартен. Он держал его наготове, а она вышла из ложи и остановилась у зеркала возле приотворенной двери. Он набросил на ее обнаженные плечи, чуть коснувшись их пальцами, расшитое золотом, подбитое горностаем красное бархатное манто, и совсем тихо, отрывисто, но очень отчетливо, сказал:
– Тереза, я вас люблю. Вспомните, о чем я просил вас третьего дня. Каждый день, каждый день с трех часов я буду ждать у нас, на улице Спонтини.
В эту минуту, оправляя на себе манто, она сделала легкое движение головой и увидела Дешартра, который держался за ручку двери. Он слышал. Он посмотрел на нее с такой укоризной и такой скорбью, какую только в силах выразить человеческие глаза. Потом он исчез в коридоре. Она почувствовала, как огненные молоточки застучали у нее в груди, и застыла на пороге двери.
– Ты меня ждала? – сказал Монтессюи, зайдя за ней. – Тебя все покинули сегодня. Я отвезу вас обеих – тебя и мисс Белл.








