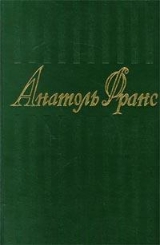
Текст книги "Красная лилия"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
XXXIII
И в карете и у себя в спальне Тереза все время видела взгляд друга, его жестокий и скорбный взгляд. Она знала, как легко он поддается отчаянию, как быстро утрачивает волю к желаниям. Так он убегал от нее на берегу Арно. Тогда она, счастливая, – несмотря на всю печаль и тревогу, – могла броситься за ним, крикнуть ему: «Вернись!» Да и теперь, хоть ее окружали люди, хоть за ней следили, она должна была бы что-то сделать, сказать, не дать ему уйти в безмолвии и горе. Она была ошеломлена, удручена. Все произошло так нелепо и так быстро. Ле Мениль был для нее слишком чужим, чтобы возбуждать ее гнев, да она и не хотела думать о нем. Она горько упрекала лишь себя самое – зачем она дала уйти своему другу, не проводив его ни словом, ни взглядом, в который могла бы вложить всю свою душу.
Полина ждала, чтобы помочь ей раздеться, а она в волнении ходила взад и вперед по комнате. Потом внезапно остановилась. В сумрачных зеркалах, где тонули отблески свечей, она видела коридор театра и своего друга, безвозвратно уходящего от нее.
Где он теперь? О чем он думает там, один? Для нее было пыткой, что она не может сию же минуту бежать к нему, увидеться с ним.
Она долго прижимала руки к груди – она задыхалась.
Вдруг Полина вскрикнула: на белом корсаже своей госпожи она увидела капельки крови. Сама того не заметив, Тереза уколола себе руку о лепестки красной лилии.
Она сняла эту символическую драгоценность, которую носила на глазах у всех, как кричащую тайну своего сердца и, держа ее в руке, еще долго смотрела на нее. И ей вспомнились дни во Флоренции, келья в монастыре св. Марка, где друг нежно поцеловал ее в губы, а она сквозь полуопущенные ресницы смутно видела ангелов и голубое небо на фреске; ей вспомнились статуи Ланци и сверкающее сооружение мороженщика на красной ситцевой скатерти, флигель на Виа Альфьери с его нимфами и козами на фронтоне и комната, где пастухи и маски на ширмах слушали, как она вскрикивает или как подолгу хранит молчание.
Нет, все это не были видения прошлого, призраки минувших часов. Это было живое настоящее ее любви. И что же – слово, бессмысленно брошенное каким-то чужим человеком, разрушит все это очарование? К счастью, это невозможно. Ее любовь, ее возлюбленный не могут зависеть от таких пустяков. Если бы только она могла броситься к нему сейчас же, вот так, полураздетая, среди ночи, могла бы войти к нему в комнату… Она увидела бы, как он сидит перед камином печальный, опустив голову на руки. Тогда, коснувшись пальцами его волос, она заставила бы его поднять голову, убедиться, что она любит его, что она его собственность, его живое сокровище, исполненное радости и любви.
Она отослала горничную. Лежа в постели, не погасив лампы, она возвращалась все к одной и той же мысли.
Это была случайность, нелепая случайность. Он же поймет, что их любви нет никакого дела до этой глупости. Что за безумие! Ему – беспокоиться из-за какого-то другого человека! Как будто на свете есть другие люди!
Господин Мартен-Беллем приотворил дверь спальни. Увидев свет, он вошел.
– Вы еще не спите, Тереза?
Он только что приехал от Бертье д'Эзелля, где совещался с коллегами. О некоторых делах он хотел посоветоваться с женой, которую считал женщиной умной. А главное – он испытывал потребность услышать искреннее слово.
– Дело сделано, – сказал он. – Вы, дорогой мой друг, надеюсь, поможете мне в моем положении, весьма лестном, но очень трудном и даже опасном, положении, которым я отчасти обязан вам, поскольку достиг я его прежде всего благодаря могущественному влиянию вашего отца.
Он посоветовался с ней о выборе начальника канцелярии.
Она старалась помочь ему по мере сил. Она видела, что он рассудителен, спокоен и не глупее других.
Он предался размышлениям.
– Бюджет мне придется отстаивать перед сенатом в том виде, как его утвердила палата. В этом бюджете есть новшества, которых я не одобрял. Как депутат, я восставал против них, а как министр, буду их поддерживать. Раньше я на все это глядел со стороны. А когда присмотришься, картина меняется. И к тому же я не свободен.
Он вздохнул:
– Ах! если бы знали, как мало мы можем сделать, когда становимся у властн.
Он поделился с ней своими впечатлениями. Бертье не высказывается. Прочие остаются непроницаемыми. Один только Луайе проявляет себя крайне твердым человеком.
Она слушала его без всякого внимания, но и без нетерпения. Его лицо и бесцветный голос, точно часы, отмечали для нее минуты, которые медленно текли одна за другой.
– Луайе позволяет себе странные выходки. Он заявил себя безусловным сторонником Конкордата [145]145
…сторонником Конкордата… – то есть сторонником соглашения между государством и церковью (намек на сближение правых республиканцев с клерикальными кругами в начале 1890-х годов).
[Закрыть]и сказал: «Епископы – это духовные префекты. Я буду им покровительствовать, раз они мне подведомственны. А через них я буду держать в руках сельских духовных стражей – священников».
Муж напомнил Терезе, что теперь ей придется бывать в обществе, которое ей чуждо и пошлость которого ее будет, наверно, коробить. Но их положение требует, чтобы они никем не пренебрегали. Впрочем, он рассчитывает на ее такт и самоотверженность. Она растерянно посмотрела на него.
– Зачем спешить, друг мой. Там видно будет.
Он был утомлен, просто изнемогал. Ей он пожелал спокойной ночи, посоветовал скорей уснуть. Она расстроит себе здоровье, если будет читать целые ночи напролет. Он ушел.
Она прислушивалась к его шагам, несколько более тяжелым, чем обычно, пока он проходил через свои кабинет, заваленный синими папками и газетами, в спальню, где ему, может быть, удастся уснуть. Потом она почувствовала гнет ночного безмолвия, взглянула на часы. Было половина второго.
И она подумала: «Он тоже страдает, тоже… Он посмотрел на меня с таким отчаянием и такой злобой!»
Она сохраняла все свое мужество, всю свою готовность действовать. Ее раздражало, что она здесь – точно узница, заключенная в одиночную камеру. Когда настанет утро и вернет ей свободу, она поедет к нему, увидит его, все ему объяснит. Это же так ясно! Среди мучительного однообразия своих мыслей она слушала грохот телег, которые через долгие промежутки времени проезжали по набережной. Этот шум скрашивал ей ожидание, занимал ее, почти интересовал. Она прислушивалась к звукам, сперва слабым и отдаленным, потом нараставшим, так что можно было различить стук колес, скрип осей, удары подков о мостовую, и постепенно затихавшим, переходившим в еле уловимый рокот.
А когда водворялась тишина, она опять отдавалась все той же мысли.
Он поймет, что она его любит, что она никогда никого другого не любила. Вся беда в том, что ночь течет так медленно. Она не решалась посмотреть на часы, – из страха убедиться в тягостной неподвижности времени.
Она встала, подошла к окну и приподняла штору. По облачному небу разлито было бледное мерцание. Она подумала, что уже занимается день, и взглянула на часы. Было половина четвертого.
Она вернулась к окну. Темная беспредельность там, иа улице, притягивала ее. Она стала смотреть. Тротуар блестел в свете газовых фонарей. С тусклого неба падал незримый и бесшумный дождь. Вдруг среди тишины раздался голос, сперва пронзительный, потом более низкий и прерывистый; в нем словно сливалось несколько отвечавших друг другу голосов. Это пьяница брел по тротуару, натыкаясь на деревья, и вел долгий спор с созданиями своей фантазии, которым великодушно предоставлял слово, а потом набрасывался на них с резкими упреками, при этом сильно жестикулируя. Тереза видела, как белая блуза этого бедняги мелькает вдоль парапета, точно тряпка, развеваемая ночным ветром, и время от времени до нее доносились слова, которые он твердил без конца: «Вот что я скажу правительству!»
Продрогнув, она опять легла в постель. Ее одолела новая тревога. «Он ревнив, он до безумия ревнив. Тут замешаны нервы, темперамент. Но и в любви его тоже замешаны нервы и темперамент. Любовь его и ревность – это одно и то же. Другой все понял бы. Достаточно было бы успокоить его самолюбие». Но у него ревность сочетается с какой-то страшной чувственностью. Она знает, что ревность для него – физическая пытка, незаживающая рана, которую еще растравляет воображение. Она знает, как глубоко коренится недуг. Она же видела, как он побледнел перед бронзовой статуей св. Марка, когда она опустила письмо в почтовый ящик на стене старинного флорентинского дома, а ведь он в то время обладал ею лишь в своих желаниях и мечтах.
Она вспоминала его глухие жалобы, внезапные приступы грусти, охватывавшей его потом, после долгих поцелуев, и мучительную загадку слов, которые он все время повторял: «Чтобы забыть тебя, я должен забыться в тебе». Она вспоминала письмо, присланное в Динар, и яростное отчаяние, в которое его повергла фраза, услышанная за ресторанным столиком. Она чувствовала, что удар пришелся по самому болезненному месту – в кровоточащую рану. Но она не теряла мужества. Она все ему скажет, во всем признается, и все ее признания будут одним воплем: «Я люблю тебя, я никогда никого не любила, кроме тебя!» Она ему не изменяла. Она не скажет ему ничего такого, о чем бы он уже не догадывался. Она лгала так мало, так мало, как только могла, и лишь для того, чтобы его не огорчать. Неужели он не поймет этого? И лучше ему знать все, раз это все – сущее ничто. Она без конца возвращалась все к тем же мыслям, повторяла все те же слова. Лампа бросала теперь лишь тусклый свет. Тереза зажгла свечи. Было половина седьмого. Тут она поняла, что вздремнула. Она подбежала к окну. Небо было черное и сливалось с землей в хаосе густого мрака. Теперь ей захотелось узнать точно, в котором часу встанет солнце. Она не имела ни малейшего понятия об этом. Она только знала, что в декабре очень долгие ночи. Она попыталась вспомнить, но это ей не удалось. Она не сообразила заглянуть в календарь, забытый на столе. Тяжелые шаги рабочих, проходивших целыми партиями, шум от проезжавших мимо тележек с молоком и зеленью донеслись до ее слуха, как доброе предзнаменование. Она вздрогнула, ощутив пробуждение города.
XXXIV
Было девять часов утра, когда во дворе маленького дома в Тернах она увидела г-на Фюзелье: несмотря на дождь, с трубкой в зубах, он подметал дорожку. Из своей комнаты вышла г-жа Фюзелье. У обоих вид был смущенный. Первой заговорила г-жа Фюзелье.
– Господина Жака нет дома.
А так как Тереза не говорила ни слова и продолжала стоять неподвижно, Фюзелье, не выпуская метлы и пряча за спиной левую руку с трубкой, подошел к ней и сказал:
– Господин Жак еще не возвращался.
– Я его подожду, – сказала Тереза.
Госпожа Фюзелье провела ее в гостиную и затопила камин. Дрова не загорались и дымили, и она, положив руки на бедра, наклонилась к огню.
– Это из-за дождя не тянет, – сказала она.
Госпожа Мартен пробормотала, что не стоит растапливать камин, что ей не холодно.
Она увидела себя в зеркале.
Она была мертвенно-бледна, а на щеках горели красные пятна. Тут только она почувствовала, что ноги у нее озябли. Она подошла к камину. Г-жа Фюзелье, видя ее тревогу, постаралась сказать что-нибудь приветливое:
– Господин Жак скоро придет. Вам бы тем временем обогреться.
Сквозь стеклянную крышу, залитую дождем, проникал унылый свет. На стене дама с единорогом, застыв в напряженной позе, вся как-то поблекнув, уже не казалась прекрасной среди окружающих ее кавалеров, в лесу, полном цветов и птиц. Тереза повторяла про себя: «Не возвращался». И повторяла эти слова столько раз, что перестала их понимать. Горящими глазами она смотрела на дверь.
Так сидела она без мысли, без движения, сама не зная, сколько времени, – может быть, полчаса. Раздались шаги, отворилась дверь. Он вошел. Она увидела, что он весь промок, весь в грязи, что он пылает в лихорадке.
Она остановила на нем взгляд, полный такой искренности, такой прямоты, что он был поражен. Но почти тотчас же он вновь разбередил в себе боль.
Он сказал:
– Чего вам еще нужно от меня? Вы мне сделали все зло, какое только могли сделать.
От усталости он казался каким-то кротким. Это испугало ее.
– Жак, выслушайте меня…
Он сделал жест, означавший, что слушать ему нечего.
– Жак, выслушайте меня. Я вам не изменяла. Нет, нет, я вам не изменяла. Разве могло это быть? Разве…
Он прервал ее:
– Пожалейте меня. Не мучьте меня больше. Оставьте меня, умоляю вас. Если бы вы знали, какую ночь я провел, у вас не хватило бы духа снова терзать меня.
Он тяжело опустился на тот самый диван, где полгода тому назад целовал ее через вуалетку.
Он бродил всю ночь, шагал куда глаза глядят, прошел вверх по Сене вплоть до того места, где ее окаймляют уже только ивы и тополя. Чтобы меньше страдать, он придумывал себе развлечения. На набережной Берси он смотрел, как луна мчится меж облаков. Он целый час глядел, как она то заволакивается, то показывается вновь. Потом он с крайней тщательностью стал считать окна в домах. Начался дождь. Он пошел на Крытый рынок, выпил водки в каком-то кабаке. Толстая косая девка сказала ему: «Тебе, видать, не весело». Он задремал на скамейке, обитой кожей. То была хорошая минута.
Образы этой мучительной ночи вставали перед его глазами. Он сказал:
– Мне вспомнилась ночь на Арно. Вы отравили мне всю радость, всю красоту мира.
Он умолял оставить его. Он так устал, что испытывал острую жалость к самому себе. Он хотел бы уснуть; не умереть, – смерть страшила его, – а уснуть и никогда больше не просыпаться. Между тем он видел Терезу перед собой, такую желанную, такую же очаровательную, как прежде, несмотря на потускневший цвет лица и мучительную напряженность сухих глаз. И к тому же – теперь еще и загадочную, еще более таинственную, чем когда бы то ни было. Он видел ее. Ненависть возрождалась в нем вместе со страданием. Недобрым взглядом искал он на ней следы ласк, которых она еще не дождалась от него.
Она протянула к нему руки:
– Выслушайте меня, Жак.
Он сделал жест, означавший, что говорить бесполезно. Все же ему хотелось выслушать ее, и вот он уже жадно слушал. Он ненавидел и заранее отвергал то, что она собиралась сказать, но одно только это и занимало его сейчас в целом мире. Она сказала:
– Вы могли поверить, что я вам изменяю, что я живу не в вас, что я живу не вами? Значит, вы ничего не понимаете? Значит, вы не соображаете, что если бы этот человек был моим любовником, ему незачем было бы говорить со мной в театре, в ложе; он нашел бы тысячи других способов, чтоб назначить мне свидание. Ах нет, мой друг, уверяю вас, что с тех пор, как мне дано счастье, – даже и сейчас я, измученная, готовая отчаяться, говорю: счастье – счастье знать вас, я принадлежала только вам. Разве бы я могла принадлежать другому? То, что вам вообразилось, – ведь это же чудовищно. Я тебя люблю, я тебя люблю. Я люблю тебя одного. Я только тебя и любила.
Он ответил медленно, произнося слова с жестокой отчетливостью:
– «Я каждый день с трех часов буду у нас на улице Спонтини». Это вам говорил не любовник, не ваш любовник? Нет? Это был чужой, это был незнакомец?
Она выпрямилась и страдальчески торжественно сказала:
– Да, когда-то я принадлежала ему. Вы же это знали. Я отрицала это, я лгала, чтобы не огорчать вас, чтобы вас не раздражать. А я видела, что вы встревожены, мрачны. Но лгала я так мало и лгала так неудачно! Ты же это знал. Не упрекай меня. Ты ведь знал, знал об этом, ты часто заговаривал со мной о прошлом, а потом тебе сказали в ресторане… И ты вообразил больше, чем было на самом деле. Я, когда лгала, не обманывала тебя. Если бы ты знал, как мало это значило в моей жизни. Я не знала тебя – вот в чем вся причина. Я не знала, что ты появишься. Я томилась.
Она бросилась на колени.
– Я виновата. Надо было ждать тебя. Но если бы ты знал, до какой степени все это перестало существовать, да и не существовало никогда!
И в голосе ее прозвучала нежная певучая жалоба:
– Отчего ты не пришел раньше? Отчего?
Не поднимаясь с пола, она тянулась к нему, она хотела схватить его руки, обнять колени.
Он ее оттолкнул:
– Я был глуп. Я не верил, не знал. Не хотел знать.
Он поднялся и в порыве ненависти крикнул:
– Я не хотел, я не хотел, чтобы это был он!
Она села на место, с которого он только что встал, и жалобным, тихим голосом заговорила о прошлом. Ведь она была тогда так одинока в свете, а свет ужасающе пошл. Все случилось само собой, она просто уступила. Но тотчас же стала раскаиваться. О! если бы он знал, как тускла и уныла была ее жизнь, он не стал бы ревновать, он пожалел бы ее.
Она тряхнула головой и поглядела на него сквозь распустившиеся пряди волос:
– Да ведь я с тобой говорю о совсем другой женщине. С этой женщиной у меня нет ничего общего. А я – я существую лишь с тех пор, как узнала тебя, с тех пор, как стала твоей.
Он неистово скорыми шагами, такими, какими недавно шел по берегу Сены, принялся расхаживать по комнате. И вдруг разразился смехом, полным муки:
– Да, хорошо, но пока ты меня любила, что делала та, другая женщина, не ты?
Она с негодованием взглянула на него.
– Ты мог подумать…
– Вы не встречались с ним во Флоренции, не провожали его на вокзал?
Она рассказала ему, зачем он приезжал к ней в Италию, как она виделась с ним, как с ним порвала, как он уехал в гневе на нее и как с тех пор стремится вернуть себе ее любовь, а она даже не обратила на него внимания.
– Друг мой, я во всем мире не вижу, не знаю никого, кроме тебя.
Он покачал головой:
– Я тебе не верю.
Она возмутилась:
– Я вам все сказала. Обвиняйте меня, осуждайте, но не оскорбляйте мою любовь к вам. Это я вам запрещаю.
Он левой рукой закрыл себе глаза.
– Оставьте меня. Вы сделали мне слишком много зла. Я так вас любил, что принял бы все страдания, которые вы могли бы мне причинить, берег бы их, любил бы их; но эта боль отвратительна. Я ее ненавижу. Оставьте меня, мне слишком тяжко. Прощайте.
Она. стояла прямо, ее маленькие ножки словно приросли к ковру.
– Я пришла к вам. Я отстаиваю свое счастье, свою жизнь. Я упрямая, вы это знаете. Я не уйду.
И она повторила все, что уже говорила ему. Искренне и страстно, не сомневаясь в себе, она рассказала, как порвала связь, и без того непрочную и уже начинавшую ее раздражать, как с того дня, в который она отдалась ему в домике на Виа Альфьери, она принадлежала только ему, ни о чем, конечно, не сожалея, ни о ком не думая, ни на кого другого не глядя. Но одним упоминанием о другом она уже сердила его. И он кричал:
– Я вам не верю!
Тогда она опять начала говорить то, что уже говорила.
И вдруг невольно взглянула на часы:
– Боже мой! Двенадцать!
Сколько раз у нее вырывалось зто тревожное восклицание, когда неожиданно подкрадывалось время расстаться. И Жак вздрогнул: услышав эти привычные слова, на этот раз такие скорбные и безнадежные. Еще несколько минут она что-то говорила – горячо, со слезами. Потом ей все-таки пришлось уйти; она ничего не достигла.
Дома, в передней, она увидела рыночных торговок, которые дожидались ее, чтобы поднести ей букет. Она вспомнила, что ее муж – министр. Лежали уже целые груды телеграмм, визитных карточек и писем, поздравлений, просьб. Г-жа Марме просила рекомендовать ее племянника генералу Ларивьеру.
Она вышла в столовую и в изнеможении опустилась на стул. Г-н Мартен-Беллем кончал завтракать. Его в одно и то же время ждали и в совете министров и у бывшего министра финансов, которому он должен был сделать визит. Низкопоклонство осторожных чиновников уже успело польстить ему, обеспокоить его, утомить. Он сказал:
– Не забудьте, дорогая, съездить к госпоже Бертье д'Эзелль. Вы знаете, что она щепетильна.
Тереза не ответила. Окуная свои желтые пальцы в хрустальный сосуд с водой, он вдруг поднял голову и увидел ее, такую усталую и расстроенную, что больше ничего не решился сказать.
Он столкнулся с какой-то тайной, которую не желал узнать, с сердечным горем, которое от одного слова могло прорваться. Он почувствовал беспокойство, страх и как бы уважение.
Он бросил салфетку на стол:
– Вы меня извините, дорогая.
И вышел.
Она пробовала поесть, но ничего не могла проглотить. Все вызывало в ней непреодолимое отвращение.
Около двух часов она вернулась в домик в Тернах. Жака она застала в спальне. Он курил деревянную трубку. На столе стояла чашка кофе, почти уже допитая. Во взгляде, которым он посмотрел на нее, была такая жестокость, что она вся похолодела. Она не решалась заговорить, чувствуя, что все, сказанное ею, только оскорбит и раздражит его и что, даже храня смиренное молчание, она разжигает его гнев. Он знал, что она вернется, ждал с нетерпением ненависти, с такой же тревогой в сердце, с какою ждал ее во флигеле на Виа Альфьери. Она вдруг поняла, что сделала ошибку, придя к нему; что, не видя ее, он бы стремился к ней, желал ее, может быть, позвал бы. Но было слишком поздно, да, впрочем, она и не пыталась действовать с расчетом.
Она ему сказала:
– Вот видите. Я вернулась, я не могла иначе. Да это ведь и естественно, раз я тебя люблю. И ты это знаешь.
Она уже чувствовала, что все сказанное ею будет только раздражать его. Он спросил, говорит ли она то же самое на улице Спонтини.
Она с глубокой печалью посмотрела на него:
– Жак, вы не раз говорили мне, что есть в вас и затаенная злоба и ненависть ко мне. Вы любите мучить меня. Я это вижу.
Она с упорным терпением опять подробно рассказала ему всю свою жизнь, которая раньше так мало значила для нее, рассказала о том, как уныло было ее прошлое и как, отдавшись ему, она с тех пор жила только им, только в нем.
Слова текли прозрачно ясные, как ее взгляд. Она села рядом с ним. Порою она касалась его пальцами, робкими теперь, и обвевала его своим дыханием, слишком горячим. Он слушал ее со злобной жадностью. Жестокий к самому себе, он пожелал знать все, – о последних встречах с тем, другим, об их разрыве. Она в точности рассказала ему, что произошло в гостинице «Великобритания», но перенесла эту сцену в одну из аллей в Кашинах – из страха, что картина их печальной встречи в четырех стенах еще сильнее раздражит ее друга. Потом она объяснила свидание на вокзале. Она не хотела доводить до отчаяния человека неуравновешенного и измученного. Потом она ничего не знала о нем вплоть до того дня, когда он заговорил с нею на бульваре Мак-Магона. Она повторила то, что он ей сказал под иудиным деревом. Через день после этого она увидела его в своей ложе в опере. Разумеется, он пришел без приглашения. Это была правда.
Это была правда. Но давний яд, медленно скопившийся в нем, сжигал его. Прошлое, непоправимое прошлое после ее признании превратилось для него в настоящее. Перед ним вставали образы, терзавшие его. Он ей сказал:
– Я вам не верю… А если бы и верил, то от одной мысли, что вы принадлежали этому человеку, не мог бы больше видеть вас. Я вам это говорил, я вам об этом писал, – помните письмо в Динар. Я не хотел, чтобы это был он. А потом…
Он остановился. Она сказала:
– Вы же знаете, что потом ничего и не было.
Он с глухой яростью в голосе договорил:
– А потом я его увидал.
Они долго молчали. Наконец она сказала – удивленно и жалобно:
– Но, друг мой, вы же должны были представлять себе, что такая женщина, как я, замужняя… Ведь постоянно случается, что женщина приходит к своему возлюбленному с прошлым гораздо более тяжелым, чем у меня, а он все-таки любит ее. Ах! мое прошлое! если бы вы только знали, какая это малость!
– Я знаю, какое вы приносите счастье. Вам нельзя простить то, что можно было бы простить другой.
– Но, друг мой, я такая же, как все другие.
– Нет, вы не такая, как все другие. Вам ничего нельзя простить.
Он говорил, злобно стиснув зубы. Его глаза, глаза, которые она видела широко открытыми, которые раньше горели мягким огнем, были теперь сухи, жестки, словно сузились между складками век и смотрели на нее незнакомым взглядом. Он был ей страшен.
Она отошла в глубину комнаты, села на стул и долго сидела, трепеща, задыхаясь от рыданий, по-детски удивленно раскрыв глаза; сердце у нее сжималось. Потом она заплакала.
Он вздохнул:
– Зачем я вас узнал?
Она ответила сквозь слезы:
– А я не жалею, что узнала вас. Умираю от этого и все-таки не жалею. Я любила.
Он со злобным упорством мучил ее. Он чувствовал, как это отвратительно, но не мог совладать с собою.
– В конце концов вполне возможно, что вы, между прочим, любили и меня.
Она, плача, ответила:
– Но ведь я же только вас и любила. Я слишком вас любила. И за это вы меня наказываете… И вы еще можете думать, что с другим я была такой, какой была с вами!
– А почему бы и нет?
Она беспомощно, безвольно взглянула на него.
– Скажите, это правда, что вы не верите мне?
И совсем тихо прибавила:
– А если бы я убила себя, вы бы мне поверили?
– Нет, не поверил бы.
Она отерла щеки платком и, подняв к нему глаза, блестевшие сквозь слезы, сказала:
– Значит, все кончено!
Она встала, еще раз оглянула комнату, все вещи, с которыми она жила в такой веселой и блаженной, в такой тесной дружбе, которые казались ей своими и вдруг стали для нее ничем, начали глядеть на нее как на незнакомку, как на врага; она увидела флорентинские медали, напоминавшие ей Фьезоле и волшебные часы под небом Италии, головку смеющейся девушки, которую когда-то начал лепить Дешартр, оттенивший ее милую болезненную худобу. На минуту она с сочувствием остановилась перед этой маленькой газетчицей, которая тоже приходила сюда, а потом исчезла, унесенная страшным и необъятным потоком жизни и событий.
Она повторила:
– Значит, все кончено?
Он молчал.
Сумерки уже стирали очертания вещей.
Она спросила:
– Что же будет со мной?
Он отозвался:
– А что будет со мной?
Они с жалостью взглянули друг на друга, потому что каждому было жаль самого себя.
Тереза сказала еще:
– А я-то боялась состариться, боялась ради вас, ради себя, ради нашей прекрасной любви, которой не должно было быть конца. Лучше было бы и не родиться. Да, мне было бы лучше, если б я вовсе не родилась на свет. И что за предчувствие было у меня еще в детстве под липами Жуэнвиля, около мраморных нимф, у Короны, когда мне так хотелось умереть?
Она стояла, опустив сложенные руки; когда она подняла глаза, влажный взгляд ее засветился, как луч в темноте.
– И никак нельзя заставить вас почувствовать, что мои слова – правда, что ни разу с тех пор, как я стала вашей, ни разу… Да как бы я могла? Самая мысль об этом мне кажется отвратительной, нелепой. Неужели вы так мало знаете меня?
Он грустно покачал головой.
– Да! Я не знаю вас.
Она еще раз бросила вопрошающий взгляд на все вещи вокруг, которые были свидетелями их любви.
– Так значит, все, чем мы были друг для друга… все это напрасно, не нужно. Можно разбиться друг о друга, а слиться друг с другом нельзя!
Ее охватило негодование. Невозможно, чтобы он не чувствовал, чем он был для нее.
И в порыве своей попранной любви она бросилась к нему, осыпала его поцелуями, плача, вскрикивая, кусая его.
Он все забыл, он схватил ее, измученную, разбитую, счастливую, сжал в объятиях с мрачной яростью пробудившегося желания. И вот уже, откинув голову на край подушки, она улыбалась сквозь слезы. Вдруг он оторвался от нее.
– Вы больше не одна. Я все время вижу возле вас того, другого.
Она взглянула на него, – безмолвно, с возмущением, с безнадежностью, – встала, с незнакомым ей чувством стыда оправила платье и прическу. Потом, сознавая, что все кончено, она окинула комнату удивленным взором ничего уже не видящих глаз и медленно вышла.








