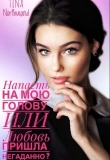Текст книги "Мы были юны, мы любили (Любовь – кибитка кочевая, Шальная песня ветра)"
Автор книги: Анастасия Туманова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Настя! Ну вот, ревет, а говорит, что не болит ничего! Сейчас, лачинько, потерпи, я Стеху приведу…
– Нет, постой! – Из темноты вдруг протянулась рука и дернула его за рукав так, что Илья, споткнувшись, неловко сел на перину.
– Да что ты, Настя?!
– Илья… – шепнула она, подавив мокрый, протяжный всхлип. – Ты скажи мне только… Ты теперь до смерти, да? Никогда больше?.. Я противная тебе стала, да? Нет, не говори, молчи, я сама знаю! Я…
– Ты ума лишилась, дура? – испуганно спросил он. – Ты – мне – противная?! Да… Да как тебе в голову взбрело только?!
– А вот так! – Настя, уже не прячась, заплакала навзрыд. – Мне ведь все-таки там, в овраге, не все мозги вышибли… Помню я, сколько ты на мне шалей порвал, сколько кофт перепортил, дождаться не мог, покуда я сама… А теперь… Луна садится, а он все угли стережет! И еще спрашивает, что мне в голову пришло!
– Да я же… – совсем растерялся Илья. – Мне же Стеха… Строго-настрого сегодня велела… Чтоб, говорит, не смел, кобелище, и думать, ей покойно лежать надо, отдыхать… Чтобы, говорит, месяц и близко не подходил…
– Месяц?! – перепугалась Настя. – Илья! Да столько я сама не выдержу!
Илья шлепнул себя ладонью по лбу и захохотал.
– Да бог ты мой! А я уж изготовился до первого снега в обнимку с Арапкой у костра спать! Настя, а тебе… точно хужей не будет?
– Не будет… Не будет… Иди ко мне… Стехе не скажем, не бойся…
– Настя, девочка… лучше всех ты, слышишь? Лучше всех… Глупая какая, да как ты подумать могла… У меня же только ты… Слышишь? Никого больше…
Возле углей заворочалась, что-то горестно пробормотала во сне Варька. Тяжело плеснула в реке хвостом большая рыба, прошуршал по камышам ветер. Луна села за курган, и голубые полосы погасли.
Глава 5
В августе на Москву хлынули дожди, да такие, что старожилы крестились, уверяя, что ничего подобного не было с наполеоновского нашествия. С раннего утра по блеклому, выцветшему небу уже неслись обрывки дождевых облаков, начинало слабо брызгать на разбухшие от воды тротуары, постукивать по желтеющим листьям кленов и лип на Тверской. Ближе к полудню барабанило уверенней, после обеда лило как из ведра, в лужах вздувались пузыри, окна домов были сплошь зареванные. Виртуозная ругань извозчиков, застревающих в грязевых колеях прямо на центральных улицах, достигала своего апогея, не отставали от них и мокрые до нитки околоточные. Ночью немного стихало, дождь вяло постукивал по крышам, шелестел в купеческих садах, булькал в сточных канавах – с тем, чтобы наутро все началось снова. Москва-река понемногу поднималась в берегах. Весь город бегал смотреть, как она вздувается и пухнет и вода подходит к самым ступеням набережной. Выше и выше, до третьего камня, до второго, до первого… – и, наконец, освобожденная река хлынула на мостовую. Отводный канал, называемый «Канавой», вышел из берегов и затопил Зацепу, Каменный мост и все близлежащие улочки. Жители нижнего Замоскворечья, которых таким же образом аккуратно заливало каждую весну во время паводка, крайне возмущались божьим попустительством, вынуждающим их терпеть убытки еще и осенью, но поделать ничего было нельзя. Замоскворечье во второй раз за год превратилось в Венецию. Вместо гондол по улицам-каналам плавали снятые ворота, корыта и банные шайки, а гондольерами были все окрестные ребятишки.
Солнце в Москву не заглядывало с Ильина дня [23]23
Ильин день – 2 августа.
[Закрыть], и поэтому Митро, проснувшись от удобно устроившегося на носу горячего луча, решил поначалу, что тот ему снится. Но луч не успокаивался, он перебрался с носа на левый глаз, с левого на правый, и в конце концов Митро пришлось открыть оба глаза, сесть – и вытаращиться изумленно в окно. Там стоял спокойный, ясный сентябрьский денек. Еще мокрые, желтые листья ветел дрожали разноцветными каплями, каждая из которых искрилась и переливалась в солнечном свете. Круглая паутина между открытым ставнем и стволом корявой груши была словно унизана бриллиантами, а в середине ее неподвижно сидел с очень удивленным видом, как показалось Митро, крошечный паучок. На примятой траве валялись упавшие этой ночью розовые умытые яблоки. Во дворе женский надтреснутый голос фальшиво выводил:
Отравлюся, милый друг,
А потом повешуся,
И люби тогда Маруську,
Пока не зачешется!
По корявой груше, яблокам в саду, доносящейся песне, а главное, по страшной головной боли Митро определил, что находится не дома, а в публичном доме мадам Данаи. Его догадку подтвердили крошечная комната с ободранными желтыми обоями, самые внушительные дыры на которых были прикрыты картинками, вырезанными из журнала «Нива», полинявшая занавеска на окне, домотканый коврик у порога и веснушчатая Матильда, безмятежно сопящая рядом. Митро поскреб обеими руками гудящую голову, потянулся, взглянул на ходики. Было около полудня.
Вчерашняя ночь восстанавливалась в памяти плохо. Митро кое-как вспомнил, что честно отработал вечер в ресторане, взял несколько «лапок» [24]24
«Лапка» – деньги, которые посетители ресторана оставляли артистам сверх оговоренной, официальной платы за номер; своего рода чаевые.
[Закрыть]и, перед тем как идти домой спать, заглянул к Данае Тихоновне с благороднейшей целью – вернуть долг, два рубля. У Данаи Тихоновны обнаружился капитан Толчанинов, Митро подсел к нему потолковать о грядущих скачках, потом откуда-то взялись Матильда, Аделька и толстая Лукерья, после чего Даная Тихоновна выставила здоровую бутыль «брыкаловки», Митро выложил вечерний заработок, Толчанинов объявил, что платит за всех, Лукерья уселась за пианино… Еще вспоминался женский визг, звон бьющихся стаканов и внезапно погасший свет. Ну, и все…
Сев на кровати, Митро тяжело вздохнул. Утешение было одно: он точно знал про себя, что в подпитии не буянит и посуды не бьет, а вполне благонамеренно укладывается спать – причем где попало. Значит, это Толчанинов спьяну опять форсировал Дунай и брал Плевну.
– Матрена! Матрена! Или как там тебя теперь… Матильда!!!
– Ась, ваше благородие?.. Ой, это вы, Дмитрий Трофимыч? Доброго утречка вам…
– Штаны где? Эй, тебя спрашиваю! Не смей набок заваливаться, чертова кукла, где порты?!
– Да на вас же осталися, медовый мой… А остальное тамотка, на диванчике, где ихняя милость Владимир Антоныч почивают… Вы уж поглядите сами, а ежели чего, покличьте…
«Ихняя милость» обнаружилась в большом зале, на зеленом диване рядом с пианино, где и храпела зубодробительно, уткнувшись лицом в облезлый валик. Вокруг дивана шла деловитая уборка: маленькая Аделька сметала веником осколки битой посуды, Лукерья, подоткнув юбку, терла тряпкой пол, сама хозяйка зашивала огромной иглой разорванную плюшевую скатерть. А на пороге, к крайнему удивлению и негодованию Митро, сидел Кузьма, который ловко прибивал на место отломанную от стула ножку.
– Кузьма!!! – рявкнул Митро так, что Толчанинов на диване перестал храпеть и заворочался. – Ты здесь что?! Как?! Какого черта тут пасешься, сопляк, вот я тебе сейчас… Даная Тихоновна! Да как ты его сюда запустила-то?!
Кузьма бросил стул и юркнул в темный коридор – только пятки мелькнули. Мадам Даная отложила иглу, сняла очки и спокойно сказала:
– Не шуми, Дмитрий Трофимыч. Всему свое время – стало быть, приспело. Это верно, что вы мальчишку женить собираетесь?
– Ну, говорил Яков Васильич… – остывая, проворчал Митро. – Только не решил еще, на ком… А что? Шестнадцать лет жеребцу, самое время!
– Так прежде бы выучили его, что с женой сотворять, сваты недоделанные! – сердито проговорила Даная Тихоновна. – Дите не знает, с какой стороны что вставляется, а они его женить надумали! Пустые ваши башки цыганские, вот что я скажу!
– А потому что не дело это, мальчишку дурному до свадьбы учить… – не очень уверенно заметил Митро.
– А у меня дурному и не научат! – возмутилась мадам Даная. – У меня все барышни порядочные, ни одна еще в больнице не была, да вы и сами знаете…
– Какую дала-то ему? – помолчав, поинтересовался Митро. – Не Эльвирку?
– Скажете тоже… Эльвирка у меня на человека понимающего отложена. Февронью попросила, барышня опытная, добрая, в теле и с терпеньем большим.
– Да знаю, знаю… Заплатил он хоть?
– Не ведаю, Февронья еще не выходила.
– Ты спроси у ней. Ежели Кузьма забыл от радости, так я заплачу. А что это весь пол в осколках? Не я ненароком?..
– Не грешите на себя-то, Владимир Антоныч куролесили. Да не велик убыток, три тарелки да два стакана. Вот добудиться никак не можем, лежат, как вещество, и не шевелятся, хоть бы словечко извергнули…
– Сейчас извергнет. – Митро подошел к дивану, наклонился и громко сказал: – Владимир Антоныч, Пегас первый заезд взял!
– Чего?.. Кто? Пегас? Пряхинский? Вр-р-р-раки… – хрипло раздалось из-под диванного валика, и оттуда медленно выползла черная с проседью, взъерошенная, вся в пуху голова. – Митро? Ты откуда здесь? Кто тебе про заезд сказал?
– В газетах уж пропечатано, – невинно заявил Митро. – Вставайте, ваша милость, не то как раз все скачки проспите. Аделька, тащи рассолу!
Спасительный мокрый ковш с плавающими в его содержимом смородинными листьями и укропом немедленно был принесен и употреблен во здравие. Потом охающего и ругающегося капитана со всем почтением препроводили во двор, где Митро вылил ему на голову три ведра колодезной воды. Даная Тихоновна вынесла чистое полотенце.
– И давайте завтракать, господа. Надо, надо, и слушать ничего не желаю! Я с господ по рублю не за одних барышень с постелью беру! Поднимайтеся, самовар уж принесли и калачи от Федихина!
Через десять минут Митро и Толчанинов вместе с хозяйкой и четырьмя проснувшимися барышнями сидели за длинным выскобленным столом на кухне. Вскоре пришла и Февронья – толстая белая девица лет тридцати с рябым, но милым, немного глуповатым лицом и встрепанными спросонья рыжими кудрями. Митро потянул ее за руку, сажая возле себя, и долго, обстоятельно вполголоса расспрашивал. Февронья смущалась, как невеста после брачной ночи, но отвечала толково, и Митро остался доволен.
– Я вчера на Цветном встретил Ганаева, жокея, так он советовал ставить непременно на Принцессу, – разглядывая на свет чай в стакане, вдруг задумчиво проговорил Толчанинов. – Говорил, что выйдет первой, ему в конюшнях шепнули…
Митро откусил от теплого калача и фыркнул с набитым ртом:
– Выйдет, дожидайтесь… Смотрел я третьего дня эту Принцессу. Ноги хорошие, а дых слабый, на первом же кругу отстанет. В прошлый забег сколько вы на нее угрохали, не припомните?
– Тебе что, фараон? – несколько смутился Толчанинов.
– Мне-то ничего… Только Арес вашу Принцессу на целый корпус обошел.
– Арес сам обремизился в это воскресенье! Да мне еще говорили, что Принцессу какая-то каналья напоила за час до скачек, так как же ей брать забег? А так на нее всегда выдача вполне приличная!
– Я вам, Владимир Антоныч, дело говорю – ставьте на Ареса…
– Не буду! Не может же он выигрывать седьмой забег подряд?! Вот помяни мое слово, Арес – не настоящий англичанин, а полукровка с кабардой, и когда-нибудь это выяснится с большим скандалом!
– Ну, и как знаете. Ваши деньги на ветер, – зевнул Митро, такой же страстный игрок на тотализаторе, как и сам Толчанинов. И армейский капитан, и цыган не пропускали ни одних скачек, были лично знакомы с жокеями, знали все ипподромные секреты и могли часами спорить о скаковых достоинствах той или иной лошади. Правда, это не мешало Толчанинову раз за разом спускать деньги «под хвост» очередному фавориту. Митро тоже выигрывал редко, но надежды не терял, а в ответ на насмешки цыган бодро говорил: «Ничего, это всегда так бывает! Сначала проигрываешь, а потом раз – и всю выдачу возьмешь! Случалось такое!»
Митро и Толчанинов с незапамятных времен были знакомы и даже дружны. Дружба эта началась еще во время ухаживания молодого тогда капитана за Таней Конаковой, приходившейся Митро двоюродной племянницей, и получила неожиданное продолжение, когда Митро забрали в армию и он очутился на кавказской границе, в роте Толчанинова. Капитан немедленно определил цыгана-земляка в свои денщики, специально для Митро раздобыли гитару, и вскоре по вечерам чуть ли не весь полк сидел на квартире Толчанинова, с восторгом слушая цыганские романсы, а поскольку там оказалось тесновато, то Митро вместе с гитарой регулярно приглашался в офицерское собрание. Словом, четыре года службы прошли для Митро весьма необременительно и мало чем отличались от его московских забот.
– Кстати, Митро, окажи услугу. – Толчанинов поставил стакан на стол. – Ганаев сказал, что у купца Рахимова захромал этот, как его…
– Янычар?
– Он самый. А Рахимов рассчитывал выпустить его в это воскресенье, там уже вложены немалые деньги… Может, заглянешь, посмотришь? Я знаю, вы лечите такие вещи.
– Лечить-то лечим, да мало ли там что… – притворно нахмурился Митро. – Ну, только заради вас схожу гляну. Это же на Татарской? Где залило все?
– Ну-у, проплывешь как-нибудь…
– Вот режете вы меня без ножа, Владимир Антоныч! – Митро одним духом допил остывший чай и поднялся из-за стола. – Спасибо, Даная Тихоновна… Февронья, тебе – особое благодарствие. Смотри только, мальчишку не привадь, а то будет бегать кажин день, и жена не занадобится…
– Эту осторожность мы всегда блюдем, – серьезно ответила Февронья. – Вам бы и самим жениться надобно, Дмитрий Трофимыч, а то нехорошо, такой человек обстоятельный…
– Ну, тебя мне не хватало! – невесело хмыкнул Митро. – Мало матери… Все, бывайте здоровы! Владимир Антоныч, я к вам ввечеру зайду, обскажу про Янычара.
Он подхватил со спинки стула потрепанный картуз, пригладил ладонью лохматые волосы и вышел.
На улице, на берегу обширнейшей лужи, почти сплошь закрытой облетевшими со старой ветлы желтыми листьями, сидел Кузьма и с упоением дразнил старого гуся, собравшегося искупаться. Крякающий гарем гусака уже копошился в середине лужи, разбрызгивая коричневую воду и отлавливая червей, а его предводитель шипел и вытягивал шею, стараясь достать прутик, которым помахивал перед его клювом Кузьма.
– Оставь животную! – строго сказал Митро, и Кузьма, уронив прутик в воду, вскочил. – Иди домой, дух нечистый, спи, а то вечером как раз в ресторане захрапишь. Будет нам с тобой от Яков Васильича на орехи!
– Не, я спать не хочу, – заявил Кузьма и, помедлив, осторожно спросил: – Я с тобой пойду, Трофимыч, ладно?
– Да на что ты мне сдался?! Я по делу, в Замоскворечье, там залило все по окна… Самому не в охоту, так тебя еще волочить…
– Чего меня волочить, сам пойду! Ну, Трофи-и-имыч…
– Ой, замолкни, Христа ради, башка трещит… Идем, только молчи.
Кузьма просиял улыбкой и кинулся вдогонку.
К облегчению Митро, племянник действительно не пытался завести разговор. Кузьме было не до болтовни, он еще находился под впечатлением минувшей ночи и шествовал рядом с Митро с задумчивой физиономией. Но довольно быстро его ипохондрия сошла на нет: такой ясный день стоял на дворе, так блестело в лужах запоздалое сентябрьское солнце, так смеялись, болтали и шутили высыпавшие на залитую водой улицу, стосковавшиеся по свету и теплу обитатели Живодерки! Митро и Кузьма, идущие вниз по улице к Садовой, только успевали вертеть головами, отвечать на сыплющиеся приветствия и здороваться сами.
На углу цыгане неожиданно увидели Якова Васильича, который разговаривал через забор с Данаей Тихоновной. Хоревод явно на что-то жаловался, Даная Тихоновна сочувственно кивала, продолжая при этом ловко лущить семечки. Митро знал, о чем беспокоится Яков Васильич: хор последнее время терпел большие убытки, не осталось ни одной из ведущих солисток, и положения не смогла спасти даже Варька, неожиданно появившаяся в Москве неделю назад.
Она приехала с чужим табором, одна, без брата, и прямо с Крестовской заставы пришла к Макарьевне. Идти сразу в Большой дом и представать перед глазами Якова Васильева Варька не рискнула и потихоньку послала Кузьму за Митро. Последний явился немедленно – и просидел допоздна, слушая рассказы о Насте, Илье и их таборной жизни. Митро расспрашивал Варьку долго, жадно и подозрительно, чувствуя, что та чего-то недоговаривает, но Варька твердо стояла на своем:
– Хорошо они живут, Дмитрий Трофимыч. Илья Настю бережет, не обижает, она каждый день наряды меняет. Сейчас уже в Смоленск зимовать приехали, а там, глядишь, она его перекукует: приедут в Москву.
– Перекукуешь твоего черта упрямого, как же… – бурчал Митро, с недоумением поглядывая на черный Варькин платок. – А ты что, сестрица, спаси бог, схоронила кого?
– Мужа.
– Ох ты… Да когда ж ты успела?!
Варька рассказала – сухо, в двух словах. Митро только сочувственно качал головой. Потом спросил:
– И как же ты теперь думаешь?..
– Вот, видишь, Дмитрий Трофимыч, по вашу милость явилась, – сдержанно сказала Варька. – Ты меня, помнится, весной приглашал.
– Да я и не отказываюсь! – обрадовался Митро. – И Яков Васильич возьмет! Петь-то вовсе некому, Зинка Хрустальная больше года не объявляется, сидит со своим Ворониным в его Кропачах, в графини собирается! На одной Стешке тянем, а много ли с нее проку… Давай, сестрица, сегодня же с хором и выйдешь!
– А Яков Васильич-то меня не прибьет? – усмехнувшись, спросила Варька. – За то, что мы с Ильей Настьку в табор уволокли?
– Ну, ты не Илья, с тебя какой спрос… Ничего. Я с ним сам поговорю. А ты готовься, романсы свои вспоминай, за лето, поди, все забыла. Даст бог, подымем доход-то.
Митро оказался прав. Яков Васильич, выслушав его осторожную речь, долго молчал и хмурился, тер подбородок, морщил лоб, а затем, так и не вымолвив ни слова, вышел из комнаты. Но ночью, уже после выступления хора в ресторане, Яков Васильев сам пришел в дом Макарьевны и заставил Варьку, которая уже раздевалась перед сном, сызнова рассказывать о том, как Насте живется в таборе. Изрядно напуганная Варька повторила все слово в слово. Яков Васильев выслушал ее не перебивая, встал и двинулся к двери. С порога обернулся и коротко сказал:
– Чтоб завтра же в хоре сидела.
Варька перекрестилась и, едва за хореводом закрылась дверь, кинулась перебирать свои платья, бережно сохраненные Макарьевной в сундуке. На второй день Варька уже пела вместе с хором свои старые романсы, на третий в ресторан сбежались прежние почитатели брата и сестры Смоляковых, а на четвертый стало ясно: Варьке одной все же не вытянуть хора. Не меньше голоса в хоре нужна красота. Такая красота, какая была у Насти, какой обладала Зина Хрустальная, какой блистала покойная жена Митро. А взять эту красоту негде.
Как ни осторожно пробирались за спиной хоревода по улице Митро и Кузьма, Яков Васильич все же услышал и обернулся. Цыгане мгновенно сдернули картузы.
– Доброго утра, Яков Васильич!
– Где вас ночью носило? – не здороваясь, сердито спросил тот. – Митро, тебя спрашиваю!
– У Конаковых в карты играли, – на голубом глазу заявил тот. – До утра просидели.
– Денег, что ли, много завелось? – буркнул Яков Васильев, подозрительно поглядывая на мадам Данаю. Но та невинно продолжала лущить семечки, а на усиленные подмигивания Кузьмы ответила чуть заметной понимающей улыбкой. Митро дернул Кузьму за рукав, и они ускорили шаги, торопясь свернуть на Садовую, откуда доносились крики и ругань извозчиков.
Посреди улицы сцепились осями две пролетки, и извозчики – всклокоченные, распаренные, со злыми красными лицами и взъерошенными бородами – машут кнутами перед носом друг у друга и отчаянно бранятся. Из-за угла появляется «правительство» – заспанный, важный городовой. Извозчики умолкают на полуслове, в считаные мгновения заключают мир, молниеносно расцепляют пролетки и раскатываются в разные стороны под неумолчный хохот толпы.
На углу Садовой и Тверской офеня торгует лубочными картинками, и Митро с трудом оттаскивает Кузьму от пестрых аляповатых изображений генерала Скобелева, красной «тигры» с хвостом трубой и «как мыши кота хоронили». Рыжий офеня с унылым испитым лицом надсадно кричит:
– А вот кому енарала, коего царевна персицка целавала! А вот царь Горох-воевода ворочается с турецкого похода! Борода веником, с полыньем и репейником! Идет – земля дрожит, упадет – три дня лежит!
– Пожарные! Пожарные! – вдруг проносится по толпе.
С Тверской слышится бешеный трезвон, визг трубы, и народ дружно отшатывается к стенам домов. Извозчики, бранясь, заворачивают лошадей на тротуары, следом бегут торговцы с лотками. Улица едва успевает очиститься, а по мостовой уже мчится во весь опор с чадящим факелом в руке вестовой на храпящей, роняющей клочья пены пегой лошади. За ним – громыхающие дроги с мокрой бочкой, обвешанные со всех сторон усатыми молодцами в сверкающих касках.
– Арбатские поехали, – с завистью говорит офеня.
– Куды, малой! – степенно возражает старичок-извозчик с сияющей на солнце лысиной. – Арбатские на гнедых, а эти на пегих. Тверски-ие… Эй, дьяволы! Где горит? У нас?
– В Настасьинском! – гремит с бочки, и все сияющее медью, звенящее и трубящее чудо стремительно заворачивает в переулок.
Народ уважительно смотрит вслед. Кузьма, забыв про лубки, зачарованно провожает пожарных глазами. А Митро уже указывает ему на торговца «морскими жителями» – стеклянными, в полмизинца, чертиками, забавно кувыркающимися в пробирках с водой. Кузьма немедленно начинает торговаться:
– Скольки за жителя? Двадцать копеек?! Ну, знаешь, дед, совести в тебе нету! Да я за двадцать тебе живого черта в ведре принесу! С хвостом и с рогами! Их, чертей этих, под мостом на Неглинке косяки плавают, только брать умеючи надо… Ну, гривенник хочешь? Ничего не сошел с ума! Ничего не даром! Ну, леший с тобой, двенадцать копеек. Я у Рогожской таких же по пятаку видал! Ну, последнее слово – пятиалтынник. Все равно без почина стоишь!
Дед оказывается сообразительным. Всего через четверть часа воплей и брани смешной чертик перекочевывает в руки Кузьмы за пятнадцать копеек. Кузьма, подумав, покупает еще одного и прячет в карман со специальной целью – вечером до смерти напугать Макарьевну.
В Кадашевском переулке под ногами захлюпала вода, и Митро решительно остановился:
– Нет, не пойду дальше. Ну его, этого Рахимова с его мерином мореным, и Толчанинова тоже! Тут же сапоги охотничьи или лодку нужно!
Кузьма пожал плечами, вглядываясь в залитый водой переулок.
– Ну, коли хочешь, подожди здесь, я один сбегаю!
– Куда «сбегаешь», нужен ты там кому! – рассердился Митро. – Нет, тут надо что-то…
Он не договорил. Из-за угла послышались веселые крики, смех, и в переулок торжественно вплыл плот – снятые со столбов ворота, на которых стояло человек пять, деловито отталкивающихся шестами. Кузьма, увидев знакомого приказчика, замахал картузом:
– Яким! Яким! Эй!
– Сей минут! – раздалось с плота. Ворота медленно, качаясь, начали разворачиваться и, подталкиваемые шестами, тронулись к Кузьме.
– Видал, что делается? – сверкая зубами, спросил Яким, рыжий веснушчатый малый в распахнутой на груди рубахе и мокрых по колено портках, заправленных в хромовые сапоги. При каждом движении Якима из сапог выплескивалась вода.
– Ночью залило по самые по окошечки! – возбужденно заговорил он. – Хозяин Пров Савельич в одном исподнем в лавку побежал товар спасать, нас перебудил, выражался несусветно совсем! Вона – ни проехать, ни пройтиться, вся Татарка на воротах маневрирует. В лавку за хлебом – и то хозяйский малец в лоханке поплыл. О чем в управе думают, непонятственно. Убытку-то, хосподи! Мало нам по весне было потопу, так еще и осенью! Все погреба, все клети позаливало! Народ прямо плачет – ходу нету никакого! Наши черти уж приладились по копейке за переправу брать. Сущий водяной извоз начался! У Калачиных будка уплыла, да с собакой, насилу выловили уже на Ордынке. Корыто чье-то подцепили, всю улицу обплавали – никто его не признает…
– На Татарской цыганочка на «бабе» застряла! – вспомнил кто-то.
– Цыганка? – удивился Митро. – Откуда? С Таганки?
– Не, не московская, кажись. Заплутала в переулках-то, а вода все выше и выше. Влезла на «бабу», юбку подобрала и сидит богородицей! Поет на всю улицу, да хорошо так! Наши ей уж и копеек накидали!
«Надо бы послушать, ежели вправду хорошо. – задумался Митро. – Чем черт не шутит, пока бог спит… Солистки-то все поразбежались у нас».
Приказчики умолкли. Яким озабоченно покрутил головой:
– Давайте, полезайте, на ворота… А ну, черти, двое кто-нибудь слазьте, не то потонем! Опосля вернемся за вами… Да живее, у цыганей дело, а у вас – баловство одно!
Против такого аргумента возражений не последовало, и двое парней с готовностью спрыгнули на тротуар. Митро и Кузьма перебрались на раскачивающийся плот.
– Ну – с богом, золотая рота! – под общий смех скомандовал Яким и оттолкнулся шестом. Плот дрогнул и пошел по воде посреди переулка.
На Татарской вода стояла у самых подоконников. Крыши были усеяны ребятней. Из окон то и дело выглядывали озабоченные лица кухарок и горничных. В доме купца Никишина женский голос пронзительно распоряжался:
– Эй, Аринка, Дуняша, Мавра! Ковры сымайте, приданое наверх волоките, шалавы! Кровать уж плавает! Аграфена Парменовна в расстройстве вся!
Из окна высовывалось зареванное лицо купеческой дочки. Снизу горничные, балансируя на снятой дубовой двери, подавали девушке раскисшие подушки. По улице двигались доски, лоханки, ворота с купеческими домочадцами, приказчиками, прислугой, торговцами и мальчишками. Невозмутимо греб на перевернутой тележке старьевщик, скрипуче выкрикивая: «Стару вещию беро-о-ом!» Кто-то плыл в лавку за провизией, кто-то спасал промокшую рухлядь, кто-то просто забавлялся.
– Теперь уже скоро, – сказал Яким, останавливая плот у скособочившейся вывески, гласившей: «Аптека Финогена Семахина, кровь пущать и пиявок ставим». За аптекой открывался переулок – маленький, кривой, сплошь застроенный одноэтажными деревянными домиками. Решением невесть какого начальства вдоль домов, затрудняя проезд, были поставлены каменные тумбы, называемые москвичами «бабы». Пользы «бабы» не приносили никакой – разве что торговцы, отдыхая, пристраивали на них лотки с товаром да в осенние безлунные ночи на тумбы водружались чадящие плошки с фитильками. На одну из этих тумб Яким махнул рукой. Кузьма вытянул шею и увидел цыганку.
Она сидела на «бабе», поджав по-таборному ноги. Увидев подплывавших парней, весело помахала рукой, хлопнула в ладоши и запела:
Валенки, валенки – не подшиты, стареньки!
Нечем валенки подшить, не в чем к милому
сходить!
– Ого… – тихо и недоверчиво протянул Митро. – Кузьма, ты слышишь?
Молодой цыган не отвечал. В горле встал комок. Кричи сейчас Митро во весь голос – Кузьма даже не услышал бы.
Певунье было не больше пятнадцати лет. Рваный и мокрый подол ее замызганной красной юбки складками спускался с каменной тумбы. Поверх потрепанной, с отставшим рукавом бабьей кацавейки красовалась яркая новая шаль с кистями. Правую руку – чумазую, в цыпках – украшало колечко с красным камнем. Темный вдовий платок сполз на затылок, из-под него выбивались густые, иссиня-черные вьющиеся волосы. На обветренном лице выделялись худые скулы и острый подбородок. Черные глаза были чуть скошены к вискам, блестели холодными белками, смотрели неласково. Над ними изящно изламывались тонкие брови. Длинные и густые ресницы слегка смягчали мрачный, недевичий взгляд. Эту ведьмину красоту немного портили две горькие морщинки у самых губ. Они становились особенно заметными, когда цыганка улыбалась.
Закончив песню, она протянула ладонь и протяжно заговорила:
– Дорогие! Бесценные! Соколы бралиянтовые! С самого утра глотку деру, киньте хоть копеечку, желанные! А вот погадать кому? Кому судьбу открыть, кому сказать, чем сердце утешится? Эй, курчавый, давай тебе погадаю! О, да какой ты красивый! Хочешь, замуж за тебя пойду?!
Кузьма не отвечал. Стоял столбом и молчал, хотя цыганка смотрела на него в упор и тянула руку, ловя парня за рукав. Рядом хохотали приказчики, поглядывая то на него, то на цыганку, то на насупившегося Митро, а Кузьма только хлопал глазами и не мог сказать ни слова.
Цыганка рассердилась:
– Да ты что, миленький, примерз, что ли? Не пугайся, не пойду я за тебя! У нас закон такой, нам только за цыган можно!
Приказчики снова заржали. Кузьма наконец очнулся. И тихо спросил, глядя на ее черный платок:
– Гара пхивлы сан? [25]25
Давно ли ты вдова?
[Закрыть]
Цыганка вздрогнула. Улыбка пропала с ее лица.
– Ту сан романо чаво? [26]26
Ты цыган?
[Закрыть]
– Аи, амэ рома [27]27
Да, мы цыгане.
[Закрыть], – вступил в разговор Митро. – Чья ты, сестрица? Из каких будешь? Почему одна?
В глазах девчонки мелькнул испуг. Не отвечая, она недоверчиво посмотрела на обоих цыган.
– Как тебя зовут? – повторил Митро.
– Данка… – запинаясь, ответила она. – Таборная. От своих отбилась в Костроме, теперь вот догоняю. Мы смоленские…
– Кто у тебя в таборе?
– Мужа семья. Умер он.
Разговор шел по-цыгански, и приказчики заскучали.
– Эй, Дмитрий Трофимыч! – вмешался Яким. – Ежели вы родственницу сыскали, так, может, мы вас на сухое место отвезем?
– Сделайте милость, – кивнул Митро. И вновь повернулся к девчонке: – Слушай, ты есть хочешь? Идем в трактир! Посидим, поговорим спокойно. Не бойся, нас вся Москва знает. Мы хоровые, с Грузин, Васильевых-цыган.
Девчонка, казалось, колебалась. Осторожно скосила глаза на свою драную юбку. Митро заметил этот взгляд.
– В трактир пустят, не беспокойся.
– Спасибо, морэ… – совсем растерявшись, прошептала девчонка.
– Яким, она с нами едет! – скомандовал очнувшийся от столбняка Кузьма.
Данка осторожно спустила босые, черные от загара и грязи ноги с полузатопленной тумбы. Вскоре она, неловко балансируя, стояла на плоту.
– Держись за меня, – предложил Кузьма, но голос его отчего-то сорвался на шепот, и Данка даже не услышала слов молодого цыгана. Зато услышал Митро и пристально посмотрел на Кузьму. Тот, нахмурившись, отвернулся.
Митро выбрал небольшой трактир на Ордынке. Внутри было тепло и чисто, стояли дубовые столы без скатертей, под потолком висели клетки со щеглами, солнечные лучи плясали на меди самоваров. Пахло еще по-летнему – мятой и донником, из кухни доносился аромат грибных пирогов. За стойкой буфета сидел и изучал газету «Русский инвалид» благообразный старичок в очках. Бесшумно носились половые.
Цыгане заняли дальний столик у окошка, выходящего в переулок. Митро спросил чаю и бубликов для себя и Кузьмы, а для Данки принесли огромную миску дымящихся щей.
Жадно хлебая из миски и откусывая от огромной, посыпанной крупной солью краюхи, Данка рассказывала. Сама она из смоленских цыган, родители жили в таборе, отец менял лошадей, мать гадала. Данке лишь недавно исполнилось пятнадцать лет. Она вышла замуж этой весной, а через неделю после свадьбы схоронила мужа. Кочевала с мужниной родней, но в Костроме отстала от табора и вот уже пятый месяц ищет его, расспрашивая всех встречных цыган. По слухам, табор видели в Москве, но, прибыв в Первопрестольную, Данка так и не нашла своих.