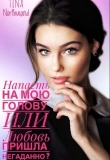Текст книги "Мы были юны, мы любили (Любовь – кибитка кочевая, Шальная песня ветра)"
Автор книги: Анастасия Туманова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 4
Лето на Дону в этом году оказалось сухим и жарким. За июль и пол-августа не выпало ни капли дождя, над степью нависло белое небо с блеклым от жары, огромным шаром солнца. Табор еле полз по дороге в облаках пыли, замучившей и людей, и лошадей. Лохматые собаки подогу лежали вдоль дороги, высунув на сторону языки, и потом со всех ног догоняли уползшую за горизонт вереницу телег – с тем, чтобы через полчаса снова свалиться в пыль и вытянуть все четыре лапы. Цыгане ошалели от жары настолько, что даже не орали на лошадей, и те шли неспешно, не слыша ни проклятий, ни свиста кнута. Старики каждый день обещали дождь, и действительно, к вечеру на горизонте обязательно появлялась черная туча. Но ее всякий раз уносило куда-то вдаль, за Дон, и с надеждой поглядывающие на тучу цыгане разочарованно вздыхали.
Илья шел рядом с лошадьми, вытирая рукавом рубахи пот, заливающий глаза. Иногда он замедлял шаг, ждал, пока телега проплывет мимо него, и спрашивал у идущей следом за ней жены:
– Настька, как ты? Ежели тяжело – полезай в телегу! Гнедые не свалятся небось…
Настя, запыленная до самых глаз, только качала головой. Рядом с ней брела такая же грязная и замученная Варька, у которой не было сил даже привычно запеть, чтобы разогнать усталость. Сзади скрипела Мотькина колымага, и ее хозяин, так же как Илья, сипло чертыхаясь, тянул в поводу то и дело останавливающихся коней.
С того дня, как семья Ильи Смоляко вернулась в табор, прошло почти три месяца. Варька с Мотькой все-таки убежали тогда вдвоем. Илья, спавший вполглаза, слышал тихий свист из кустов и то, как Варька, путаясь в юбке, на четвереньках подползает под край шатра. Илья приподнялся на локте, сонно посмотрел вслед сестре, проворчал: «Ну и слава богу…» – и, не слыша того, как рядом тихо смеется Настя, тут же заснул снова.
Варька с Мотькой нагнали табор через неделю. Вместе с ними на телеге приехала и тетя Сима – еще молодая, но величественная, как соборная церковь, цыганка с целой оравой своих братьев и их жен. Приехавшие подтвердили, что честь невесты была неоспорима и что Варькину рубашку своими глазами видела вся цыганская слобода в Рославле. В таборе посудачили, поудивлялись, повздыхали и решили, что так оно, наверное, и правильнее.
Мотька был младшим сыном в семье, своего шатра не имел и жил с родителями. Те сразу приняли Варьку, тоже, видимо, подумав, что так лучше и для сына, и для них. К тому же Илья дал за сестрой годовалую кобылу, новую перину, шесть подушек, самовар, три тяжелых золотых перстня и двести рублей денег, что было, по таборным меркам, очень неплохо. Варька начала вести обычную жизнь молодой невестки: вскакивала на рассвете, носила воду, готовила и стирала на всю семью, бегала с женщинами гадать и еще успевала опекать Настю и подсовывать ей куски. Мотька, конечно, видел то, что молодая жена живет на две семьи, но не возражал. Ему было безразлично. Илья никогда не видел, чтобы они с Варькой обменялись хоть словом, Мотька даже не называл жену по имени. Сначала Илья хмурился, но Варька как-то сказала ему:
– Да перестань ты стрелы метать… Ты же лучше всех знаешь, почему он меня взял. И почему я пошла. Я ему как прошлогодний снег, так ведь и он мне тоже. Так что хорошо будем жить.
Илья сомневался в этом, но спорить не стал: сестра и впрямь выглядела если и не особо радостной, то хотя бы спокойной. А раз так – пусть живет как знает. Не глупей других небось.
Начал он понемногу успокаиваться и по поводу Насти. Жене Илья ничего не говорил, но в глубине души отчаянно боялся, что таборные не примут ее, городскую, ничего не умеющую, знающую лишь понаслышке, что в таборе женщина должна гадать и «доставать». И действительно, первое время в каждом шатре мыли языки, и Илья ежеминутно чувствовал на себе насмешливые взгляды. Он злился, обещал сам себе: как только кто откроет рот – по репку вгонит в землю кулаком. Но в таборе Илью побаивались, и в глаза ни над ним, ни над Настей никто не смеялся. Цыганки, правда, поначалу держались с Настей отчужденно, ожидая, что городская краля будет задирать нос, и готовились сразу же дать достойный отпор. Но Настя безоговорочно приняла правила таборной жизни: не заносилась, не стеснялась спрашивать совета, не боялась показаться неумехой, сама громче всех смеялась над собственными промахами, и в конце концов женщины даже взялись опекать ее. То одна, то другая с беззлобной усмешкой показывала растерянно улыбающейся Насте, как правильно развести огонь, укрепить жерди шатра или напоить лошадь. Илья, который еще в Москве приготовился к тому, что семью ему придется как-то кормить самому, уже устал удивляться. Чего стоило одно то, что жена теперь вскакивала по утрам до света!
– Да спи ты, куда тебя несет, успеется… – ругался он сквозь сон, услышав тихое копошение рядом. – В хоре-то, поди, раньше полудня не вставали…
– Не в хоре ведь, – резонно замечала Настя и выбиралась из-под полога в предрассветную сырую мглу. Таборные женщины уже рассказали ей, что идти в деревню на промысел нужно рано утром – позже все деревенские, кроме старых да малых, окажутся в поле. А до этого еще надо успеть принести воды и поставить самовар…
Со стряпней на костре тоже был смех и грех: Настя, которая не умела готовить даже в печке, то и дело бросала варево на углях и мчалась за помощью к Варьке. В конце концов в котелке появлялось что-то неописуемое, что сама Настя грустно называла «гори-гори ясно» и боялась даже показать мужу.
– Плевать, дай сюда, съем! – героически обещал Илья.
– Господи, да ты отравишься!
– Ла-адно… Не барин небось.
Впрочем, Варькины советы помогали, и стряпня Насти с каждым днем становилась все лучше.
Первое время Илья не позволял жене болтаться с гадалками по деревням, но она упрямо настаивала на этом сама. Когда добытчицы скопом шли в ближайшее село, Настя храбро шагала вместе с ними, босоногая, в вылинявшей кофте и широкой юбке. Илья не знал, смеяться тут или плакать. Ведь все равно, как ни старалась Настька, она выделялась среди смуглой галдящей стаи своим не успевшим загореть лицом и слегка испуганными глазами. К счастью, рядом неотлучно были Варька и старая Стеха, и Илья знал: пока они рядом, жену не обидит никто.
Едва зайдя за околицу, цыганки крикливой саранчой рассыпались по хатам: гадать, ворожить, клянчить, лечить, творить особые, никому из деревенских не известные «фараонские» заговоры… Варька умудрялась за два часа погадать на судьбу в одном дворе, зашептать печь, чтобы не дымила, в другом, вылечить кур от «вертуна» в третьем… А еще мимоходом научит некрасивую девку, как привадить женихов, присоветует суровому старосте, что делать, если сцепятся жена и полюбовница. А то всучит необъятной попадье мазь, «чтоб в середке не болело», и ухитрится втихомолку надергать на ее огороде морковки… О Стехе и говорить было нечего: та семьдесят лет провела в кочевье и даже не опускалась до воровства. Крестьянки тащили ей снедь сами, и без курицы удачливая бабка в табор не возвращалась. Про Настю Стеха, незло посмеиваясь, говорила:
– Тебя, девочка, только как манок брать с собой! Поставить середь деревни и, пока гаджэ [20]20
Нецыгане.
[Закрыть]на твою красоту пялятся, все дворы обежать и все, что можно, прибрать.
Та грустно улыбалась: Стеха была права. Внешность Насте и в самом деле помогала. Часто, войдя на деревенский двор, Настя не успевала слова сказать – а хозяйка уже бросала все свои дела и с открытым ртом глазела на цыганку небесной красы, идущую по деревенскому двору, словно царица по тронной зале.
– Дэвлалэ, видели б господа московские, – вздыхала Варька, – как ихняя богиня египетская по навозу голыми пятками шлепает…
Настя только отмахивалась:
– Не замучилась вспоминать, сестренка? Дело прошлое…
Подходя к хозяйке, она несмело предлагала: «Давай, брильянтовая, погадаю…», но «брильянтовая» пропускала эти слова мимо ушей и визжала в сторону дома:
– Эй, выходите, родимые! Поглядите, какая к нам цыганка пришла!
Тут же сбегалось полдеревни баб, и на Настю смотрели, как на вынесенный из церкви образ. Настя ловила ту, что поближе, за руку и начинала говорить что-то о судьбе и доле. Иногда даже «попадала в жилу», и ее слушали с открытым ртом. Но чаще всего гадание не получалось, и крестьянка со смехом выдергивала грязную, растрескавшуюся ладонь:
– Отстань, я про судьбу сама все знаю. Дай лучше посмотреть на тебя. А ты петь не умеешь?
Услышав подобный вопрос, Настя облегченно вздыхала. Хотя бы сегодня не придется стыдиться своей пустой торбы. Другие гадалки даже сердились на Настю, потому что стоило ей запеть, как весь народ, не слушая больше самых заманчивых посулов, сбегался на чистый, звонкий голос.
Романсов, которые Настя исполняла в Москве, здесь, в деревнях, не понимали, и ей пришлось вспоминать полузабытое. В хоре деревенских песен давно не пели, только от старших хористок Настя в детстве слышала «Уж как пал туман», «Невечернюю» и «Надоели ночи, надоскучили». К счастью, память у нее была хорошая, и слова вспомнились потихоньку сами собой. Она пела до хрипоты, плясала, иногда одна, иногда с другими цыганками, и в фартук ей складывали овощи, хлеб, яйца. И все же это было немного.
Легче зарабатывать на жизнь оказалось в городах. В Ростове на Петровских праздниках Настя собрала вокруг себя чуть ли не всю ярмарку. Народ стоял плотной толпой, среди серых крестьянских рубах попадались синие поддевки купечества и даже плащи и летние пальто господ почище. По окончании импровизированного концерта, когда несколько чумазых девчонок зашныряли в толпе, исправно собирая деньги со зрителей, к уставшей Насте протолкался хозяин одного из местных балаганов и немедленно предложил ангажемент на всю ярмарку. Настя, подумав, согласилась, взяла вторым голосом Варьку, и за несколько дней они заработали больше, чем все вместе взятые таборные цыганки, тут же на ярмарке с утра до ночи искавшие, кто позолотит руку. Илья, не вылезавший из конных рядов, вечерами хохотал: «И здесь хор себе нашла!»
– Какие тут хоры – смех один… – невесело улыбалась Настя.
Она не рассказала мужу о том, что на второй день их с Варькой выступлений в балагане уже сидел дирижер из цыганского хора, который немедленно пригласил таборных певуний к себе. Они выслушали старика c уважением, но, переглянувшись, твердо отказались. Хоревод долго уговаривал, обещал поговорить с мужьями, клялся, что артисток ждут золотые горы… Настя только молча качала головой. Все это уже было у нее в Москве. Было – и прошло. А теперь нужно учиться совсем другой жизни.
Всего однажды над Настей попытались посмеяться в открытую. Это случилось во время стоянки возле станицы Бессергеневской. В тот день не повезло всем: то ли казаки здесь были слишком жадными, то ли сердитыми из-за предстоящих военных сборов, но даже Стеха вернулась вечером в табор без куска сала. Настя расстроенно вытряхивала из фартука перед костром какую-то прошлогоднюю редиску, когда Мишка по прозвищу Хохадо [21]21
Врун.
[Закрыть]насмешливо крикнул Илье от своей палатки:
– Эй, Смоляко! С голоду еще не дохнешь со своей кинарейкой городской?
Настя так и залилась краской, но Илья и бровью не повел. Не спеша выдернул иглу из лошадиной сбруи, которую чинил, отложил работу в сторону и пошел к Мишке. Тот сразу подобрался, готовясь к драке, но Илья мирно предложил:
– До мостков пройдемся, морэ? А то тут старики, не годится…
– Эй, Смоляко, Илья, ты что, рехнулся?! Что вздумал, бешеный, жеребцу твоему под хвост болячку?! – закричала было Фешка, Мишкина жена, но оба цыгана, не обернувшись ни на ее вопль, ни на чуть слышное Настино «Илья, не надо, ради бога…», прошли мимо палаток и исчезли за зарослями лозняка.
До мостков, впрочем, Илья и Мишка не добрались: уже через минуту до табора донеслись яростная ругань и плеск воды. Когда цыгане выбежали на берег реки, они увидели, что Мишка лежит в желтой, мелкой прибрежной водице и рычит нечеловеческим голосом, то и дело прерывающимся бульканьем, а Илья сидит на Мишке верхом, методично опуская его голову в воду, и спокойно, даже нежно втолковывает:
– Ежели ты, огрызок собачий, еще хоть слово про мою бабу тявкнешь – язык вырву и сожрать заставлю, а потом – утоплю. Что ты там говоришь, дорогой, не слышу? Ну, попей еще, родимый…
– Смоляко… – позвал дед Корча, и Илья, увидев деда, с некоторым сожалением поднялся на ноги и вышел на берег. Чуть погодя, шатаясь и отплевываясь, встал и мокрый с головы до ног Мишка с разбитой в кровь физиономией. Фешка, заголосив, кинулась было к нему, но Хохадо оттолкнул жену, выбрался на берег и злой как черт, не глядя на столпившихся цыган, пошел к палаткам. Жена побежала следом, вереща и призывая на голову Смоляко всех чертей. Остальные цыгане осторожно помалкивали, дед Корча притворно хмурился, катал сапогом камешек. Илья как ни в чем не бывало вытер сапоги пучком травы и зашагал к своему шатру.
Перепуганная Настя, сжав руки на груди, с ужасом смотрела на мужа. А тот, усевшись у костра и снова взяв недочиненную упряжь, вдруг поднял голову и улыбнулся жене. Такую улыбку, широкую и плутоватую, Настя видела у Ильи нечасто и сразу догадалась, что все произошедшее его изрядно позабавило. А подбежавшая к шатру Варька шутливо ткнула ее кулаком в бок и вывалила из своего фартука целую гору картошки и пять луковиц.
– Чего ты пугаешься, Настька, золотенькая моя? Пока я жива – никто с голоду не умрет!
…Адская жара понемногу начала спадать только к вечеру, когда огромный шар солнца низко завис над степью. Табор миновал древний, поросший ковылем, похожий на разлегшегося в поле медведя курган и выехал на высокий берег Дона. Чуть поодаль чернел заросший красноталом овраг, по дну которого бежал мелкий холодный ручей, а за оврагом виднелись крыши богатого казацкого хутора Кончаковского. Эти места были знакомы цыганам, они не раз останавливались здесь во время прошлых кочевий, и в этот раз решили так же: простоять несколько дней, чтобы дать отдых и себе, и лошадям.
Телеги остановились, из них попрыгали дети, тут же кинувшиеся к реке, мужчины начали выпрягать уставших, спотыкающихся в оглоблях коней, женщины засуетились, вытаскивая жерди и полотнища для шатров. Вскоре берег покрылся палатками, зажглись костры, над ними повисли медные котелки, процессия цыганок с ведрами отправилась вниз, к реке, другая ватага тронулась к хутору на промысел.
Илья как раз заканчивал натягивать между кольями полотнище шатра и озабоченно поглядывал на расширяющуюся в старой ткани прореху, раздумывая: то ли залатать ее сейчас самому, то ли дождаться ушедшей с цыганками Настьки, то ли плюнуть и оставить как есть, авось ночью дождя не принесет. От этих мыслей его отвлекли пронзительное ржание, многоголосый взрыв смеха и крик Мотьки:
– Смоляко, айда купаться!
Илья обернулся. В десяти шагах дожидались несколько молодых цыган верхом на лошадях.
– Да погодите вы… – отмахнулся он. – Вон с шатрицей тут нелады…
– Ай, брось, потом завяжешь как-нибудь! Едем, Смоляко! Жара смертная, уже дух выходит! – наперебой начали звать его, и в конце концов Илья бросил так и не натянутое полотнище, подозвал свою гнедую кобылу и вскочил верхом.
– Ну, пошла! Пошла, пошла! Мотька, догоняй!
Цыгане закричали, загикали на лошадей, те рванули с места, и над палатками повисло желтое облако пыли.
– Вот жареные, двух шагов уже пехом сделать не могут, все им верхи скакать… – проворчала от соседнего шатра Стеха, но слушать ее бурчание было уже некому.
Возле реки парни спешились и сгрудились на высоком берегу, нерешительно поглядывая вниз.
– Мать божья, высоко как! Шею бы не своротить, чявалэ!
– Может, вокруг спуститься?
– Прыгнем так!
– Убьешься, дурак, вдруг там мелко?
– Да где же мелко, когда вон наша мелюзга плещется! Глубоко! Прыгаем!
Однако прыгать никто не решался. Цыгане поглядывали вниз, друг на друга, неуверенно улыбались и один за другим отходили от края обрыва.
– Глядите, кони! – вдруг завопил Мотька, вытягивая руку в сторону излучины. Илья повернулся в ту сторону и ахнул.
В розовую от заката, тихую возле песчаной косы воду реки медленно входил табун хуторских лошадей. Все они были рыжие, словно вызолоченные садящимся солнцем, и даже издалека Илья определил знаменитую донскую породу: длинные шеи, невысокие холки, доставшиеся от степных предков, плотное сложение, крепкие подвижные ноги. От восхищения у него остановилось дыхание. Краем уха Илья услышал, как рядом Мотька прошептал: «Ой, отцы мои…» А золотые лошади не спеша, одна за другой, входили в реку, склоняли головы, пили, фыркали, изредка обменивались коротким ржанием… и Илья не выдержал.
– А-а, пропадите вы все! – Он разбежался и, не слушая летящих в спину испуганных, предостерегающих возгласов, прыгнул вниз. Перед глазами мелькнули желтый глинистый обрыв, чахлые кусты краснотала… и дух перехватило от холодной воды. Илья сразу опустился в глубину, увидел жутковатую темноту под ногами, зыбкое голубое пятно света над головой. Вытянувшись в стрелку, он рванулся к этому пятну, пробкой вылетел на поверхность – и тут же снова ушел под воду, увидев, что прямо на него с истошным воплем, зажмурившись, летит с обрыва Мотька.
Они вынырнули одновременно, отфыркались, отплевались, посмеялись, поудивлялись, глядя на высокий берег, с которого только что спрыгнули (больше никто не рискнул), – и, не сговариваясь, погребли к песчаной косе, возле которой бродили в воде кони.
Казалось, что золотой табун никто не охранял. Но стоило цыганам выбраться из воды и приблизиться к лошадям, как из зарослей камышей вышел, сильно прихрамывая, лысый дед в офицерской фуражке со снятой кокардой и подозрительно уставился на парней.
– Ето что за водяных нелегкая принесла?
– Сам ты водяной! – обиделся Мотька. – Твои, что ли, кони-то?
– Да уж не твои! – отрезал дед. – Кому говорю, отойди от скотины, нечисть! У меня тут в кустах и ружжо имеется!
– Охти, застращал, сейчас обделаюсь! – захохотал Мотька. – Успокойся, отец, не тронем мы твоих призовых! Менять не собираешься?
– На что менять-то? На доходяг ваших оглобельных?! Обойдуся! Эй, кому сказано, отойди от животины! Как раз стрелю!
Последнее относилось уже не к Мотьке, а к Илье, который стоял возле огромного рыжего жеребца и ласково, как своего, гладил его по холке. Жеребец косился, но стоял смирно.
– Да не голоси ты, старый, уйду сейчас, – с досадой сказал Илья, отмахиваясь от деда, как от мухи, и не сводя глаз с жеребца. – Чей красавец этот, атаманский?
– Ишь ты, угадал… – удивленно фыркнул старик. – Ты, нечистая сила, не надейся, продавать он не станет. На параде в Ростове не на чем вышагивать будет.
– Сдались вы мне – покупать-то, – задумчиво сказал Илья, заглядывая рыжему в зубы. – Ты, дед, что ль, не знаешь? Все кони наши, их бог для цыган сделал…
Но старик уже побежал, хромая и матерясь, к Мотьке, исчезнувшему под брюхом молодой верткой кобылки, и слов Ильи не услышал.
Когда оба друга вернулись к табору, были уже сумерки. Солнце село, оставив после себя лишь малиновую с золотом полоску на западе, и над курганом, посеребрив степь и медленно текущую воду Дона, взошла луна. Все шатры уже были установлены, и свою палатку Илья увидел растянутой по всем правилам, даже прореха оказалась аккуратно залатанной.
– Настька, ты когда успела-то? Что, и гнедых напоила уже?
– Напоила. – Жена вышла из-за шатра с пустым ведром, поставила его у телеги, присела на корточки у костра, на котором уже бурлил котелок. Рядом, на расстеленной рогоже, были разложены вымытые овощи: картошка, лук, морковь, сморщенная капуста. «Повезло Настьке сегодня…» – мельком подумал он, вставая и глядя в черную степь.
– Ты ужинать не будешь? – обеспокоенно спросила Настя.
– Потом, – не поворачиваясь к ней, сказал Илья. – Пойду казацких коней гляну, в ночное уже выгнали. Да не вскидывайся, я с Мотькой.
Настя уронила ложку, да так и не подняла. Илья давно ушел, а она все стояла на коленях у гаснущего костра, вся вытянувшись, прижав руки к груди и крепко зажмурившись. И не открыла глаз, когда на плечо ее легла мокрая от росы ладонь подошедшей Варьки.
– Ну, что ты… – тихо сказала Варька, садясь рядом. – Может, обойдется еще.
– Не обойдется, – сквозь зубы ответила Настя. – Раз коней пошел смотреть – не обойдется. Ты и сама знаешь. Четвертый раз уже, господи… Не ходил бы, бог троицу любит, три раза повезло, а сейчас… – она всхлипнула, не договорив.
Варька только вздохнула. Конечно, она знала. И в четвертый раз за это лето видела, как замирает, мгновенно побледнев, Настя, когда Илья с Мотькой вдруг усаживались вечером у огня и начинали негромко толковать о чем-то. Варька понимала: невестка едва сдерживается, чтобы не кинуться к Илье, не закричать – брось, не ходи, не надо… Но вмешиваться в дела мужа – еще хуже, чем не уметь гадать. И Настя молчала. А когда Илья уходил вместе с Мотькой, тихо, не поднимая глаз, говорила: «Дэвлэса…» И до утра тенью ходила вокруг шатра, ворошила гаснущие угли, до боли в глазах всматривалась в затуманенную дорогу, вслушивалась в каждый шорох, в шелест травы, в попискивание ночных птиц… Варька сама беспокоилась не меньше, но, понимая, что если они с Настькой начнут бродить у костра вдвоем, будет лишь хуже обеим, она твердым шагом шла в шатер и до утра притворялась спящей. Иногда они раскидывали карты, утешали друг дружку: «Видишь – красная выпала! Видишь – туз бубновый! Это к счастью, скоро явятся!» Но мужья не возвращались наутро, и табор двигался с места без них. Их не было по два-три дня, последний раз – целую неделю, и Настя за эту неделю чуть с ума не сошла. Она не плакала на людях, но изо дня в день все больше становилась похожей на безмолвное привидение, и цыганки искренне жалели ее.
– Надо же было попасться так бедной! Единственного конокрада на весь табор найти и за него замуж выскочить!
Действительно, других лошадиных воров, кроме Ильи, в таборе не было. Мотька почти всегда помогал ему, но не чувствовал этой неистребимой страсти, доходящей до безумия, когда во что бы то ни стало, любой ценой, хочется обладать приглянувшейся лошадью. Гораздо лучше Мотьке удавалась продажа и мена: на ярмарке в лошадиных рядах он превосходил самого себя. Но Илья был ему друг, и Мотька шел за ним не задумываясь.
В конце концов они оба появлялись: запыленные, голодные, но довольные сверх меры, дважды – с украденными лошадьми в поводу и с деньгами от продажи, один раз – без того и другого, но с целыми руками и ногами. Это означало, что вовремя успели убежать, что тоже было неплохо. Если конокрадам везло, то Илья, смеясь, накидывал на плечи еще бледной жены дорогую шаль, бросал ей на колени кольцо с огромным камнем или разматывал отрез шелковой материи.
– Держи, Настька! Царицей будешь у меня!
Она улыбалась сквозь слезы, благодарила, понимая, что на них сейчас смотрит весь табор и нельзя вести себя иначе. Но ночью, когда муж входил к ней под полог шатра, с едва слышимым упреком спрашивала:
– Угомонишься ты когда-нибудь, Илья?
– Да брось ты… – он падал рядом с ней на перину, закрывал ей рот торопливым поцелуем. – Соскучился я как по тебе, Настька… Господи, какая ты… Умру – вспоминать буду… В рай не захочу…
– Пустят тебя в рай, как же… Да подожди, не дергай… Илья! Я сама развяжу! Ну что же это такое, сам дарил и сам рвешь?! Илья! Ну вот, опять конец шали… Третья уже, бессовестный!
Илья хохотал, Настя тоже смеялась, обнимала его, с облегчением вдыхала знакомый запах полыни, дегтя и конского пота и думала успокоенно: ну, что делать? Какой есть… Другого все равно не будет, да и не надо. Годы пройдут – может, уймется.
– …Когда собираются, знаешь? – спросила Настя.
– Скажут они… – мрачно усмехнулась в ответ Варька. – Подожди, как сниматься с места будем – так все и узнаешь. Пока табор здесь стоит, не станут. А может, и вовсе передумают за это время. Казаки – злые, за своих коней убьют на месте.
Настя, как от мороза, передернула плечами, но ничего не сказала. Табор собрался трогаться в путь шесть дней спустя, когда прогремевшая наконец гроза оживила выжженную степь и прибила пыль на дороге. Между шатрами забегали женщины, убирая в мешки посуду, сворачивая ковры и одеяла, сгоняя к телегам детей. Настя возилась у своей палатки и украдкой поглядывала через плечо на мужа, который стоял рядом с дедом Корчей и что-то вполголоса говорил ему, показывая на овраг у самого хутора. Возле них стоял Мотька и внимательно слушал разговор. Сердце дрожало, как испуганная птица в руке, глаза то и дело застилали слезы, и Настя машинально вытирала их рукавом, продолжая связывать узлы и носить в телегу подушки.
У соседнего шатра суетилась Варька. Она не плакала, но губы ее были сжаты до белизны, а глаза упорно смотрели в землю. Настя подумала, что Варька, как и она сама, чует неладное, и от этой мысли еще сильней заболело сердце. Никогда она не мучилась так своей тревогой. Видит бог, обреченно думала Настя, в третий раз сворачивая словно назло выпадающую из рук рогожу, видит бог – кинулась бы в ноги ему, вцепилась бы, раскричалась… если бы польза от этого была. Оторвет ведь, рявкнет и все равно уйдет. Цыган. Таборный. Конокрад. Вот оно, счастье твое, глотай и не давись…
Наконец увязались, собрались, расселись по телегам. Уже вечерело, из-за смутно темнеющего в сумерках кургана показалась новая туча, грозно посвечивающая сиреневыми сполохами зарниц, тихо рокотал далекий еще гром. Степь замерла, притихла: ни порыва ветерка, ни шелеста травы. Загустевший воздух давил, как слежавшаяся перина. Одновременно свистнуло несколько кнутов, заскрипели трогающиеся с места колымаги, запищали дети, залаяли собаки – и табор медленно пополз по дороге, на которой через полчаса остались только двое всадников.
Из-за тучи, обложившей небо, сумерки мгновенно стали ночью. Лошади в оглоблях цыганских телег тревожно ржали, мотали головами, но цыгане вновь и вновь понукали их: нужно было отъехать как можно дальше от казацкого хутора. Вскоре дед Корча повернул на едва заметную тропку, уводящую от главной дороги и сползающую к Дону. Старик знал это место: здесь река мелела, делаясь по колено лошадям, и можно было полверсты пройти по воде, а потом распрячь коней, провести их по крутому берегу, вкатить туда же на руках телеги и выбраться на дорогу к Новочеркасску, окончательно запутав следы. Цыганские телеги одна за другой сворачивали в степь, и цыгане задирали головы к туче, радуясь близкому дождю, который залил бы след на дороге.
Телеги оставшихся возле хутора конокрадов ползли последними. Варька гаркнула на своих лошадей, рванула вожжи, заворачивая вслед за табором. Высунувшись наружу, крикнула:
– Настька, справляешься? Не помочь?
– Ничего… – отрывисто донеслось из темноты.
Варька кивнула, снова натянула вожжи, ее телега заходила ходуном и покатилась, понемногу выравниваясь, за остальными. К лошадям мужа Варька до сих пор не привыкла, да и те неохотно слушались ее, то тянули вперед, то, напротив, останавливались, сердито косясь на неопытную возницу, и она была поглощена только одним: не допустить, чтобы норовистые ведьмы опрокинули колымагу. Поэтому Варька не заметила, как остановилась на обочине дороги Настина телега, и не услышала, как она, скрипнув, медленно начала разворачиваться.
…Когда Варька спросила, не нужно ли помощи, Настя ответила наугад, бешено дернула вожжи – и тут же бросила их. Гнедые сразу встали, а Настя, схватившись за голову, беззвучно заплакала. Табор уползал вперед, скрываясь в темной степи, а Настя сквозь слезы смотрела на растворяющиеся во мгле телеги, отчетливо понимая, что с места больше не тронется. Пусть потом убьют, но никуда она не поедет – с каждым шагом, с каждой верстой дальше и дальше от мужа. Тревога росла, грудь болела все сильней, и наконец Настя, не вытирая слез, намотала вожжи на руки и с силой дернула правую.
– Поворачивай! Поворачивайте, проклятые!
Она отчаянно боялась, что Варька обернется и увидит ее самовольный маневр, но табор уехал далеко, и никто не окликал ее, не кричал сердито, и даже скрипа телег уже не было слышно. Она осталась одна в черной степи, то и дело смутно озаряемой молниями. Со стороны Дона доносился беспокойный гомон каких-то птиц, которым подходящая гроза не давала уснуть. Близкий курган в свете вспышек казался страшным горбатым зверем, беззвездное черное небо давило сверху.
– Шевелись, дохлятина! – хрипло закричала Настя.
Гнедые рванули с места, и телега, трясясь, скрипя и подпрыгивая на кочках, понеслась обратно к хутору. Намотанные на руки вожжи рвали суставы, Настя скрипела зубами от боли, не замечая бегущих по лицу слез, задыхаясь от душного, бьющего в лицо воздуха, стараясь не думать о том, что произойдет, если телега перевернется и летящие во весь опор гнедые запутаются в упряжи. Туча уже обложила все небо, молнии разрывали темноту прямо над головой Насти, но дождя еще не было. Первые капли ударили в разгоряченное лицо в полуверсте от хутора, Настя поднесла локоть к лицу – утереться, – и как раз в это время ударил такой раскат грома, что, казалось, дрогнула степь. Испугавшиеся гнедые завизжали почти человеческими голосами, рванули влево, телега начала заваливаться набок, и Настя, не успев выпутать руки, полетела вместе с ней.
Упав, она тут же вскочила на колени, потом – на ноги. Руки, перетянутые вожжами, сильно болели, но были целы, да еще саднила разодранная о сухую землю коленка. Распутывать упряжь и освобождать хрипящих лошадей Настя не стала, выбежала на дорогу и со всех ног помчалась к оврагу, на бегу стягивая платком волосы.
…Илья уже больше двух часов сидел в овраге. Со стороны хутора доносились пьяные песнопения, рявканье гармони, топот ног, ругань казаков: справляли третий Спас, к которому была приурочена какая-то местная свадьба. Над головой суматошно носились, кричали птицы, всполошенные грозой, шелестел растущий на обрывистых склонах лозняк. Плотный, душный воздух можно было, казалось, разрезать ножом. Рядом, в кустах, зашуршало. Илья напрягся было, но это возвращался Мотька, с полчаса назад уползший на разведку. Съехав на животе по склону оврага, он с досадой потер оцарапанную щеку и шепотом доложил, что ребятня, сторожащая лошадей, частью сбежала в хутор смотреть на игрища, а частью забралась в курень, прячась от надвигающейся бури.
– Пора бы, морэ…
– Ох, подождать бы еще, – проворчал Илья. – На рассвете мне привычней как-то… Да и перезаснут они все.
– А ежли нет? Ежли сейчас так загремит, что не до сна будет? И кони разволнуются, не враз подойдешь… – хмурился Мотька.
Он был прав, и Илья, отгоняя невесть откуда взявшееся беспокойство, глубоко вздохнул и встал.