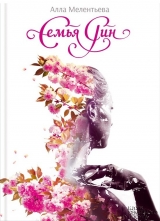
Текст книги "Семья Рин"
Автор книги: Алла Мелентьева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 4
В начале сорокового года мать и мы, повзрослевшие дети семьи Коул, стоим у могилы отца.
Отец умер от сердечного приступа. Его компания выделила матери пенсию. Мы стали жить скромнее. Наши планы на будущее поменялись. Теперь, когда отца не было с нами, отъезд в Америку был отложен на еще более неопределенный срок, хотя сотрудники американского консульства настойчиво рекомендовали нам покинуть Китай из-за ухудшающейся политической обстановки. Но как нам было решиться на отъезд? Мы считались американцами только по документам, никогда не видели Америки, и мать отнюдь не жаждала на старости лет куда-то ехать и вновь кардинально менять жизнь. Вполне возможно, мы так и прожили бы в Шанхае до сегодняшнего дня, если бы мировая история повернулась по-другому.
Александр и Лидия поступили в университет Аврора. Анна готовилась к сдаче экзаменов на лицензию учительницы. Я заканчивала школу.
Этот период взросления запомнился мне тем, что жить становилось как-то неуютно, словно удобное и обжитое, но замкнутое пространство детства стало то тут, то там расходиться по швам, а в прорехи моего мирка начал врываться извне холодный воздух реальной жизни.
Господин Евразиец стал намного чаще появляться в нашем доме, помогая привести в порядок дела, совсем разладившиеся после смерти главы семьи.
– А ты знаешь, что китаёза давно спит с нашей матерью? – спросила меня Лидия со своей обычной жестокой прямолинейностью примерно через полгода после похорон отца.
Она достаточно хорошо меня знала и отлично понимала, что это сообщение разрушит мое по-детски наивное представление о матери и ее отношениях с отцом. Лидии нравилось разбивать мои иллюзии и с грубым злорадством наблюдать, как я молча мучаюсь. На фоне не по возрасту искушенных сестер я всегда выглядела инфантильным мечтательным подростком. Ни Лидия, ни Анна не упускали случая безжалостно высмеять мою боязнь реальности.
– Это неправда. Это невозможно, – сказала я Лидии, имея в виду, что мать и господин Евразиец слишком разные и не могли бы найти никаких точек соприкосновения.
Лидия издевательски фыркнула.
– А кто, по-твоему, оплачивает наше обучение?
Только после ее слов я начала задумываться над тем, на какие средства мы живем. В самом деле, пенсии отца не хватило бы, чтобы покрыть все наши расходы.
– Как можно быть такой наивной? Все давно знают, что они любовники. Мать спала с ним, еще когда отец был жив, – добавила Лидия. – Два года назад я случайно подслушала под дверью, что они вместе вытворяли…
– Не надо мне это рассказывать! Ничего не хочу знать! – вскрикнула я с ужасом и отвращением.
Лидия грубо рассмеялась.
– Когда ты наконец повзрослеешь, дурочка? – сказала она.
Я была ошеломлена. Слова Лидии перевернули координаты моего мира, как будто раздвинулись декорации на сцене театра, аза ними обнаружились другие декорации, и не было гарантии, что за этими другими декорациями не найдутся третьи, четвертые – бесконечное количество. Моя простушка мать и невзрачный господин Евразиец сразу стали пугающе сложными и многомерными личностями. Мои брат и сестры стали сложными. Я тоже в один миг превратилась в сложную и непонятную самой себе.
Вопросы секса были табуированы в нашей семье. Я всегда считала, что мать интересуется только домашним хозяйством и нами, а она, оказывается, тайно изменяла отцу и вела себя как шлюха, когда оставалась за закрытыми дверями с господином
Евразийцем, и об этом, похоже, знали все, кроме меня, возможно, даже отец знал, но делал вид, что не знает, потому что «этот китаёза» покрывал его долги. А господин Евразиец в один миг превратился из тихого никчемного человечка в расчетливого и похотливого злодея, который держал нас всех на крючке, хотя нет, жизнь сложна, и даже злодеем я не имею права его называть, потому что он оплачивает наше обучение, и мы все, как выяснилось, живем за его счет, и, получается, мы не менее никчемны и расчетливы, чем он. А мои сестры и брат! Тоже хороши! Они все знали и продолжали вести себя как обычно, вместо того чтобы сделать хоть что-то, что вернуло бы ситуацию в русло приличий, хотя бы чисто внешне возмутиться, оскорбиться, высказать все в лицо матери и господину Евразийцу!
А как насчет меня самой? Способна ли я что-то поменять, добиться, чтобы мать разорвала эти порочные отношения? «Может, мне следует уйти из дому, порвать с семьей, забыть о ней навсегда и жить самостоятельно?» – размышляла я. Но в этом месте мои рассуждения натыкались на очень неудобные мысли о том, как я собираюсь жить одна и где взять денег, чтобы осуществить свой благородный замысел. Прокрутив несколько раз в голове этот план, я пришла к выводу, что гораздо легче закрыть на все глаза и оставить как есть. Я с горечью и стыдом поняла, что я такая же конформистка, как мои сестры и брат. Юношество из среднего класса ведь вообще всегда склонно к конформизму.
После того разговора с Лидией я ни с кем больше не обсуждала отношения матери и господина Евразийца и ни разу не замечала, чтобы брат или сестры были настроены поднять этот вопрос. Мы все, не сговариваясь, решили, что обеспеченная жизнь стоит выше условностей. Я думала, что умру от стыда за свое жалкое приспособленчество, однако нет – я продолжала жить, как ни в чем не бывало. Кроме того, я даже иногда жалела, что не позволила Лидии рассказать мне, что именно она подслушала под дверью, когда застукала мать и господина Евразийца вместе.
Летом сорок первого года после нескольких лет ухаживаний за Анной Николя Татаров неожиданно женился на другой девушке. Это разбило сердце не только Анны, но и матери. Анна устраивала истерики, мать плакала вместе с ней и разругалась навсегда с Марией Федоровной. Но если Анна могла себе позволить сколько угодно убиваться над крушением своих надежд, матери пришлось отвлечься на новые проблемы, так как господин Евразиец сообщил ей, что положение западных экспатриантов в Китае становится слишком ненадежным, и предложил нам уехать вместе из Шанхая в Америку, куда он уже перевел часть своего бизнеса.
Мать взяла себя в руки и отодвинула трагедию с Татаровыми на задний план. Она была практичной женщиной и поняла, что нужно уезжать. Это была необходимая мера. Иностранные концессии с каждым днем приобретали все больше черт осажденной крепости. Замужество с Николя не состоялось, нельзя было потерять еще и господина Евразийца. В конце ноября сорок первого года мы стали собираться в дорогу.
Решено было ехать через Австралию, и господин Евразиец зарезервировал нам всем билеты, но в конце ноября вдруг позвонили из пароходной компании и сообщили, что придется подождать еще неделю-другую, так как на кораблях нет мест. Это был тревожный знак, которому мы все не придали особого значения.
Всю следующую неделю мы жили на чемоданах в ожидании рейса в Австралию. Это было невыразимо скучное и беспокойное время. Мы, словно узники, сидели целыми днями в квартире среди тюков и чемоданов. Вся мебель была продана. Нам некуда было идти, у нас больше не было никаких дел в городе, да и мать не разрешала отлучаться надолго, так как в любую минуту могли позвонить из агентства и сообщить, что пароход прибыл. Мать нервничала и то и дело принималась плакать, жалуясь на свою несчастную судьбу. Лидия и Анна ссорились от скуки и изводили меня придирками. Александр от нечего делать спал по двенадцать-четырнадцать часов. Единственным развлечением были старые журналы и радиоприемник. Изредка заходил господин Евразиец, и все кидались к нему с надеждой, что сейчас он объявит о прибытии парохода и скажет, что пора ехать на пристань. Но господин Евразиец каждый раз говорил, что следует еще подождать, а он заглянул лишь на пару минут, чтобы узнать, все ли в порядке, и удостовериться, что мы готовы к выходу в любую минуту.
Когда он долго не появлялся, мать, беспокойством доводя себя до исступления, заставляла нас переупаковывать вещи. Я пользовалась моментом и спрашивала, не надо ли купить еще что-нибудь в дорогу в лавке на соседней улице. Она давала мне немного денег и посылала за покупками, приказав ни в коем случае нигде не задерживаться. Я радовалась этим кратковременным отлучкам из квартиры, превратившейся в тюрьму, как маленькому празднику.
Я помню, как в один из этих дней я выхожу с покупками из лавки и медленно иду по только что выпавшему, но уже тающему снегу не в сторону нашего дома, а в противоположную. Я хочу дойти до перекрестка, прогуляться, подышать свободой, забыть на несколько минут об унылом сидении в закрытом помещении. Потом я медленно возвращаюсь. Из соседнего дома выносят мебель – соседи толи переезжают, толи собираются уезжать навсегда, как и мы.
Дверь в нашу квартиру не заперта – ее забыли закрыть, когда я уходила. Мать, брат и сестры суетятся над грудами тюков. Мать – сама энергия, но ее активность болезненная, на грани истерики. Она порывается куда-то, но спотыкается об угол большой коробки.
– Запакуй же, наконец, эту коробку, Лида! – нервно кричит она. – Господи, какие все бестолковые!
Я незаметно вхожу, стараясь не привлекать ее внимания. Но она замечает меня.
– Ирина! Где ты была так долго? Ты купила, что я велела?
– Да, мама, – говорю я, начиная раскладывать покупки на полу – стола-то нет.
Мать забывает обо мне, поворачивается к Анне:
– Анна, проверь еще раз документы. Документы – самое главное. Боже мой! Как тяжело все делать самой! – Она коротко всплакивает, но тут же берет себя в руки и снова пристает к Анне: – Проверь еще раз, чтобы ничего не пропало, не потерялось. Проверь. Оставь все и проверь.
– Десятки раз уже проверяла! – огрызается Анна, со злостью бросает тюк, который зашивала, и начинает перебирать пачку наших дорожных документов.
В такой бесцельной деятельности мы изнывали еще несколько дней. Однажды рано утром мы все в ужасе проснулись от непрекращающихся звонков в дверь. За окнами было еще темно. В квартиру ворвался господин Евразиец и сказал, что у нас есть пять минут, чтобы собраться. Он потребовал брать с собой как можно меньше вещей – только самое необходимое.
– Как? Почему? – спросила мать, заикаясь от волнения и испуга. – Как можно бросить вещи? Что случилось, Оливер?
– Перл Харбор атакован, – кратко сказал господин Евразиец и уточнил: – Война, началась война, Элизабет.
Мы были оглушены этой новостью. Мы знали, мы предполагали, что будет война, но мы все равно не были готовы к ней.
Господин Евразиец сообщил, что на одной из пристаней находится торговое судно «Розалинда», готовое взять на борт беженцев-экспатриантов. Он договорился с капитаном, и тот уже внес нас в списки.
Мы быстро собрались. Двое китайцев, которых привел господин Евразиец, помогли нам вынести вещи и загрузить их в один из двух автомобилей, ожидавших у ворот. За рулем машин были господин Евразиец и подручный китаец.
Пока мы ехали, господин Евразиец шепнул матери, что взнос за пропуск на судно составляет пятьсот долларов за человека, это огромные деньги. Услышав, какую сумму он уплатил за нас, мы вдруг в один миг осознали, как на самом деле богат и влиятелен этот невзрачный человечек, похожий на школьного учителя.
Часть вещей все же пришлось бросить, так как для них не хватило места в автомобилях. Мать не могла с этим смириться и тихо причитала, пока мы ехали к пристани. Однако когда мы добрались туда, где стояло судно, мы поняли, что придется оставить еще половину багажа. К небольшому невзрачному кораблю, качающемуся на волнах, вели длинные узкие мостки, сделанные из деревянных настилов, наброшенных на торчавшие из воды сваи. По ним можно было пройти лишь один раз, потому что время поджимало и ни толпа на пристани, ни капитан не позволили бы пассажиру сделать второй заход. Тот, кто собирался подняться на борт, мог пронести только то, что держал в руках.
Площадка у сходней была оцеплена вооруженными членами команды. У импровизированного пропускного пункта собралось огромное количество людей с горами чемоданов и ящиков.
Другой подручный господина Евразийца уже ждал нас на пристани. Он и господин Евразиец проложили нам путь к месту в очереди тех, кто оплатил проезд и попал в список. Мы старались держаться в давке как можно ближе друг к другу. Мы стояли среди взбудораженной толпы и вдруг поняли, что вокруг полно людей, которые не попали в списки, и они либо не знают, что такие списки существуют, либо знают, но все равно надеются, что их возьмут на борт. Это было страшное открытие. Оказалось, даже громадные деньги, которые заплатил за нас господин Евразиец, не гарантировали попадания на судно – ибо в любой момент кто-то более агрессивный и сильный мог оттереть нас и занять наши места.
Господин Евразиец, мать и Александр – впереди. Еще когда господин Евразиец рассчитывался у автомобиля с китайцем, который держал ему место в очереди, мать распределила между нами, кому какие вещи нести. Александр должен помогать господину Евразийцу втаскивать на корабль самые тяжелые тюки. Анна и мать держат за ручки большой чемодан. У меня и у Лидии в руках несколько узлов из сшитых вместе простыней; когда я устаю держать свои узлы на весу, я ставлю их на землю, но ненадолго, потому что очередь движется непредсказуемо и, если я зазеваюсь, их растопчут и запинают те, кто подступает сзади.
Во время передышки, когда я освобождаю руки, я стараюсь осмотреться. За нами стоят мужчина и женщина, по-видимому, муж и жена. Женщина держит в руках чемоданы, мужчина крепко сжимает ручки инвалидного кресла, в котором сидит сгорбленная старуха. За ними я различаю женщину, которая держит в руках мелкую собачонку – это ее единственный груз. У собачонки и у старухи в кресле одинаково испуганный взгляд.
Мать впереди все время тревожно оглядывается на нас с Лидией.
– Стойте вместе! – кричит она нам. – Лидия, возьми Ирку за руку. Не отпускай ее от себя.
Лидия фыркает.
– Как я возьму ее за руку, мама? У меня только две руки – и те заняты.
Наконец мы добираемся до площадки, где человек с судна проверяет документы и сверяет их со списком. Я напряженно смотрю вперед: господин Евразиец предъявляет свои бумаги человеку, проверяющему документы, потом, указывая на нас, что-то говорит. Человек со списком кивает, делает знак, чтобы мы проходили.
Господин Евразиец и Александр тащат по деревянным мосткам наш багаж. За ними мать и Анна, напрягая все силы, волочат большой чемодан. Затем приходит очередь Лидии вступить на длинную деревянную дорожку к судну. Я немного замешкалась – один из моих узлов развязался, и несколько предметов выпало наружу. Я торопливо собираю содержимое. Лидия, отойдя немного, оборачивается, обеспокоенно глядя на меня.
– Эй, что у тебя там? Побыстрее, поторопись, – говорит она.
Это были последние слова члена моей семьи, которые я услышала, прежде чем расстаться с родными навсегда. Самые последние слова. Я много раз рефлексировала над ними впоследствии, вкладывала в них то одно, то другое значение, но так и не разгадала их сакральный смысл. А ведь сакральность непременно должна была присутствовать – это же были последние слова перед расставанием.
Тем временем я еще немного отстаю в очереди, а Лидия со своими узлами уже далеко. Рядом со мной человек с «Розалинды» уже проверяет бумаги семьи с инвалидным креслом и дает им разрешение продвигаться. Мужчина завозит кресло на деревянные мостки, но тут вдруг что-то идет не так: то ли сдвигается настил, то ли съезжает колесо – и кресло, накренившись, начинает медленно падать. Мужчина отчаянно пытается удержать то кресло, то старуху, беспомощно сползающую с него. Его жена вскрикивает, роняет вещи и бросается всем телом на вторую половину кресла, чтобы своим весом хотя бы затормозить падение.
Мужчина со списком вовремя поспевает им на помощь. Кресло благополучно вытягивают на деревянный настил, но становится ясно, что катить его слишком опасно – его можно только нести.
Толпа за моей спиной начинает волноваться сильнее.
– Ты постой тут за меня, Гарри. Придется мне тащить эту старую каргу. Почти всех своих уже взяли, смотри лишних не бери, – говорит мужчина со списком другому члену команды. Он сует ему список и подхватывает кресло сзади, помогая родственнику старухи продвигаться к кораблю.
Гарри быстро просматривает список. Женщина с собачонкой предъявляет ему свои бумаги, он кивает и пропускает ее. Я собираюсь пройти за ней, но Гарри вдруг останавливает меня, грубо хватая за плечо.
– Эй, вы кто, барышня? – спрашивает он меня.
– Я Ирэн Коул. Семья Коул. Я есть в списке, – объясняю, растерявшись, я.
Гарри опять смотрит в список.
– Коул уже на борту, – заявляет он.
– Но как же?.. Я… Я задержалась… Я…
– У вас есть документы? – перебивает он. И оттирает меня в сторону, начиная проверять по списку других людей из очереди.
Я принимаюсь лихорадочно рыться в вещах в поисках своих бумаг, опять развязываю узел. Меня толкают и пинают со всех сторон, но я не замечаю этого. Паспорта нигде нет. Тут я вспоминаю, что он, кажется, остался у Анны вместе с остальными документами. Но Анна уже на корабле. Все наши уже на корабле.
Сразу после женщины с собачкой на сходни вступают несколько человек, тянущих с собой громоздкие предметы. Из-за этого продвижение очереди опять тормозится, и перепуганная задержкой толпа наседает все сильней. Среди беженцев молниеносно проносится слух, что погрузка заканчивается, и люди начинают паниковать. В полном замешательстве я делаю попытки снова приблизиться к Гарри, чтобы объяснить, что произошло, но меня отталкивают все дальше и дальше от пропускного пункта. Чтобы добраться до Гарри, мне нужно тоже изо всех сил толкать и пинать всех на своем пути, а я совершенно не в состоянии это делать. Я не умею это делать. Мне всегда было легче уступить, чем кого-то намеренно толкнуть.
Меня вытесняют за ограждение, где я и стою в растерянности, время от времени отшатываясь от наплыва людей.
Вооруженные моряки едва сдерживают теряющих голову беженцев. Я вижу, как Гарри делает знаки в сторону лодки, которая дрейфует рядом с мостками. Лодка быстро подплывает. Пока Гарри и другие люди с судна запрыгивают на корму, двое моряков на носу лодки ловко подхватывают и сталкивают вниз фрагмент деревянного настила, так, чтобы перерезать путь к судну обезумевшим беженцам. Затем лодка уходит к судну.
Толпа продолжает наседать. Люди сзади не видят, что проход невозможен, и продолжают напирать на тех, кто впереди. Двух-трех человек выдавливают в проем между сваями. Наблюдая за этой сценой, я воочию убеждаюсь, что моя обычная податливость и неспособность к сопротивлению в первый раз в жизни сыграли мне на руку и уберегли от смерти или увечья: ведь если бы я, проявив настойчивость, сумела пробиться к тому месту, где стоял Гарри, меня бы сейчас тоже снесло в ледяную воду.
Но эта мысль не задерживается у меня в голове. Я стою и, отупев от растерянности, смотрю на «Розалинду», качающуюся уже довольно далеко от берега.
«Эй, постойте, а как же я? Вы забыли меня! Вернитесь!» – ошеломленно бормочу я, но шум толпы полностью перекрывает мой голос, и я замолкаю, понимая, что в этом нет смысла. И просто стою в глупой надежде, что сейчас что-то произойдет, возможно, мать и господин Евразиец уговорят и подкупят капитана и меня каким-то чудесным образом возьмут на борт. Умом я понимаю, что это конец и у меня уже нет никаких шансов попасть на корабль, но эмоционально я еще не способна реагировать на катастрофу.
«Розалинда» ушла. С нее доносились чьи-то бессвязные крики, может быть, это кричала мать. Я стояла и наблюдала, как судно медленно удаляется, еще не понимая, что его уход навсегда изменил мою жизнь.
Глава 5
К вечеру я вернулась во Французскую концессию. Я совершенно выбилась из сил, добираясь до нашего дома из неизвестной мне части Шанхая. Я несколько раз забредала не в ту сторону, потому что плохо понимала китайцев, объяснявших мне дорогу. Я приволокла с собой обратно узлы с вещами. Они промокли и потемнели от грязи, и, как ни тяжело мне было их тащить, я ни за что не хотела их бросать, так как это было теперь мое единственное имущество.
Дверь в квартиру была открыта – ее не заперли в спешке. В округе, похоже, как-то узнали о нашем отъезде, и кто-то уже наведался, потому что большая часть брошенных нами вещей была вынесена, а оставшиеся валялись как попало. Но наша аренда истекала только в конце декабря, и, значит, на некоторое время у меня была крыша над головой.
Я бросила узлы у входа и просто упала на них ничком в полном изнеможении. От усталости и шока у меня не было никаких мыслей, не было даже эмоций. Я заснула, не позаботившись запереть входную дверь.
Спала я, видимо, долго. Вдруг дверь отворилась, и я с замирающим сердцем увидела, как входят мама, брат и сестры, таща за собой тюки и чемоданы.
Я радостно бросаюсь к ним.
– Я знала, что вы все вернетесь! – кричу я в ликовании.
– Ира! Ирина! Ну наконец ты нашлась! Ах, как мы переживали!.. – наперебой кричат Александр и Лидия, бросаясь ко мне.
– Ну и хлопот ты нам задала! – мрачно тянет Анна. – Нам пришлось сойти на берег… Господин Евразиец потратил из-за тебя целое состояние…
– Ох, слава Богу, слава Богу, нашлась, наконец нашлась деточка моя… – восклицает мать, пыхтя и охая от слишком быстрой ходьбы.
Я облегченно вздыхаю. Страшное приключение закончилось, ужас одиночества позади!
– Раз уж мы никуда из-за тебя не уехали, нужно поторопиться, чтобы хорошенько приготовиться к празднику, – вдруг говорит мать странным, немного раздраженным тоном.
Меня удивляет, что ее настроение так резко изменилось. Я совершенно не понимаю, о каком празднике она говорит.
– Праздник? О чем ты, мама?
Мать, больше не замечая меня, хлопает в ладоши и командует:
– Побыстрее, девочки, Александр, поторопитесь! Сегодня у Ирины совершеннолетие!.. Приготовьте все как следует! Все-таки у нас приличный дом… Мы все должны сделать, как положено… Быстрее, быстрее, ну же!..
Я с изумлением вижу, как у матери, брата и сестер в руках возникают какие-то предметы, похожие на подарки ко дню рождения, – торт, свечи, какие-то красивые коробки. Они деловито начинают раскладывать эти вещи на видных местах. Они совсем не обращают внимания на меня, как бы кружатся вокруг меня в странном безумном хороводе. Осознавая, что происходит что-то ненормальное, я прихожу в ужас, пытаюсь их остановить, пытаюсь обратиться к каждому с просьбой перестать меня пугать, но голос мне не подчиняется. Мое горло сковали спазмы рыданий.
– Дети, нам пора идти, – говорит мать тем же странным отчужденным тоном. – Ирина теперь обойдется без нас…
Мать, брат и сестры плавно обходят меня и вереницей, не оглядываясь, покидают квартиру. Я, задыхаясь от слез, мечусь, пытаясь их остановить – и просыпаюсь, частично успевая услышать саму себя, когда, плача во сне, по-русски и по-английски умоляю своих родных остаться:
– Мама!.. Мамочка!.. Не надо!.. Пожалуйста, не надо… Куда же вы?..
В пустой квартире темно. Я села на узлах и стала вытирать ладонями мокрые глаза. Я не знала, что делать дальше. Я боялась заснуть, потому что боялась нового кошмара, и мне так же страшно было бодрствовать, потому что реальность – это кошмар наяву. Я казалась себе самым жалким и нелепым человеком на земле. Разве не нелепо было с моей стороны не успеть вовремя подняться на борт «Розалинды»? Мне хотелось исчезнуть, умереть. Мне было холодно и страшно.
Через некоторое время я кое-как стряхнула с себя оцепенелую обреченность, включила свет и принялась проверять, что находится в тюках, которые я притащила с пристани. Там обнаружилось немного булочек и фруктов, при виде которых я вспомнила, что страшно голодна. Еда немного приободрила меня. Я начала отбирать из вещей те, которые должны пригодиться мне в первое время, и строить планы, как жить в мире, где для меня нет места.
В юности многие беды кажутся преодолимыми. На следующее утро я начала искать способы выжить – до тех пор пока мои родные не вернутся и не заберут меня. Я не сомневалась, что нужно лишь недолго продержаться – и все будет как прежде.
Я привела себя в порядок, насколько это было возможно в моих жалких условиях, и стала обходить наших русских знакомых с просьбой если не приютить, то хоть чем-нибудь помочь мне. У меня было три адреса, куда я могла обратиться: одной богомольной русской старушки, с которой дружила мать, семьи конторщика, которому мать однажды помогла собрать деньги на лечение ребенка, и своей школьной подруги.
Старушка-богомолка выпроводила меня сразу, как только узнала, что случилось. Она быстро сообразила, что к чему, и не захотела связываться. Правда, она усиленно крестила меня, когда вела к дверям, сердечно желала, чтобы мои невзгоды поскорей прошли, и сунула булочку на дорогу. Как ни горько мне было, от булочки я не смогла отказаться. Конторщик даже не пустил меня в квартиру. Он подозрительно смерил меня взглядом с головы до ног, выслушал и кратко отказал в помощи прямо на пороге. По адресу семьи школьной подруги проживали теперь какие-то другие люди, которые не знали, куда переехали предыдущие жильцы.
Исчерпав все свои знакомства, растрепанная, измученная и голодная, я бесцельно стояла на улице с оттягивавшими руки вещами – их приходилось носить с собой, потому что иначе их могли украсть – и размышляла, не стоит ли поискать помощи у Татаровых, даже несмотря на то, что мать и Мария Федоровна стали врагами после женитьбы Николя. Я больше не знала никаких других возможностей. Если и Мария Федоровна откажет, думала я в отчаянии, то, скорее всего, я кончу тем, что свалюсь и умру от истощения где-нибудь на улице или начну торговать своим телом за кусок хлеба, как делали многие нищие белоэмигрантки.
Китаец, наблюдавший за мной из лавки напротив, вышел и сунул мне из жалости лепешку. Когда я ее съела, в голове немного прояснилось. Я вспомнила, что на улице Жофр находился женский католический монастырь, и решила обратиться к монахиням.
В монастыре меня накормили и дали адреса миссионерских обществ Шанхая с советом поискать там работу. На следующий день я стала обивать пороги больниц и религиозных общин. Довольно скоро мне повезло: миссис Янг, руководившая больницей при Южной баптистской миссии, выслушала мою историю, долго о чем-то размышляла, оценивающе глядя на меня, а потом коротко сообщила, что она готова предоставить мне еду и жилье за услуги в качестве уборщицы и прачки. Миссис Янг была женщина властная и немногословная, предпочитавшая держать подчиненных на расстоянии, поэтому я так никогда и не узнала, что побудило ее помочь мне: сочувствие юному существу, оставшемуся без крова на грани гибели, холодное исполнение христианского долга или просто расчетливое желание иметь бесплатную работницу, которой было удобно давать указания, так как она понимала по-английски.
Впрочем, по части расчетливости – если таковая имела место – я не уступила бы миссис Янг. Я вела себя отнюдь не как образцовая «дева в беде», благородная, доверчивая и наивная. Когда миссис Янг оглядывала меня с ног до головы, чтобы выяснить, с кем имеет дело, я, с тревогой ожидая ее решения, изо всех сил старалась выглядеть как можно более несчастной и жалкой, словно какая-нибудь попрошайка или нищенка, которая пытается разжалобить потенциального благодетеля, и, если понадобится, готова была униженно умолять ее оставить меня при миссии. Однако миссис Янг обладала солидным жизненным опытом, чтобы составить представление о моих несчастьях и без моих жалких актерских ужимок; ей было достаточно взгляда на мое осунувшееся лицо, спутавшиеся волосы и измятую одежду.
В любом случае, какими бы мотивами с обеих сторон ни было обусловлено милостивое разрешение миссис Янг на мое проживание при баптистской больнице, для меня это была огромная удача. В противном случае я, скорее всего, очень быстро угодила бы на панель.
Жизнь при больнице была суровой. Я так уставала в первые дни, что часто засыпала одетой, потому что не было сил раздеться. Работать приходилось посменно, перерывы предполагались только для приема пищи и сна. Еда была однообразной, и часто мой обед состоял из миски риса, приправленного щепоткой корицы. Мне выделили место в общежитии. С жившими при больнице простыми бедными китаянками я мало общалась, а белый персонал не обращал на меня внимания, кроме тех случаев, когда нужно было отчитать меня за что-нибудь. Свободного времени не было, если не считать короткие паузы между заданиями и часы затишья во время ночных дежурств. Целыми днями и ночами я только и делала, что драила полы и стены в коридорах и палатах, сортировала и стирала грязные бинты и выполняла другую грязную работу. Но мне не приходило в голову жаловаться на тяжелые условия. Жизнь была, конечно, несладкой, но она была все же гораздо лучше, чем жизнь на улице. И ведь это ненадолго, так что можно и потерпеть, успокаивала я себя, ведь через несколько месяцев война кончится, мама и все вернутся, и все будет как прежде.
Через несколько недель в моей внешности произошли первые преобразования, повлеченные самостоятельной жизнью. Женственность была безжалостно отвергнута ради функциональности. В движениях стало меньше мягкости, но больше точности. Длинные волосы были обрезаны без лишних раздумий. На голове появилась косынка, повязанная наподобие банданы. Я стала одеваться в мужскую одежду и выглядела теперь, как мальчик-подросток.
Когда японцы проводили регистрацию белого населения Шанхая, я честно предоставила властям все сведения о себе и рассказала свою историю как есть. Позднее всем гражданам «враждебных стран» было предписано носить нарукавные повязки со специальными знаками, и тут оказалось, что я не подпадаю под это распоряжение, потому что была зарегистрирована японцами как «незаконнорожденная дочь русской эмигрантки, покинувшей Шанхай со своим любовником-англичанином». Я так никогда и не узнала, зачем миссис Янг убедила японцев в этой версии моего происхождения. То ли она хотела уберечь меня от дальнейших гонений, то ли просто не могла внутренне согласиться с тем, что такое жалкое потерянное существо, как я, лепечущее по-английски с прорывающимся русским акцентом, имело равные с ней права на полноценное американское гражданство.
Самыми счастливыми часами того времени были ночные дежурства. В мои обязанности входила уборка нескольких административных офисов, среди которых был кабинет миссис Янг. Я приходила туда после того, как переделывала все обычные работы. Если справиться с уборкой быстро, то останется немного времени, чтобы включить радио и поискать сообщения о военных действиях. Так как в моем сознании возвращение семьи было тесно связано с завершением войны, можно представить, как жадно я искала такие новости. Но это был тысяча девятьсот сорок второй год, и войне конца-края не было.








