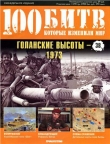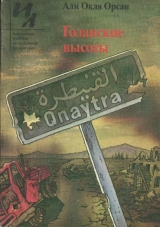
Текст книги "Голанские высоты"
Автор книги: Али Орсан
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Силой из тебя вырвет все, – продолжал следователь. – Пойми, тебе лучше иметь дело со мной. Другому наплевать, что будет с тобой, с твоими детьми. Ты женат, не так ли? И у тебя дети? Тут есть люди, которым безразличны твои страдания, горе твоих детей. Много ли надо, одна пуля – и конец всем твоим мечтам, самой жизни, труп твой вышвырнут на свалку. Не упрямься, погубишь себя понапрасну. Твой бессмысленный героизм никому не нужен. Армия ваша разбита, Израиль взял верх. Будь же благоразумен. Обещаю, тебя освободят и ты вернешься к семье. Подумай сам. Тебе не повезло… Ранение у тебя тяжелое. Мы тебя подлечим, и ты…
Он долго еще говорил, наклонившись ко мне, но я его не слышал. Да, он неплохо знал свое дело, умело нащупывал болевые точки. От жалости к себе я чуть не заплакал, разволновался и сказал ему:
– Ну чего вы хотите от меня? Все, что знал, я уже рассказал вам. У меня провалы в памяти, все забыл – и потрясение, и войну, и свой плен, и ногу, что вы отрезали…
– Ногу! – оборвал он меня сердито. – Да мы тебя от смерти спасли!
– В госпитале при нормальном уходе ногу наверняка сохранили бы. Впрочем, вам до этого нет дела!
– Ошибаешься, к чему нам твои страдания? Это руководителям вашим выгодно, чтоб тебе было плохо…
– Вот как! Интересно…
– Разве не они послали тебя на войну?
– Мы защищаем свою землю от вас, агрессоров.
– Агрессоры не мы, а вы. Руководители ваши все врут, не верь им.
– А разве не вы топчете нашу землю? Я видел тысячи беженцев, они ютятся в палатках.
– Это террористы, преступники!
– И малые дети тоже?
– Ты весь напичкан ложью. Подумал бы лучше о себе…
– Нет, я уже все сказал.
– Советую: не упускай этот случай. Другой возможности, глядишь, и не представится. Я верю тебе и предлагаю свою дружбу. Чего тут долго раздумывать. Это в твоих интересах.
– Не вижу здесь особого смысла, – сказал я.
С трудом сохраняя спокойствие, он встал. По лицу его блуждала фальшивая улыбка. Он приблизился и, оглядев меня с головы до пят, произнес, отчеканивая каждое слово:
– Хорошо, я ухожу. Оставлю тебя с теми, кто положил на тебя глаз. Если понадоблюсь, сможешь меня найти. Так не раз уже было с твоими товарищами. Тоже колебались поначалу, а потом все выложили. Конечно, им «помогли».
Они сами мне потом говорили: «Да, жаль, не послушались мы тебя сразу». Только было уже поздно. Я не требую от тебя ничего сверхъестественного. Стоит мне выйти отсюда, и твой единственный шанс уйдет со мной навсегда.
Подойдя к письменному столу, он спокойно взял пачку сигарет, зажигалку. Лицо его с застывшей улыбкой похоже было на маску. Затем он направился к двери – медленно, ожидая, что я закричу, взмолюсь: не уходи, мол. Сделав шагов пять, он остановился и повернулся ко мне. Открыв дверь, снова помедлил. Я чувствовал его нерешительность. Он хотел было обернуться и заговорить, но сдержался и вышел, захлопнув за собой дверь. Я остался в кабинете. Вскоре я услышал голоса, звучавшие в брошенной на стол телефонной трубке. Мой следователь спорил с кем-то. Вероятно, они забыли отключить аппарат. Человек, с которым он препирался, спрашивал с насмешкой:
– Ну, чего ты добился своими психологическими методами и мягким подходом? Высоко ли оценил возлюбленный твой араб такую гуманность?
– Что ты хочешь, бедняга остался без ноги… А тут еще такое обращение. Вы не очень-то, вижу, с ним церемонитесь…
В ответ раздался хохот:
– Ты находишь мои методы отвратительными, о добрый ангел? Да будет тебе известно, только так и можно чего-то добиться от арабов. Посмотрю-ка я на тебя, когда он выложит все как на духу после двух-трех собеседований со мной. Я эту публику знаю.
– Да, я не одобряю твой метод. Ты действуешь как преступник.
– А ты? Ты ведешь себя как женщина или как изменник. Ты и есть изменник! Думаешь, мы не знаем о твоей любви к арабам и ваших с ними шашнях? Странно, что ты до сих пор еще у нас работаешь.
Затем раздались другие голоса. Я узнал тех двоих, что тащили меня из камеры в кабинет. Потом раздался еще чей-то голос:
– Приготовьте электрические инструменты и следуйте за мной.
Воцарилась тишина, наполненная страхом. Меня забила дрожь. Я уставился на дверь: сейчас она откроется, и мне конец. В душе шевельнулось даже теплое чувство к «моему» следователю. А если его сочувствие искреннее? Да, наверно, он был прав. И все же я не раскаивался ни в чем. Нет, не буду больше отвечать ни на один вопрос. Все, что можно было сказать, я сказал. Нужно взять себя в руки и приготовиться к решающей встрече. В памяти всплыли слова, с которыми обратился к нам командир перед боем на Голанских высотах: «Помните, мы защищаем себя, защищаем свою землю, свою культуру, защищаем наших детей, нашу честь и убеждения от врагов – злобных захватчиков, навязавших нам эту войну. И мы должны стоять насмерть за право на жизнь, за само существование нашего отечества. Либо достойная жизнь, либо смерть в бою! Так будьте же мужественны и стойки. Служите родине до конца. Свято храните тайны, которые враг может использовать против нас…»
Я явственно слышал мужественный голос командира и чувствовал, как ко мне возвращаются силы. Даже топот подкованных гвоздями ботинок в коридоре не мог заглушить его голос. Дверь распахнулась, появился высокий дородный человек с угловатым жестоким лицом, рукава на мускулистых руках засучены, как у мясника на бойне. Следом за ним вошли те двое, что привезли меня из камеры в кабинет. Голос командира зазвучал еще громче: «Мы сильны верой в победу, и мы победим!..»
VIII
Ахмед аль-Хасан впился глазами в шею Зейнаб, черное атласное покрывало соблазнительно подчеркивало ее нежную белизну. Кончики его усов заплясали – быстрее, еще быстрее. Ахмед аль-Хасан был не в силах сдержать дрожь. Зейнаб хотела взять Зейда, которого тот держал на руках. Купец не упустил случая и коснулся ее руки, надеясь ощутить волнующую нежность, но руки женщины были в ссадинах, кожа огрубела от работы. Он вздохнул в притворной тоске, страсти в этом вздохе было больше, чем напускной скорби. Попытался что-то сказать, но волнение перехватило горло. Тогда он протянул матери прижавшегося к нему мальчика, на губах у Зейда застыла кровь: десна продолжала кровоточить.
– Хвала Аллаху, он невредим. Я умыл его, смазал губу йодом. Вот кусочек стерилизованной ваты, вытри кровь. Поверь, я очень огорчен, но, слава богу, мальчик скоро поправится.
Ахмед аль-Хасан ожидал, что Зейнаб возьмет вату, но она медлила.
– Да бери же, бери!
Видя ее растерянность, Умм Сулейман взяла у него тампон, сказав коротко:
– Спасибо.
Смущенный Ахмед аль-Хасан, уходя, обронил:
– Я всегда к твоим услугам, о мать Зейда. И не стесняйся. Проси все что нужно.
В глазах Зейнаб блеснули слезы.
– Спасибо, сосед, – торопливо сказала она. – Мы желаем тебе полного благополучия, пусть Аллах избавит тебя от нужды.
При этих словах она зарыдала. Умм Сулейман подошла, взяла ее под руку. Ахмед аль-Хасан постоял, озираясь, горестно развел руками и вышел. Продолговатое лицо его внезапно помрачнело, выражая явное недовольство.
Зейнаб вернулась в комнату, неся сына. Умм Сулейман позвала Ахмеда и Фатиму и вошла вместе с ними следом за Зейнаб.
– Прости меня, о мать Зейда, я не уследила за детьми, не уберегла твоего сыночка. Он играл с братцем. Ахмед просил у него хлеба, Зейд не дал, бросился бежать. Малыш – за ним. Они носились по всему дому. Вдруг слышу плач. Вижу: беда приключилась, схватила мальчика и – в лавку Ахмеда аль-Хасана. Клянусь Аллахом, совсем растерялась, не знала, что и делать. Чему быть, того не миновать, о дочь моя, ты уж прости меня, старую.
– Прости и ты меня, Умм Сулейман. Из-за нас у тебя столько хлопот. Маешься вместе с нами.
– Не говори так, Зейнаб, ты мне сына моего дороже. У меня ведь нет давно ни друзей, ни близких – никого, кроме тебя, о мать Зейда. Но я твердо знаю: люди живут для людей. Мы должны помогать друг другу.
Зейнаб, утешая все еще плакавшего сына, уложила его в постель, вытерла кровь, сочившуюся изо рта. Умм Сулейман поднялась – поставить керосиновую лампу на старенький деревянный столик, спрятавшийся в темном углу. Выдвинула столик на середину комнаты, аккуратно подрезала фитиль и зажгла его. Мягкий свет лампы осветил печальные лица. Свет становился ярче по мере того, как сгущался мрак, окутывая все плотнее несчастную семью.
Снова и снова воскрешал в памяти Ахмед аль-Хасан незабываемый блаженный миг, когда он коснулся руки Зейнаб, увидел ее мраморную шею, ощупал жадным взглядом стройный ее стан. Ночь кончалась, а он все не мог уснуть и ворочался в постели, сжигаемый страстью. Зейнаб должна стать его женой, любовницей, служанкой – все равно кем. Он жаждет обладать ею, овладеть этой женщиной, утолить неукротимую страсть. Огонь, тлевший в тайниках его сердца со времен юности, вспыхнул ярким пламенем и разгорался, как костер, раздуваемый ветром. Зейнаб отказалась выйти за него, когда он был еще молод; с тех пор он постарел, но богатство покроет разницу в возрасте. Тогда она отвергла его просьбу, отказалась наотрез, выпроводила его посланца. Слава богу, об этом никто не узнал, но тайна стоила денег…
Позор Ахмеда аль-Хасана не стал достоянием досужих деревенских сплетников. И вот сегодня настал удобный случай, теперь положение Зейнаб не из лучших, и она не станет упрямиться. Вдове, оставшейся с маленькими детьми, нужно, чтобы кто-нибудь разделил с нею ее бремя. А ему эта ноша по силам, он готов принять ее на свои плечи. Свои домашние дела он уладит без малейших осложнений. Правда, его удивляет и тревожит непонятная пассивность Зейнаб, ведь ей сейчас плохо, ох как плохо. В чем же дело? Конечно, прошли считанные недели, как она получила известие о муже, – слишком малый срок, чтобы забыть его и потянуться к другим мужчинам. Тут все непросто, время – вот что решит дело. Ей не видать больше спокойной жизни. Она явно нуждается, но какой изберет выход? Обратится ли к нему? А ну как ее подхватит кто-то другой? Да, теперь принимать решения посложнее, чем раньше. Что ж, он наберется терпения, дождется, пока плод созреет. Только кто поручится, что плод достанется именно ему?
На сей раз надо приложить все усилия, чтобы не упустить своего счастья. Может, стоит заглянуть к Умм Сулейман, дать ей немного продуктов, денег? Она больна, вчера так кашляла. Это прекрасный повод! Он им непременно воспользуется, выразит сочувствие старушке, а уж она, без сомнения, сумеет повлиять на Зейнаб. В конце концов Зейнаб сдастся, уступит его желанию, его воле. Мысль эта пришлась ему по душе. Он вдруг провел ладонью по лицу, словно стряхивая неотвязную головную боль, и подкрутил усы.
Самодовольная улыбка растянула его толстые губы. Поскорей бы взошло солнце…
Утром он первым делом направился к Умм Сулейман и, лучезарно улыбаясь, протянул ей кульки с чаем и кофейными зернами:
– Я был невнимателен к тебе, о Умм Сулейман. Не сердись же. Вчера ты так кашляла. Твоя боль отдавалась в моем сердце. Мы ведь соседи – одна семья, а жизнь тяжела. Деньги развратили людей, осквернили этот мир. Люди тянутся к богатству, им все нипочем, деньги заставляют их позабыть о своем долге, о боге. Будь они прокляты, эти деньги! Как ты себя чувствуешь сегодня? Надеюсь, получше?
Умм Сулейман удивилась, конечно, но виду не показала. Вчерашняя встреча с Ахмедом аль-Хасаном не прошла для нее даром. Ему явно понадобилось что-то; за здорово живешь подобные люди не явятся в этакую рань, да еще с подарками. Ну, так или иначе, а с ним надо вести себя достойно. Она улыбнулась лавочнику, пригласила сесть на постель – другого места у нее в комнате не было. И смутилась: в доме такой беспорядок. Примус давно не чищен, грязные тарелки и ложки валяются в углу вместе с зеленым пластмассовым кувшином и жалкой облезшей щеткой. Рядом чайник и три сложенные стопкой пиалы. Чуть подальше, на перевернутой жестянке, торчит керосиновая лампа. Тут же деревянный сундук с облупившейся краской и темным пятном на месте давно разбитого зеркальца. На сундуке – грубо сработанная шкатулка с восьмиугольной звездой, на шкатулке – большая, с ладонь, гребенка и рваный носовой платок. У порога посреди дырявой циновки чернеют старые туфли…
Произнеся положенные приветствия, Умм Сулейман прислонилась к деревянному сундуку и начала благодарить гостя. Потом умолкла, приглядываясь к нему и пытаясь дознаться о цели его прихода. Ахмед аль-Хасан зря и пальцем не шевельнет. Что же привело его сюда? Исподволь завязала она беседу:
– Прости, отец Хасана, что принимаю тебя в столь недостойном месте. Да еще не успела ни подмести, ни прибраться в доме. Всю ночь не спала, кашель замучил, господь тебя упаси от такой беды. А после утренней молитвы прилегла немного…
Ахмед аль-Хасан – он явно не собирался засиживаться в этой конуре – только и ждал момента, чтоб завести нужный ему разговор. Он откашлялся, подкрутил усы и сказал:
– Извини уж меня, Умм Сулейман, что явился ни свет ни заря. Я и сам всю ночь не спал.
– Пусть Аллах отведет от нас зло. Пусть будет у тебя все хорошо.
– Вот размышляю я, Умм Сулейман, о деяниях Аллаха и людских бедах. Очень меня огорчает судьба Зейнаб и ее детей. Вчера, когда Зейд поранился, увидал я, как переживает бедняжка Зейнаб, – прямо сердце защемило. За что же, думаю, обрушились на нее чуть не все муки на свете? До утра глаз не сомкнул, удручался. Надо же, вдова, трое деток-сирот, а сама не узнала даже радостей да утех молодой поры! Как ей, бедной, прокормить сирот, оберечь их? Как жизнь свою устроить? Пусть вразумит нас Аллах. Плач детей Зейнаб разрывает мне сердце, о Умм Сулейман. Я молился за них…
– Аллах не лишал их своей помощи, подаст им ее и впредь. Да ниспошлет он им радость и утешит их, возвратив дорогого им Мухаммеда.
– Аминь.
Ахмед аль-Хасан помолчал, поскреб голый шишковатый череп.
– Пропавший без вести уже не вернется, Зейнаб понимает это?
– Да, пропавший на войне – все равно что мертвый. О горе!
– Он и вправду мертв. Просто командование не спешит с извещением: труп-то пока не найден. Возможно, одному Аллаху ведомо, что с ним. Бомба или танк, наверно, стерли его в прах, и следа не осталось. Штабным офицерам неловко, вот и пишут, пропал, мол, без вести. Да только пропавший без вести – это, считай, покойник. Дело ясное. Вспомни-ка сына Мухаммеда ас-Саламы! В шестьдесят седьмом что с ним случилось? Вот-вот, пропал без вести. Семья все ждала его, надеялась, а он и по сей день не вернулся. Разве Зейнаб не знает об этом?
Ахмед аль-Хасан говорил так уверенно, и Умм Сулейман сдалась, последняя надежда на возвращение Мухаммеда аль-Масуда, теплившаяся в ее душе, растаяла.
– Бедная Зейнаб! – Голос ее звучал глухо. – Все плачет, живет надеждой. Утопающий, он и за соломинку хватается. Только сказать правду – все равно что вторично мужа ее убить.
– А может, стоило бы тебе, Умм Сулейман, как-то намекнуть ей об этом? Должна же она знать правду. Думаю, она и сама убеждена в гибели мужа.
– Один Аллах знает…
– Ты, – перебил он нетерпеливо, – исподволь втолковала бы ей что к чему… Чем скорее, тем лучше. В таких случаях нужна полная ясность. Зейнаб молода, хорошо бы ей подумать и о себе. Как-никак и ей и детям нужна опора.
Умм Сулейман открыла было рот – возразить жестоким его речам. Но Ахмед аль-Хасан притворился, будто ничего не заметил.
– Пожалуй, сейчас и впрямь не время сразу открыть ей на все глаза. Лучше бы загодя подготовить ее, не мне тебя учить, Умм Сулейман, сама знаешь.
– Но, о отец Мухаммеда, тут главное не она – ее дети. Я знаю Зейнаб, муж дорог ей, но дети дороже всего. Ради них она пойдет на все, жизни не пожалеет.
– К чему такие крайности, когда можно найти себе другого мужа? Мало ли на свете мужчин! Наверняка отыщется и такой, который ради нее согласится пестовать хоть двадцать ее детей. Вот так-то, Умм Сулейман.
Ахмед аль-Хасан закрутил сперва правый ус, потом левый и вопрошающе глянул на старушку ястребиными своими глазами. Самодовольная улыбка засияла на его лице. Тут только Умм Сулейман поняла, о чем речь. Ей не хотелось чтоб собеседник высказался более откровенно. И так все ясно. Она встала, подошла к своему примусу и принялась протирать его тряпкой. Не успела она взяться за насос и подкачать примус, как Ахмед аль-Хасан вдруг поднялся.
– Будь здорова, о Умм Сулейман, я ухожу.
– Может, чаю попьешь?
– Благодарю, уже пил. Прощай.
Он направился к двери, предусмотрительно наклонив голову, чтоб не удариться о низкую притолоку. Умм Сулейман последовала за ним. Выйдя за дверь, он повернулся и, нагнувшись к старушке, сказал:
– Ради бога, Умм Сулейман, передай Зейнаб, пусть не стесняется, берет у меня все, что ей нужно. Жизнь так жестока к нам, мы должны помогать друг другу. Стыдно будет Зейнаб, если в нужде не прибегнет она ко мне. Можешь ей так и передать. Я сам хотел сказать ей об этом, но момент вчера был неподходящий.
Отойдя шага на два, Ахмед аль-Хасан обернулся и обнажив в улыбке зубы, мягко произнес:
– Да и твою любую просьбу, Умм Сулейман, всегда встречу как должное. Об одном прошу: помоги несчастным сироткам и их матери.
Он давно ушел, а перед глазами Умм Сулейман все маячила долговязая фигура лавочника, покручивавшего усы. Долго еще, как говорится, просидела она на ковре видений. Потом, придя в себя, решила немного прибрать в доме и проведать Зейнаб с детьми. С усердием взявшись за работу, она вдруг увидела мешочек с сахаром – его принес Ахмед аль-Хасан. Она схватила мешочек и шагнула к двери, чтоб выбросить его из дома. Но остановилась, подумав: «Как давно не ела я сахара, даже вкус его позабыла». И положила мешочек рядом с сундуком. Сердце тотчас кольнула тревожная мысль: «Вот он, твой первый шаг на грязном пути, корыстная Умм Сулейман!»
Стех пор все в доме Зейнаб предстало Умм Сулейман ином свете: она замечала не только несчастья Зейнаб, ее траур, горе и страдания, но и стройную ее фигуру, ее молодое, сильное тело, добрые, мягкие глаза, в которых так часто вспыхивала грусть. Ну а дети – они ведь извечная добыча несчастий и бед. Горе, постигшее их ныне, – ничто по сравнению с тем, что ожидает их в будущем. Им суждено стать постылыми нахлебниками у нового мужа их матери. Они окажутся в полной его власти, а он решит вскоре: дети мешают ему, отравляют жизнь. Он начнет бранить их днем и ночью, попрекать куском хлеба. Выплакав все глаза, они уйдут из дому и побредут по улочкам, как бездомные псы. А мать их, оказавшись меж двух огней, не сможет заступиться за малышей. Ей придется лишь молча лить слезы, проклиная тот день и час, когда она уступила…
Сладкие слова, что так щедро рассыпает Ахмед аль-Хасан – он, мол, позаботится о детях, они будут ему дороже всего на свете, – слова эти обернутся вечными жалобами и упреками, жестокостями и мукой прежде всего для детей.
Так думала Умм Сулейман, вспоминая собственное детство. Она росла такой же обездоленной, как дети Мухаммеда аль-Масуда. Бедность всегда похищает у детства его мечты, мало кто избавлен от этого. Семилетняя Умм Сулейман от зари до зари гнула спину в поле, ей не давали даже выспаться. Отдых для бедняка – излишняя роскошь; разве что в праздники дети могли поиграть, им разрешалось спать до восхода солнца.
Зейнаб, проницательной и чуткой от природы, нетрудно было заметить, что Умм Сулейман чем-то озабочена.
– Что нового, Умм Сулейман? – сочувственно спросила она. – Нет ли каких новостей?
– Да нет… Я ничего не слыхала, – в замешательстве пролепетала старушка. – Сегодня я никуда не заходила, сразу – к тебе.
Зейнаб поглядела внимательно на Умм Сулейман, видно, хотела что-то еще сказать. Только едва заметная тень скользнула по ее лицу.
Умм Сулейман совсем удручилась: каких еще вестей ждет бедняжка? Неужто надеется, что Мухаммед аль-Масуд вернется? Мертвые, увы, не возвращаются. У бедной Зейнаб нет ничего, кроме надежды, которой она живет, впрочем, ей ничего другого не остается. Старушка чуть нахмурилась и покосилась на Зейнаб. Любая женщина, окажись она в таком положении, надеялась бы и ждала.
Ахмед аль-Хасан хочет достичь цели одним ударом, лишив Зейнаб прежде всего этой надежды. Если она передаст Зейнаб слова Ахмеда аль-Хасана, смысл сказанною убьет ее. Что же делать? Как открыть Зейнаб чувства и намерения Ахмеда аль-Хасана? Может быть, заронить смятение и тревогу в ее сердце, а там уж она сама все поймет? Да, пожалуй, это самое верное.
– Я все утро думала о бедняжке Шамхе, – начала Умм Сулейман. – Она больна, а я давно не навещала ее. Горе-то у нее какое! И кто б мог подумать! Все у нее было – и здоровье, и красота. А потом случилось это несчастье с ее сыном. Да поможет ей Аллах. О господь, отвращающий беды, отведи их от нас.
– Чем же она больна? – спросила Зейнаб, внимательно слушавшая Умм Сулейман.
– Одному Аллаху ведомо. Думаю, причина болезни матери – утрата сына. И никто не знает, как лечить эту хворь.
– Господи помилуй! О Аллах, отгони зло от нас. Разве у Шамхи есть дети, Умм Сулейман?
– Конечно, есть… Только взрослые…
– Передай ей привет от меня. Извинись, ради бога, сама видишь, я не могу ее проведать…
– Вижу, о мать Зейда. Все знают о твоем положении и прощают тебя. Аллах свидетель, я передам твой привет. Чувствую, она будет сердиться на меня. Давно я ее не навещала. А раньше то и дело заглядывала – утешить ее, успокоить. Не дай ей бог еще одного такого же дня. Всю ночь, как пришло известие, она мучилась, рыдала. Ожидание и бессонница сразили ее. Ей сказали, сын, мол, скоро придет: живой всегда возвращается. Вот она и поверила, ночами не спала, все ждала… Тоска медленно убивает ее. Она угасает. Сын ее – да ты знаешь его – Шахир, двадцатилетний парень, даже первым поцелуем насладиться не успел. После помолвки с дочерью аш-Шукрана он и виделся-то с нею лишь дважды. Последний раз – за месяц до войны. А там ушел на фронт, и вскоре мать получила извещение: сын ваш Шахир пропал без вести. Шесть лет с тех пор прошло. И все эти годы она ждет и плачет, до сих пор не потеряла надежды. День, когда пришло извещение, и для нее и для всего их квартала стал черным днем… Соседи, все до единого, разделили ее горе, сокрушались и плакали с нею, словно несчастный Шахир был их собственным сыном.
– О горе, а невеста-то как же?
– Что ей оставалось делать, о мать Зейда? Она прождала его целых три года, куда больше! Сама знаешь, какова участь наших девушек. Мать ее пыталась устроить судьбу дочери, да и люди злословили: сколько, мол, можно оставаться нареченной покойника? Всю жизнь?! Три года ведь срок немалый…
– А вдруг он вернется? – спросила Зейнаб, бросив на Умм Сулейман быстрый взгляд.
– Надо и о девушке подумать. Она свой долг исполнила. А вернется он – мало ли невест. Лишь бы вернулся…
– Дай бог! – сказала Зейнаб задумчиво. Ей трудно было понять, испытывает ли ее Умм Сулейман, или затеяла с ней какую-то недобрую игру. А может, и впрямь пора ей подумать о себе? Она пристально посмотрела на Умм Сулейман. Старуха не спеша достала из пачки сигарету, чиркнула спичкой, затянулась горьковатым дымком. Подавив обуревавшие ее чувства, Зейнаб спросила, надеясь втайне, что ответ многое для нее прояснит:
– А это правда, Умм Сулейман, что Шахир погиб?
– Правду ведает один лишь господь. Я слышала только, что люди говорят, а толкуют они разное. Многие уверяют, будто он, о горе, остался лежать раненый в каком-то овраге и его сожрали дикие звери. Кто знает, возможно, это и правда… Будь он жив, непременно б вернулся домой или хоть дал знать о себе. Человек вот так запросто не исчезнет. Нашлась бы хоть одна живая душа, что видела его или слыхала о нем. Шесть лет – срок немалый. Уж седьмой год, как кончилась война, а о нем ни слуху ни духу. Какое тут может быть объяснение?
Умм Сулейман давно умолкла, но Зейнаб и не заметила этого. Ей представился заблудившийся среди оврагов раненый. Не в силах идти дальше, он прячется в пещере, забивается в узкую расселину меж скал, его осаждают дикие звери, а он не в состоянии защищаться… Хищники терзают его, живого или мертвого, пожирают его плоть! В ужасе схватилась она за сердце, из глаз брызнули слезы. В мозгу неотвязно билась мысль: что, если это случилось и с ее Мухаммедом? Его сожрали дикие звери?! Гиены, волки, стая одичавших собак разодрали клыками его тело на части. Растерзали грудь, выгрызли сердце, обглодали лицо. Она вскочила и в ужасе метнулась к двери, не добежав, кинулась назад, к лежавшим на деревянных старых досках свернутым тюфякам, просунула между ними руку и вытащила кинжал Мухаммеда. Умм Сулейман, вскочив, закричала:
– Что ты делаешь?
Опомнившись, она увидела, что старуха крепко ухватила ее за кисть, а пальцы ее вцепились в рукоять кинжала, наполовину вытащенного из ножен. Руки Зейнаб повисли как плети, кинжал упал на пол. Умм Сулейман чуть не силой усадила ее на тюфяк. Она сидела, глядя перед собой неподвижным взглядом, словно в полусне. Привалившись к стене, она пыталась собраться с мыслями, но долго еще не могла понять, что же произошло. Старушка занялась ею, принесла воды, брызнула ей в лицо, причитая:
– Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха.
Зейд, пользуясь случаем, бросился к упавшему на пол кинжалу, подобрал его и стал с ним играть, пытаясь вытащить из ножен. Растерянная, хлопочущая возле Зейнаб старушка не видела ничего вокруг.
– Что с тобой, Зейнаб? – то и дело повторяла она. Заметив Зейда с отцовским кинжалом, Зейнаб вскрикнула:
– Осторожно! Полегче, сынок. Отдай его лучше мне.
Взяв кинжал, Зейнаб повертела его в руках и начала пристально разглядывать, потом сказала дрожащим, сдавленным от волнения голосом:
– Я должна была защитить Мухаммеда, помочь ему… Но где он? Почему я, его подруга, спутница жизни… не могу разделить с ним его судьбу и боль?
Слезы душили ее. Зейнаб разрыдалась, и вместе с ней заплакали дети. Глядя на несчастную женщину, не совладала с собой и Умм Сулейман…
В тот непомерно долгий безветренный день солнце потонуло в море слез и на горизонте, словно черные вестники беды, вздыбились тучи. Вселенная облачилась в траурную абу [9]9
Аба – шерстяная одежда, род плаща.
[Закрыть], накрывшую полой дома, где ютились семьи пропавших без вести и погибших на войне, самые бедные лачуги, зияющие раны деревни.