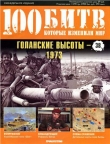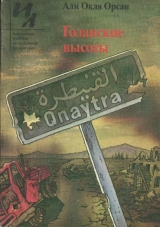
Текст книги "Голанские высоты"
Автор книги: Али Орсан
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
А может, ощущение это – нечто вроде предчувствия нового брака? Разве раньше тревожил ее потаенный страх перед мужчинами? Влекло ли ее к ним? Что, если в ней пробудилось тайное страстное желание? И со временем овладеет всем ее существом?.. Кто знает… Слишком уж тяжкое бремя забот и ответственности легло на ее слабые женские плечи. Жизнь ее, такая устойчивая прежде, вдруг зашаталась. Раньше она жила за крепкой стеной, теперь стена рухнула. И Зейнаб вдруг поняла: стена эта была не только защитой ей, но и преградой, державшей ее взаперти, как в темнице. Брак, конечно же, необходим, он – источник радостей, только брачные узы – те же оковы.
Она теперь по-новому смотрела на мир. Даже в доме своем подмечала незамеченное прежде. Мельком глянув на потолок, подернутый сажей, вдруг впервые увидела: доски-то ведь подгнили и тростник пожелтел. Взгляд ее задержался на прилепившемся под потолком гнезде ласточек. И вдруг для нее все исчезло, кроме крохотных птенчиков, нежная мать прикрывала их своими крылышками. Зейнаб слышала только слабый писк, доносившийся из гнезда, окруженного пепельной пеленой паутины… Очнувшись, она теперь уже внимательно вгляделась в потолок. Пожелтевший тростник плотно уложен на опоры из досок, кое-где тронутых гнилью. Как только все это выдерживает тяжесть земляной крыши?
Занимался рассвет, отсветы его проникали сквозь дверную щель. Потом в комнату пробился солнечный луч, и Зейнаб почудилось, будто светлая нить надежды протянулась от ее сердца к гнезду ласточек…
Первое, что видела Зейнаб, просыпаясь по утрам, были птенцы ласточки, тянувшие шеи из гнезда. Мать приносила им в клюве пищу. И, глядя на прилепившееся к потолку гнездо, на хлопотливую ласточку и разевавших клювы птенцов, Зейнаб ощущала прилив бодрости, и беззвучная песня, казалось ей, заполняла весь дом…
Вот и сегодня, посмотрев на гнездо, Зейнаб перевела взгляд на своих детей: они безмятежно спали, счастливые в царстве грез – спокойном и безопасном. Улыбки их озаряют весь мир, и словно исчезла прочь нищета, наложившая было печать на их лица. Отступили страдания, источившие их немощные руки, нежные, слабые пальцы. И вроде не заметно, что они лежат на выцветших бурых подушках, а из дыр полосатого желтого тюфяка – их не заштопать, не залатать – вылезла вата. Нет в мире ничего милее и краше детской улыбки, ласковых легких ручонок. Зейнаб вздохнула, и в сердце проснулась привычная боль. Она поднялась с постели, стараясь не разбудить детей. Пусть поспят сколько душе угодно, прошлой ночью их сон был тревожным. Нет больше с ними того, кто рассеял бы их заботы, не дал бы почувствовать себя обездоленными. Детям да и ей самой надеяться больше не на что. Вся их жизнь круто переменилась.
Нынче утром Зейнаб не пришлось идти в поле. Вчера вечером к ним зашел дядя Джабир. Он долго смотрел на нее, насупив брови и сощурясь. Сидел и молча вздыхал, будто вслушивался в ночь, ожидая ответа на какие-то свои мысли.
– Завтра и послезавтра не ходи в поле, – сказал он потом, глядя куда-то вверх. – Побудь с детьми. Вот тебе плата за два дня вперед, купи им что-нибудь.
Зейнаб, от души поблагодарив старика, заплакала и робко протянула руку за деньгами. Пусть их было немного, все равно это милость судьбы. У нее отлегло от сердца, и губы тронула улыбка. Джабир и сам-то никакой не богач, и щедрость его была немалой жертвой. Потом он повернулся к дверям – сутулый, сгорбленный, и Зейнаб услыхала, как он бормочет молитву. Наверно, он принес ей деньги, чтобы почтить память Мухаммеда, павшего в боях за родину, или надеясь, что Аллах за это отведет от него беду и отличит в день Страшного суда.
Зейнаб встретила новый день с решимостью и болью. Задумавшись о судьбе, постигшей ее мужа, о своей собственной доле и будущем своих детей, она позабыла о лепешках в печи.
«Неужто Мухаммед и впрямь канул в вечность и никогда не вернется домой? – спрашивала она себя. – Умер, и я больше не услышу его смех… – В глубине души она не могла поверить этому. – Где его схоронили? – снова и снова вопрошала она. – В пустыне? А может, просто засыпали землей, без всяких почестей?.. Камешки и земля набились ему в рот… Он умер… Умер!.. – Зейнаб замерла, дважды произнеся вслух последнее слово. Будто выдохнула его в тот же миг, что и печь, исторгшая дым из жерла. Нет, она не могла смириться с этой мыслью. – Говорят, он числится в списках пропавших без вести. Значит, никто не видел его мертвым. Что, если он… – Мысль, точно громом поразившая Зейнаб, заставила ее отшатнуться от печи. – Что, если он в руках врагов?.. Проклятые!..» Схватив изогнутый железный прут, которым сажают в печь и достают лепешки, она выбежала за дверь.
Наверно, Зейнаб вообразила, будто прут этот – смертоносное оружие и она сразит им врагов и вызволит мужа. Да и где было взять ей другое оружие? На пороге она увидела Зейда незаметно выскользнувшего из постели. Он прижал-сякдвери и горько плакал. Зейнаб, не сдержав слез, обняла сына и вернулась с ним в дом. Усадив мальчика возле печи она угостила его горячей лепешкой и продолжала печь хлеб.
Снова взметнулись вихрем тревожные мысли. Вдова! Какое жестокое слово, оно леденит сердце, разит наповал. Снова и снова спрашивала она себя: «Неужто я и впрямь вдова, а дети мои сироты? И нет у меня заступника и покровителя?» Она понимала: да, так оно и есть, но мысль эта не укладывалась у нее в голове. Она все равно не верила, что навсегда потеряла мужа и нечего ждать его возвращения. А если… Мало ли что… Ведь раньше он не обманывал ее надежд и всегда возвращался. Но теперь… Жив ли он? Если жив, свободен ли? Волен ли в своих поступках?.. Взвешивая все «за» и «против», она приходила к мысли, что муж еще может вернуться. Сердце ее разрывалось на части. Она понимала: покоя, утешения ей не найти. Как теперь жить? Зачем солнце в небе, если Мухаммед не вернется?
Закончив печь хлеб, она встала и, чуть живая от изнеможения, понесла малышам горячие лепешки. С тревогой поглядывая на мать, шел рядом с ней Зейд. И его одолевали страх и предчувствие перемен.
Ill
Я почувствовал, что сознание возвращается ко мне; после долгих часов бездонной, черной пустоты вновь начиналась жизнь. Я протянул руку, хотелось дотронуться до скалы, закрывшей меня своим телом от вражеских пуль, но нащупал какие-то странные, незнакомые прежде предметы. С трудом приоткрыв глаза, я увидел над собой… потолок. Тела своего я почти не ощущал. Где нахожусь, не ведал. Я едва сумел разглядеть очертания и краски окружавших меня предметов, но наконец понял, что нахожусь в госпитальной палате. Сам я был спеленат белой тканью и укрыт сверху одеялом темного, тоскливого цвета. Что случилось? Как я оказался здесь? Память настойчиво стучалась в замкнутое покуда хранилище воспоминаний: что же произошло со мной в последнем бою? Ничего припомнить я так и не смог. Да, я стрелял, земля ходуном ходила от взрывов, потом я упал… Напрягая всю свою волю, я старался понять необъяснимое, казалось бы, положение. Попробовал, шевельнув рукой, приподнять одеяло, но не смог. Почувствовал, что и ноги меня не слушаются. Сердце заколотилось неистово: ужель я стал инвалидом и обречен весь остаток жизни быть прикованным к ручной тележке? Эта мысль ошеломила меня, в памяти вдруг всплыла на миг коляска паралитика, я как-то видел его мельком на одной из улиц Дамаска. Видение исчезло, уступив место другому: человек ползал, подтягиваясь на руках, ноги его были ампутированы выше колен. Собственно, и от рук остались только обрубки. В глазах, обращенных к прохожим, мольба: подайте пару киршей, люди добрые. Кирши, брошенные сердобольными прохожими падали на деревянные салазки, служившие несчастному средством передвижения. Я зажмурился, отгоняя прочь страшный призрак, но он не исчезал. Сердце мое стало источником слез. Я вдруг почувствовал себя страшно одиноким. Кошмары, подавлявшие меня, возвращались снова и снова, не давая ни минуты покоя. Как ни старался я вызвать образы моей Зейнаб, Зейда, Фатимы, маленького Ахмеда, они не появлялись. Мрачные видения громоздились друг на друга: какие-то лица, улицы, города… Временами возникали откуда-то мои родичи, соседи, знакомые – они встречают меня, а мне никак не подойти к ним. «О горе!.. – слышу я. – Мухаммед аль-Масуд калека!.. Ах, бедолага!..» Слова катятся в бурном потоке жалости, бегущем с Голанской равнины по склону горы аш-Шейх. Увидев каменные скалы, сочащиеся слезами, я заметался, как птица, застигнутая бураном… Закрыв глаза, пытаюсь уснуть, но видения не отступают. «Один, – думаю я, – один, всеми покинут! Где они, что с ними?.. Бедные мои дети, бедная Зейнаб! Они не ведали покоя и счастья, даже когда я, здоровый, полный сил, был вместе с ними. Каково им теперь?» Вдруг сердце сжала невыносимая тоска по Зейду. Боже, вот он стоит рядом, по щекам текут слезы. Молча глядит он мне прямо в глаза, серьезный не по возрасту, и во взгляде его мне чудится упрек: «Ты покинул нас, отец, без всяких средств. Мы голодаем и даже не учимся грамоте… Ну а теперь ребята будут дразнить меня – сын калеки… – А слезы все льются, Зейд всхлипывает и вытирает их ладошкой. Он пытается быть стойким. – Что мы тебе сделали, отец? – спрашивает он. – Так-то отплатил ты нам за наше долготерпение? За бедность и все наши страдания? Ведь есть же отцовский долг! Все отцы в деревне возвращаются домой, принося что-нибудь детям, помогают им… Мама гнет спину в поле от зари до зари, а потом, падая от усталости, хлопочет по дому, пока ее не сморит сон… В чем наша вина, отец? Брат с сестрой скажут тебе то же самое. А мама… За что приходится ей есть хлеб, горький от пота и слез?»
Я пытаюсь схватить и поцеловать его маленькую ручонку, стараюсь отвести от себя его упреки, говорю ему самые нежные слова, пытаюсь освободить его сердечко от бремени забот. Как могу, объясняю сыну безысходные свои обстоятельства, рассказываю о горестной жизни своей. «Да, – говорю я ему, – я родился не с золотой ложкой во рту. Пришлось уезжать в чужие края, добывать для всех нас кусок хлеба. А потом… Ведь я честный гражданин и обязан защищать отечество и служить в армии. Пусть не исполнил я до конца свой долг перед семьей, зато выполнил долг перед родиной. Дай срок, я и для вас сделаю все что смогу…»
В ушах долго еще звучат слова Зейда. Я и сам плачу, хоть и знаю – слезы не к лицу мужчине. Зато приходит какое-то облегчение. Словно на сердце легла легкая мальчишечья ладонь, и оно теперь бьется размеренно и спокойно. «Будь что будет, – решаю я, – покорюсь судьбе». В комнате ни души, не у кого узнать, где я, как попал сюда и что со мной. Никто не проходит мимо моей палаты. Кажется, я всеми покинут, отрезан от мира, брошен в океан безмолвия.
Комната начинает погружаться во мрак, и вдруг бесшумно открылась дверь и вошла девушка. На ней короткий белый халат. Испытующе посмотрев на меня, она повернула выключатель, зажглась лампа на потолке. Девушка подошла к кровати. Я в упор уставился на нее, но выражение ее лица меня не успокоило: было в нем нечто угрюмое, неприятное. Она рассматривала меня, однако я ничего не сумел прочесть в ее взгляде. Хотел спросить: «Где я?» Но язык бессильно шевелился во рту, и вышло лишь невнятное бормотание. Девушка ничего не ответила, только снова внимательно поглядела на меня. Глянув на листок, висевший у изножия кровати, она выключила свет и закрыла за собой дверь, покинув меня в пучине мрака, боли и страдания. Почему, удивлялся я, она промолчала, даже не улыбнулась мне? Неужто солдат, раненный в бою, не заслужил у соотечественников хотя бы улыбки? Гнев шевельнулся в груди, потом свернулся, как насторожившаяся змея. Комната казалась мне душной и ненавистной, она угнетала меня. И тут я вспомнил, как бывалые люди не раз говорили мне: «Запомни в трудную минуту никто тебе не поможет. Жертвуя собой, человек страдает сам, мучается его семья, прочим на это наплевать». Сперва я не верил им. Что, если они правы? ВДРУ Гв мозгу зазвучали другие слова, и каждое ударяло в висок: «Люди с теми, кто стоит на ногах… Люди с теми, кто стоит на ногах… Это верно… Верно… Что же будет со мной?..» Они пробудили во мне мучительную, безнадежную тоску и горечь. Тут я вспомнил отца, да смилуется над ним Аллах, он всегда мне твердил: «Припрячь кирши на черный день, Мухаммед. Если жизнь швырнет тебя на колени, деньги поднимут тебя». «О да, – усмехнулся я, – кирш поднимает меня, и он же меня опускает. Подумать только! Будь у меня кирш и отдай я его медсестре, купил бы небось улыбку для раненого, пожертвовавшего собой ради других…»
«Нет, нет, отец, ты не прав. Нам с семьей и без того не хватает денег на прожитье, где уж тут откладывать кирши? Ты ведь мне не оставил в наследство ни гроша… Вечно ты жаловался мне, сколько раз слышал я, как ты поверял свои горести другим. Знаю, детство твое прошло во времена турецкого ига и гнета пашей. Они скупали землю у крестьян и выкачивали из нее золотые лиры, выплачивая ими ежегодную дань Высокой Порте [5]5
Высокая Порта – принятое когда-то название правительства Османской империи.
[Закрыть]. Вы платили чужеземным господам своим загубленным детством, растраченной силой своей и здоровьем. Платил ты и в юности, но уже другим хозяевам – французам, служил им как верный пес, взамен получая проклятья и презрение. Выходит, ты расплачивался с господами не только своим здоровьем, счастьем, но и нашим – здоровьем и счастьем твоих детей. Пришла независимость, а ты гнул спину на тех, кто занял место прежних эксплуататоров, прикрываясь словами о «национальном благе». Ты платил и платил, но что же, скажи, получили мы? Нам на долю выпало выслушивать твои жалобы, не смея возразить или хоть пожаловаться самим. И мы теперь тоже платим. Сменился фасад, названия, лозунги, но сущность не очень-то изменилась. Конечно, слово «феодальный» поменяли на более современное, соответствующее духу эпохи и новым понятиям. А нам хотелось, чтобы положение изменилось в корне, наши жалобы были бы услышаны и многое пошло по-другому. Только все осталось как было, просто одни люди заняли место других да подновили вывески. Что же нам оставалось делать? Вот и жуем сегодня алкам [6]6
Жуем алкам – присловье: образ человека, жующего горькие плоды алкама – символ горестной, трудной судьбы.
[Закрыть]да молим Аллаха спасти наших сыновей, пусть хоть они вкусят не горе, а радость. Ну, а жизнь в наши дни, пожалуй, пострашнее, чем раньше. Любой из вас мог на одну лиру купить еды для целой семьи, дневного заработка хватало чуть ли не на неделю. Нынче за одно яйцо выкладывай сорок киршей, а помидорам – недавно еще кило шло за пять киршей – цена теперь две лиры и больше. Ты пойми, отец, человек сегодня не может прокормить семью. Ты улыбаешься? Нет, не завидуй нынешнему феллаху, он тянет и тянет свою лямку. Зато бесчестные чинуши, злоупотребляющие служебным положением, и прочие паразиты процветают по-прежнему. Знаю, времена переменились, только для нас их обличье сурово и мрачно. А жаль, не оставил ты мне ничего на черный день! Было бы чем внуков твоих поддержать, да и сам бы я хоть ненадолго вырвался из тисков. Правда, расставаясь с семьей перед военной службой, я тоже ей ничего не оставил. А двадцать лир солдатского жалованья – их не хватит даже на гуталин. И все-таки я умудрялся посылать пятнадцать лир Зейнаб и детям. А ты говоришь: откладывай на черный день! Нет, я вовсе не мот. Ты меня знаешь – не пью, не играю в карты, на женщин не трачусь. Опять улыбаешься? Знаю, знаю, хочешь напомнить, мол, в самые трудные дни ты вкалывал с утра до ночи да еще экономил на всем, хоть зарабатывал тогда меньше меня. Так-то оно так. Но ты не был кругом в долгу у торгашей-кровососов, а мне от них никуда не деться. Другие пришли времена, отец. Раньше, наверно, у людей еще оставалась совесть, уважение к соплеменникам. Ты бы сегодня только диву давался, глядя на нашу жизнь… Нет, не думай, я вовсе не сгущаю краски. И в мыслях этого не имел. И не оправдываюсь тоже. Как бы тебе сказать…»
Пришлось прекратить этот мысленный спор с моим покойным отцом. На лбу у меня выступил обильный пот, стало вдруг тяжело дышать, и в горле пересохло. Плохо дело, как бы мне тут не помереть. Нет, я должен выжить… ради моих детей… Спор с отцом вымотал меня куда больше, чем приход медсестры. Комната вдруг завертелась, и я провалился в тартарары, оставив где-то наверху госпитальную палату. Она скрылась в сером тумане, растворилась, исчезла…
IV
Я в плену! Я узнал об этом не сразу. Узнал случайно. А может, не такая уж это была и случайность? Однажды я обратил внимание, что сестра, открыв дверь в мою палату, произнесла несколько слов на каком-то непонятном языке. Но кое-что я вроде разобрал и понял потом: она говорила на иврите. Обычно, давая мне лекарство, она была необычайно сдержанна, но в тот день на губах ее играла улыбка, правда, она старалась ее скрыть. Платок прикрывал нижнюю часть ее сурового лица, и все же я залюбовался красотой девушки. Говорят, еврейки – блондинки, у них особой формы нос, но эта походила на моих соплеменниц, лицом ничуть не отличалась от наших девушек. И я отважился снова задать ей вопрос, который не раз задавал в последние дни:
– Где я?
Сестра молча посмотрела на меня, я пытался прочесть ответ в ее глазах – тщетно. Глаза ее напоминали стоячие пруды – неподвижные, непроницаемые. Мне показалось, будто за всем этим – какая-то тайна и она вот-вот раскроется.
– Ответь мне, где я? – настойчиво повторил я. – Вот уж который день я спрашиваю об этом, а ты ничего не отвечаешь! Ты понимаешь меня?
Ответом снова было молчание. Я долго смотрел на нее и волновался все сильнее; это мое волнение походило на морской прибой, он то и дело разбивается о берег, не прерывая своего размеренного натиска. Заметив, что медсестра собирается уйти, я повысил голос:
– Прошу тебя, ответь мне… Только не молчи. Неужели человек не вправе знать, где он находится, пусть даже он чувствует приближение смерти? Что означает всегда твой безмолвный уход, твое обращение со мной? Я ранен, совершенно беспомощен… Неужто для тебя это ничего не значит? Нет, я уже не ждал от нее ответа. Сейчас она, как всегда, хлопнет дверью. Я ощутил, как дрогнули стены и потолок госпитальной палаты. Бесполезны слова, бесполезны! Лучше прикусить свой язык: молчать, не говорить ни слова, сдержать себя. Но я не сдержался, слова хлынули бурным потоком, мчались, как табун диких скакунов.
– Я не могу больше… Даже звери так не ведут себя. Это больница или камера пыток?
Приподняв голову, я вскрикнул и потерял сознание. Когда я очнулся, в комнате было совсем темно, и я не знал, что со мной. Осторожно повернув голову, я почувствовал острую боль. В луче света, пробивавшемся сквозь дверную щель, я разглядел рядом с кроватью тарелку и немного еды на ней. Что за еда – непонятно. Мой взгляд был прикован к двери: быть может, кто-нибудь войдет? Явилась бы хоть одна живая душа! Одиночество особенно сильно угнетает больных и немощных. Я мечтал о приходе сестры. Мне чудилось, будто с ее приходом распадется стена комнаты и появится брешь, а за нею мне откроется будущее. Так пусть же приходит молча, не нужны мне ее слова.
Но когда дверь наконец открылась, ко мне вошли двое мужчин – один с какими-то бумагами, другой с фотокамерой. Трижды они спрашивали меня о чем-то, но я молчал, не сводя глаз с того, который первым подошел к моей кровати. Тогда высокий блондин, он встал рядом с кроватью, изо всей силы ударил меня по голове.
– Не надейся… Раненых и больных тоже пытают. Упорствуют только идиоты…
Наступила недолгая пауза. Слова блондина врезались мне в мозг. Нет, от этой беспощадной, страшной правды не отмахнешься. Передо мной вдруг замелькали картины прошлого… Вот он, тот роковой день, когда я услыхал о войне… Лица родных, друзей, Низара глядели на меня словно из серой трясины отчаяния. Потом я увидел свой дом… скалу, у которой шел бой… Я прыгаю в окоп, над головой свистят пули… Рядом взрывается мина, взметая к небу фонтан земли…
Облизнув губы, я огляделся.
– Значит, я в плену?
Голос мой дрогнул. Рушилась опора, на которой держалась моя вера в себя, в жизнь.
– А ты не знал об этом?
Не помню, сколько прошло времени, прежде чем я заговорил снова. Может быть, целая вечность. Допрашивавший меня мужчина – он насмешливо щурился, разглядывая меня, – вдруг захохотал:
– Ты и вправду не знал?
– Я столько раз спрашивал, где я, но мне так никто и не ответил. Откуда я мог знать?
Слезы душили меня, голова лопалась от боли. Я изо всех сил старался взять себя в руки. Вдруг я снова увидел моих однополчан. Капитана – мы вместе с ним вытаскивали из воронки Низара… Рядом темнели очертания скалы. Мы дрались. Не щадили себя. Шли в атаку, я ощущал сердцем победу…
Снова раздался голос мужчины:
– Теперь ты все узнал. Итак, твое имя?
Я взглянул на него: шляпа надвинута на лоб, под ней глубоко запавшие глаза, искривленный в насмешке рот.
– Мухаммед аль-Масуд, – произнес я.
Он задавал новые вопросы. Я не торопился с ответами, старался спрашивать сам:
– Как я попал в плен?.. Мои товарищи живы?.. Они тоже в плену? Где, собственно, я нахожусь?.. Что с Гола нами?..
Выговаривал слова, а сам думал: «Неужто опять покидают родные деревни наши женщины, старики, дети, чтобы примкнуть к тысячам и тысячам изгнанников, ютящихся в палатках? Что сделал я, все мы, чтоб не допустить этого? Наши дети, будущие поколения – какое наследство оставим мы им? Горечь позора и унижения? Новые оккупированные земли?»
Я заплакал невольно. Вдруг черной молнией мелькнула мысль: «гости» мои явно злорадствуют, глядя на меня. Так оно и было.
– Не надейся, – сказал мужчина, – разжалобить нас слезами. Твою участь могут облегчить только точные, исчерпывающие ответы. Слушай меня внимательно. Итак, какое у вас оружие? Третий, и последний, раз задаю тебе этот вопрос. Не ответишь, пеняй на себя…
Я и не заметил, как «отключился». На обычные вопросы – мое имя, имя отца и матери, местожительство и прочее – я отвечал без запинки. А сам тем временем ждал: когда же они начнут допытываться о более важных вещах? И вот прозвучали вопросы о вооружении и численности моей части. На них отвечать я не стал. Я понял: солдат и в плену солдат, защитник отечества. Мой долг – ни за что не открыть врагу сведения, которыми он мог бы воспользоваться во вред нашей армии и родине. Долг священный! Выходит, я могу еще послужить отчизне, бороться с врагами даже здесь, в их логове. Тяжелораненый, искалеченный, я буду сражаться, буду вести свою войну. В меня словно влились новые силы…
Взяв себя в руки, я твердо взглянул на мужчину и ответил решительно:
– Вопросы эти ни к чему! Сами знаете, на них не принято отвечать.
– Твое упрямство дорого тебе обойдется! – крикнул блондин с яростью. – Мы сумеем узнать все, что нам нужно. Увидишь, ты скоро расколешься и заговоришь как миленький.
– А я умею терпеть и молчать. Делайте со мной что хотите.
Весь мир преобразился, стал каким-то неузнаваемым. И я вроде напрочь выпал из него. Иногда я ненадолго приходил в сознание. Тогда мне казалось, будто я сплю, но вот-вот Должен проснуться. Я даже привык к этому ощущению, только весь съеживался, как бы желая вырваться из сжимавших меня тисков, готовых раздробить мне череп.
Временами меня посещали грезы. Вот Зейд скачет на белом коне, он проносится мимо меня, легкий, как ветер, точь-в-точь безвинный ангел на светозарном скакуне. Зейнаб, улыбаясь, бежит по лугу, я бегу следом, хочу догнать ее и никак не могу. Вот мы уже с нею на прекрасных улицах Дамаска, мы бежим, бежим по городу, похожему на райский сад. Да, этот дивный сад разбили горожане в честь павших в боях за родину и замученных в плену. Теперь наши ноги по щиколотку в воде реки Барады, опоясавшей Дамаск серебряным кушаком. Тополя в саду будто юные девушки; гора Касийун похожа на многоцветное пламя. Мы снова шагаем по улицам, счастливые и радостные. Рядом с нами мои товарищи по оружию. Люди – я узнаю вдруг в них своих земляков – глядят на нас с гордостью и любовью…
Я жил в диковинном мире – в мире грез. Сон – великий художник, он облагораживает все окружающее нас, скрашивает его пороки. Во сне все прекрасно… Всякий раз, когда мне было плохо, когда я сталкивался с ложью, лицемерием и прочими мерзостями, я засыпал, и тоскливая чернота сменялась фейерверком красок, я попадал в иной мир – светлый, чистый, сверкающий всеми цветами радуги.
Я уверен: рано или поздно победа будет на моей стороне. Я страстно стремлюсь к ней. Пора красивых снов пройдет, часы забытья останутся лишь в глубине памяти, наступит время борьбы – настоящей схватки с силами зла.