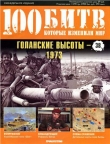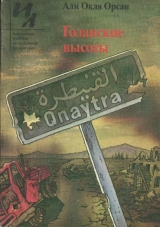
Текст книги "Голанские высоты"
Автор книги: Али Орсан
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Вдруг взгляд мой проник сквозь стену дома, и я прикоснулся к безмятежным лицам спящих детей.
Вокруг все тихо и спокойно. Творец этого спокойствия и тишины, простершейся над деревнями и городами, – я. Не бодрствуй я здесь, города и деревни не спали бы, утопая в голубом лунном свете. Не оставайся я в этом холодном, сыром окопе, мирная тишина не окутала бы постели тысяч детей, мужья не были бы нежны со своими женами, влюбленные не ухаживали бы за своими возлюбленными. Выпусти я из рук пулемет, сон не заключил бы в свои объятия всех, кто сейчас спокойно предается ему, и над родной землей моей не раздувались бы паруса сладостных грез и великих надежд, на губах у людей не цвели бы улыбки, а уста их не источали бы благостных слов… Я, я – творец счастья.
Я думаю об этом, и сердце мое наполняется гордостью, я возвышаюсь в собственных глазах, горжусь тем, что нужен людям. Потом я снова призываю образ Ахмеда аль-Хасана, он появляется передо мной, и все другие видения блекнут.
Теперь я гляжу на него свысока – да, мне есть чем гордиться – и говорю ему: «Не будь меня здесь, не торговать бы тебе спокойно, Ахмед аль-Хасан. Ты трясешься из-за жалких киршей, вон, мол, сколько не заплатили тебе мои дети. Неужто ты не боишься, как бы тебя самого, твои кирши, детей твоих не убили, не истребили дотла, если я покину свой пост? Подумай-ка хорошенько, подумай обо мне, Ахмед аль-Хасан… Вообрази, что ждет тебя и твое торговое дело, если меня не будет в этом окопе…»
Я жду ответа. Но лавочник безмолвствует. Кажется, какое-то слово застыло на устах его и он тщетно силится произнести его. Быть может, он хочет сказать: торговля не имеет родины, ведь она зиждется на кирше, а у него нет отечества. Вот и выходит: вы защищаете свою родину, я же тут вовсе ни при чем. Но нет, он так ничего и не говорит. На лице его застыла жалкая, растерянная улыбка. Чужой, совершенно чужой… Губы стиснуты, насупясь, уставился на меня и молчит. А может, мне и самому хочется, чтобы он помолчал и за мною осталось последнее слово. Да и что он может ответить мне? Ахмед аль-Хасан вроде простой человек владелец деревенской лавчонки. Но в его власти многое: он мог дать хлеб насущный моим детям. Если сравнивать его со мною, Ахмед аль-Хасан – крупный собственник, безраздельно властвующий над всей моей деревней, над моей семьей. Он всемогущ. Это – Нерон, Хулагу, Гитлер, Бегин, Даян… Внезапно видение исчезает, я слышу возбужденный шепот Низара, он хватает и трясет мою руку:
– Мухаммед… Я слышу шорох… Ты ничего не слышишь?
В одно-единственное мгновение я превращаюсь в удивительное существо, чувства мои обострились, устремились вперед точно маленькие щупальца. Я смотрю во все глаза, напряженно вглядываюсь в пространство, мой пулемет, подняв голову, тоже смотрит. Пепельные и белые камни в беспорядке разбросаны передо мной. Тени гор кажутся огромными призраками, над ними висит тишина. Это безмолвие тумана, мы ощущаем его поступь, он приближается к нам упругим, размеренным шагом, подходит ближе и ближе, чтобы уничтожить и овладеть всем. Бывает, тишина источает милосердие, раздает подаяние, но сейчас она страшна: тишина единовластно царит над миром, угнетает наши души. Звуки тонут, теряются в тумане.
– Ничего не слышу, – шепчу я Низару.
– Там что-то движется, – насторожился он.
– Может, зверек?
– Кто знает!
– Пошли посмотрим?
– Ты с ума сошел! – торопливо произнес Низар и вдруг взмолился: – Давай останемся здесь, в окопе. Тут безопаснее, и стрелять отсюда удобнее.
– А если мы уже окружены?
– Не говори так, – застыв, отвечает Низар. – Лучше прислушайся.
Время тянулось томительно медленно. Было тихо, и в этой тишине я так ничего и не услышал. Наверно, шевельнулось нечто невесомое, живое в тумане, или Низару все это почудилось. Когда я снова спрыгнул в окоп, луна, миновав зенит, склонялась к западу. Тени холмов и скал удлинялись, росли, напрочь перекрывая окоп; тьма стала совсем непроглядной. Оставаться в окопе страшно; почему-то здесь, как в кривом зеркале, искажаются и увеличиваются все предметы. Мысли мои закружились, точно подхваченные вихрем, только что были тут и уже забылись; всплывают и качаются странные видения. Я задремал в объятиях окопа, побежденный усталостью. А луна опускалась за высокую гору как зрелый плод, притягиваемый землей.
Приказ командования был четким и ясным: открывать огонь по врагу, как только он покажется. Стрельба начиналась обычно до восхода солнца. А продолжалась перестрелка чуть ли не целые сутки, превращая и ночную тишину в решето.
Проснувшись в то утро, я первым делом коснулся рукой пулемета и сразу почувствовал: надо что-то сказать, выговориться, чтобы прогнать горечь, комком застрявшую в горле. Я не знал, чем вызвана горечь, и старался об этом не думать. Поставил пулемет на бруствер окопа, подготовил его для стрельбы, полностью снарядил и стал наблюдать за скатом холма, где должен был находиться фланг вражеской обороны, которого вроде и не существовало.
Земля пробуждалась во всей своей красе, жизнь поначалу робко проявлялась в живых существах, словно боясь, как бы смерть не растерзала ее, заяви она во весь голос о своем существовании. Мимо пролетела стайка птиц. Над дальними деревнями курился легкий дымок – призрачное облачко грусти. Заря наплывала с востока алым парусом. Я смотрел на столб белого дыма, с которым играл ветер, гнавший его прочь от далекой деревни. Провожал взглядом таявший дымок, и чудилось мне, будто он бредет ко мне из нашей деревни. И снова я подумал о Зейнаб: сейчас она, как все деревенские женщины, печет хлеб или готовит пищу. У меня даже сердце защемило – так захотелось горячей пшеничной лепешки из ее рук, и я вообразил, что вот ем ее прямо около печи или хватаю на ходу, торопясь в поле.
Я ощущал запах горячего хлеба, наполнившего воздух своим ароматом. Того самого хлеба, ради которого мы трудимся и который сияет, как солнце. В холодные зимние дни мы засеваем поле пшеницей, тащим вместе с быками старый римский плуг. Посеем пшеницу и долгие месяцы дожидаемся жатвы. И вот наконец собраны полновесные золотистые зерна, намолота мука, испечена такая дорогая для нас лепешка. Из года в год огромную часть нашей жизни тратим мы ради этой лепешки, будто и нет ничего, кроме нее, на свете! Сколько отмеренного нам судьбою срока мы отдаем ей!.. Рука легла на холодный рубчатый ствол пулемета, и я опомнился. Вот он я – стою на влажной земле, высунувшись по пояс из окопа, и враг берет меня на прицел. Не выстрелю первым – он может меня опередить. Здесь, на этой земле, нет больше местечка для милосердия. Да, нелегкое у нас положение. Мне не раз приходила в голову мысль: разве враги не такие же люди, как мы, разве они не чувствуют так же, как мы? Но едва вопрос этот укладывался в моем сознании, возникали другие, наводившие на мысль, что враги только с виду похожи на нас. Их переиначили злоба, вражда и чванство, и им не вернуть уже человеческий облик. У ворот моей памяти теснятся видения содеянных ими преступлений и зверств. Но я захлопнул по-плотнее эти ворота, ведь все проникающее в них неизбежно поднимает со дна души горечь… Нет, мы зубами, ногтями вопьемся в эту землю! Мы не покинем ее, не уйдем. Здесь поле боя, а не кочевье, откуда можно сняться и двинуться прочь – куда глаза глядят. Мы давно уже оседлый народ, живем на отчей земле. Враг не погонит нас, как ветер гонит опавшие листья. Мы должны, уподобясь деревьям, пустить корни в этой земле, чтобы дети наши не ведали голода и страха, чтобы Зейнаб нашла хорошую работу и мы, обретя достаток и достоинство, гордо несли в мир счастье и покой. Ради этого не жаль и жизнь отдать.
Я начал стрелять, не успев даже предупредить Низара. Мне показалось, что один из вражеских солдат меняет свою позицию. Пулеметная очередь прозвучала сигналом к бою, пули градом посыпались с обеих сторон. Разбуженное грохотом стрельбы солнце приоткрыло сынам земли свой медный лик и закрылось тучей, печалясь, смеясь или гневаясь. Не знаю, сколько времени длилась перестрелка, на часы не смотрел, не до того было. Думал лишь об одном: откуда враг ведет огонь? Механически выполняя приказ, переходил из окопа в окоп. Я был уже не Мухаммед аль-Масуд, отец семьи, муж, работающий на чужбине, фантазер, одолеваемый видениями и мечтами, чьи грезы разъедают горькие думы отвергнутого, лишившегося работы бедолаги без гроша за душой. Нет, в эти мгновения я был солдатом, только солдатом, и все мои мысли сводились к тому, как уничтожить вражескую огневую точку.
Вдруг над нашими головами заревели самолеты.
– Фантомы! – крикнул Низар.
Израильские «фантомы» исправно наведывались к нам хотя бы раз в день. Этого американского добра у врага предостаточно. Едва я бросился в окоп, сверху лавиной обрушились комья земли и камни и засыпали меня чуть не с головой. Прошло немало времени, прежде чем я пришел в себя и понял, что вроде остался жив. И время это было холодным и тяжким, как свинец. Вокруг, казалось, все замерло и наступило царство тишины. Очнувшись окончательно, я шевельнул рукой. Земля, зашуршав, осыпалась, я приподнялся, встал и огляделся. У меня было такое ощущение, будто я впервые увидел этот прекрасный мир. Издалека послышался голос офицера.
– Все живы? – спрашивал он.
Я поискал глазами Низара, его нигде не было видно. Он бесследно исчез.
– Господин, со мной все в порядке, – ответил я. – А вот Низар куда-то пропал.
– Поищи хорошенько в окопе. Разгреби землю.
Я снова осмотрел окоп: стена его обвалилась, засыпав дно. Рядом зияла глубокая воронка. Кинувшись к завалу, я принялся разгребать его. Работал как зверь. Я представил себе Низара, погребенного на дне окопа. Он не может даже пошевелиться, кричит, но голоса его не слышно, он задыхается. Руки мои так и мелькали. Откуда только силы берутся? Тревожные мысли теснились в мозгу, а руки копали быстрей и быстрей. Я весь ушел в работу. Низар здесь, рядом… он ранен в голову… ему оторвало руку… он посинел от удушья… Я видел саму смерть, долгие месяцы носившуюся вокруг меня. Мертвец!.. Ужас холодил сердце. Я умолял землю воскресить Низара. Меня колотила дрожь, из горла рвался беззвучный вопль. Острая боль судорогой сводила тело, опускаясь вдоль позвоночника, словно текучая ртуть. Страшная тяжесть вдавливала меня в землю. Низар умирает?! Нет, быть не может! Низар, он стрелял из окопа рядом со мной и все время требовал, чтобы я укрылся за бруствером, не рисковал. Он улыбался открыто и ласково. Низар умирает?! И снова – зловещее видение. Птичье крыло бьет меня по лицу. Это крыло совы. Я несу труп моего друга домой, где его – живого – ждет не дождется мать. Я ворон, возвещающий одному из сынов Адама гибель его брата. Я возвращаюсь к матери с ее сыном на ковре беды, уста запечатаны, в глазах черная ночь… Едва возникнув, видение исчезло; я воспротивился, не позволил ему заполонить мое воображение. Я возненавидел его и восстал, чтобы изгнать, рассеять, уничтожить его. Этого жаждало все мое существо. Моя рука, разгребая землю, наткнулась на камни, отбросила их, и я увидел край полотна. Рубашка! Я содрогнулся: неужто видение оказалось явью?! Нет, нет, Низар не мог превратиться в бесформенную груду мяса и костей! Я стремительно протянул руку – так и есть, рубашка!
– Господин! Здесь Низар. Помогите!
Я сперва даже не заметил человека, рывшего землю рядом со мной. Он делал св" ое дело молча, потом помог вытащить Низара. И вот мой друг стоит перед нами цел и невредим. Капитан Саид весь взмок от пота, черные усы его посерели от пыли, одежда заляпана грязью.
– Слава Аллаху, – улыбнулся он Низару, – с тобой все в порядке, а мы тут испугались за тебя.
Я уставился на капитана, не находя слов. Низар, растерянный, тоже молчал. Не знаю, сколько прошло минут, покуда я выдавил из себя какие-то слова. А может, они и вовсе комом застряли в моем горле и капитан не услышал их. Но во мне они громыхали, как выстрелы: «Это вы, господин?! Боже, вы весь в грязи!..» Рука моя поднялась в приветствии, а может, я только подумал об этом. Подобие улыбки, мелькнувшей на его губах, исчезло, лицо посуровело, напряглось.
– К бою! – крикнул он и бросился к своему окопу.
Услыхав его, мы тотчас открыли огонь. И вовремя – враг перешел в наступление. Группы пехотинцев были уже в полусотне метров от нас… В этот миг я ощутил вдруг в себе небывалую силу. Я вспомнил тысячи преступлений и зверств, совершенных врагом. Впервые видел я вражеских солдат так близко и словно увидел воочию, что ползут они не по глыбам земли и камня, а по бьющимся в агонии телам моей жены и сына. Услыхал крик мальчика… Перед врагами, содрогнувшись от ужаса, рассыпались камни нашего дома; те, что побольше, катятся прочь, а мелкие камешки, не поспевая за ними, жалобно стонут. Мне послышался голос моей матери. «Защити нас, сын мой!» – кричала она из глубины могилы. Мой взгляд случайно упал на скалу: пули и взрывы откололи, раздробили часть ее плоти, по израненному, щербатому лицу ее катились слезы – это были слезы моей матери. В ушах у меня зазвенел голос Зейнаб: «О Мухаммед!.. Защити меня!»
Мы с пулеметом, окопом и этой скалою слились воедино. Я едва не крикнул моему командиру: «Ну, скорей поднимай нас врукопашную! Брось туда, где взрывается и полыхает земля!» Мне мерещились голоса моего отца и деда, с ними сливались голоса односельчан. «Стой крепко, Мухаммед! – кричали они. – На тебя вся надежда!» Я огляделся раз, другой: никого… А голоса все звучали рядом. Вдруг скала, столько раз заслонявшая меня от вражеских пуль, вскричала: «Не покидай меня, Мухаммед! Защити!.. Аллах, посланник его, святой коран и те, кто дал его людям, очистили для тебя землю, все их жертвы во мне! Во мне их кровь! Ты, ты наш защитник…» О Аллах, что это?! Скала засияла дивным светом, озарившим бескрайние дали… Я выскочил из окопа и вскинул винтовку, выставив штык, готовый вонзить его в грудь врага. Враг подходил к скале, и я бросился в бой, я даже не слышал приказа. Все, что было потом, не помню. Я кричал во всю мочь: «Аллах велик!» – и бил… Бил и кричал: «За тебя, Зейнаб!.. За тебя, Зейд, сынок!.. За тебя, мать!.. Ты слышишь меня, отец?!» Все смешалось: жизнь и смерть, дети, кровь, любовь, ненависть, прошлое и настоящее…
Грохот танков, катившийся издалека, смешался с криками людей и свистом пуль. Стремительно нарастал гул самолетов. Свои или вражеские? Раздумывать об этом было некогда. Ноги мои уходили все глубже в набрякшую землю, я изо всех сил орудовал штыком. Вдруг руки сделались ватными, ноги ослабели, гора сама собою сорвалась с места и закружилась – быстрее, быстрее. Все потускнело, краски выцвели и погасли. Руки и ноги не слушались меня. Я покачнулся и упал рядом с моей скалой. Прикоснувшись к ней пальцами, я ощутил, как на меня нисходит покой. Непроглядная тьма окутала мир, и чудилось мне, будто это черные волны волос красавицы ночи…
Потом я стал приходить в себя. Снова услышал грохот, сквозь него пробивались ликующие голоса однополчан: «Враг бежит!.. До Голанской равнины рукой подать!.. Вперед!..» Радость переполнила все мое существо. Но сам я не в силах был вымолвить ни слова. Мне захотелось вдруг погладить скалу, сказать ей: «Поздравляю, вражья стопа не осквернила тебя…» Но тут откуда-то из глубины земных недр, точно раскаты грома, послышался голос: «О сын мой, ты защитил меня ценой своей крови. Подвиг солдата прекрасен, кровь его священна. Героями славится родина…» Сердце мое затрепетало от гордости. И вдруг на меня обрушилась свинцовая тишина.
II
Солнечным июньским полднем Зейнаб возвращалась с жатвы. Зной палил нещадно. Пот катился с нее ручьем; казалось, Зейнаб смазала кожу лоснящимся жиром. На бронзовое лицо ее, точно грим, налипла пыль. Все тело Зейнаб зудело от пыли, она забивалась в горло, стесняя дыхание. Зейнаб тяжело ступала по тропе, ноги ее отекли, глаза то и дело застилала сумрачная пелена, взгляд был печальным и мрачным. Подходя к дому, она заметила их верного пса Хамрана. Он, тяжело дыша, бежал ей навстречу. С визгом и лаем Хамран бросился к хозяйке, ластился, терся об ее ноги. Но Зейнаб, не взглянув на него, понуро брела по дороге. Пес, забежав вперед, остановился, преграждая ей путь, заметался вокруг и снова кинулся ей в ноги. Но Зейнаб шагала дальше. Пес, казалось, хотел сообщить ей что-то, он снова опередил хозяйку и улегся поперек дороги. Высунув язык, тяжело дыша, он умоляюще поглядел на Зейнаб, потом лизнул ее туфли, тихо и беззлобно рыча. Зейнаб в сердцах прогнала пса. Опустив голову, он отошел в сторонку. Пес, наверно, ведет себя так странно, решила Зейнаб, потому, что кто-то ударил или обидел его, и он жалуется по-своему. Странное поведение собаки ее вовсе не насторожило. Но войдя в дом, Зейнаб нашла дочь Фатиму в слезах, а сын Ахмед уснул на полу, прямо на солнцепеке, весь вспотел, курчавые волосенки прилипли к набитой соломой подушке. Зейнаб, упрекая в душе старую Умм Сулейман, свою соседку, за невнимание к детям, нагнулась к мальчику, нежно обняла его, потом, вытерев слезы Фатиме, спросила:
– Ты чего плачешь?
Но девочка молчала, глотая слезы. Зейнаб поспешила соседнюю комнату – там было пусто.
– Где же Зейд и Умм Сулейман? – спросила она.
У Фатимы снова брызнули слезы, и мать поняла: тут что-то не так. Умм Сулейман никогда не оставила бы малышей одних и не ушла домой, не дождавшись ее. Тщетно пыталась Зейнаб понять, что же случилось. Фатима, явно не зная в чем дело, тревожно поглядывала на мать, то и дело вновь принимаясь плакать.
Зейнаб перенесла уснувшего сына в тень, вытерла пот с его лица, умыла Фатиму водой, остававшейся в чане. Потом уложила Ахмеда в постель и, взяв дочку за руку, вышла из дома на поиски Зейда и Умм Сулейман.
Хамран бежал впереди них, виляя хвостом, и, как заправский проводник, указывал дорогу. Время от времени пес останавливался и, обернувшись, глядел на хозяйку. Если она поворачивала не в ту сторону, пес кидался к ней, терся об ее ноги, лаял тоскливо и снова бежал вперед.
Воздух был раскален, солнце заливало жаром все вокруг, словно стараясь выжечь весну. Горячая земля подавалась под ногами Зейнаб – так пепел в печи принимает яйцо. Она взяла девочку на руки, чтобы земля не обжигала ее ножки. Мрачные мысли, как вороны, кружились над головой Зейнаб, били крыльями в темя, предрекая несчастье; на висках ее вздулись голубые пульсирующие жилки. Она шла, еле слышно бормоча: «Небось с Зейдом беда?.. А может, случилось что с Умм Сулейман? Да, с кем-то из них явно неладно!.. Или в деревне что-то стряслось и Умм Сулейман побежала туда?..» Вдруг лицо ее помрачнело. «Старухина страсть, – вспомнила Зейнаб, – первой узнавать всякие новости. Вот, наверно, и бросила дом и детей – лишь бы выспросить, не слышно ли где чего. Ей подавай все подробности, чтоб посудачить потом всласть…»
– Ей-богу, – вырвалось у нее, – есть за Умм мулейман такой грех!
Она ускорила шаг.
Подходя к дому Умм Сулейман, Зейнаб огляделась и позвала погромче:
– Эй, Умм Сулейман! Умм Сулейман!
Ни слова, ни шороха в ответ. Зейнаб вошла в дом – ни души. Тревога ее усилилась. Выйдя из дома Умм Сулейман, она застыла в растерянности: куда идти, кого спрашивать? В узком переулке никто ей не встретился, деревня словно вымерла. Зейнаб напугала тишина – непривычная, странная, тревожная… Что делать? Она устала, измучилась от жары, ее одолевал страх. С испугу ей чудилось, будто у нее оборвалось все внутри. Надо расспросить соседей! Зейнаб постучала в дверь ближайшего дома – никто не отозвался, не вышел к ней. На обратном пути пес еще настойчивее подгонял Зейнаб, сердился, а когда она остановилась на дороге – расспросить четырнадцатилетнюю Рахму аль-Махмуд, налитую, как спелая груша, стройную, пышущую здоровьем, – он громко на нее залаял. Странное дело, Рахма, едва заметив Зейнаб, ускорила шаг. Зейнаб насторожилась: «Что случилось? Почему Рахма избегает меня? Я ведь ни ей, ни семье ее ничего плохого не сделала».
– Рахма, здравствуй! – окликнула она девочку и провела пальцами по влажному лбу.
– Дай бог вам здоровья.
– Случилось что-нибудь? – торопливо спросила Зейнаб.
– Не знаю, все собрались в доме старосты.
– Почему у него? – насторожилась Зейнаб.
– Не знаю, Умм Зейд…
Рахма двинулась было дальше, избегая дальнейших расспросов, но Зейнаб задержала ее:
– Ты не видела Умм Сулейман?
– Вроде там она, точно не знаю.
Зейнаб направилась к дому старосты. Рахма с облегчением перевела дух и, обернувшись, проводила соседку сочувственным взглядом. У Зейнаб почемуто стали заплетаться ноги. Нет-нет, нельзя так волноваться! Она ведь сильная, уверенная в себе женщина. Что за нелепый страх? И к старосте она идет по делу – надо найти сына Умм Сулейман, пусть возвращаются поскорее домой. Откуда все-таки этот страх? Почему она никак не успокоится? Но страх не отступал, леденил сердце, пронизывал каждую клеточку тела, у дома стояли люди, сбившись в кучу. Заметив Зейнаб, многие поворачивались к ней, и вид их, казалось, говорил о чем-то, чего не смели сказать уста. Одни печально склоняли головы, другие опускали глаза, бормоча себе что-то под нос. Кое-кто поглядывал на нее с тревогой и любопытством. Все это еще больше усилило ее беспокойство. Зейнаб прошла мимо двух женщин, сидевших на дороге. Они смущенно придвинулись друг к дружке, и одна из них шепнула товарке:
– Да поможет ей Аллах…
Зейнаб сперва не поняла смысла оброненных женщиной слов, все ее существо противилось этому. До нее дошло вдруг, что она все ускоряет и ускоряет шаг, словно пытаясь убежать от сжигавшего ее огня. Но было ли это бегством от судьбы? Или она торопилась поскорее услышать, что же, собственно, произошло? Да, решила Зейнаб, без толку затыкать уши и притворяться, будто ничего не случилось, лучше уж поспешить и самой узнать все как есть.
У дома старосты сидела на пороге Умм Сулейман. Прислонясь к стене, она обхватила голову руками, скорбное лицо ее залито было слезами.
Замирая от волнения и страха, Зейнаб наклонилась к ней, умоляюще протянув руки:
– Умм Сулейман, да отведет Аллах зло от нас. Ради него, всемогущего, скажи хоть что-нибудь.
Умм Сулейман лишь глянула на Зейнаб и, не сказав ни слова, громко зарыдала. Обеспамятев от страха, Зейнаб спросила:
– Где Зейд? Что с ним?
– С Зейдом все в порядке.
– Где он?
– В гостиной, возле мужчин.
Сердце Зейнаб катилось в пропасть, разверзшуюся в ее груди. Так человек, обессилев, все еще тщится отразить удар, отсрочить нагрянувшую беду. Зейнаб вся дрожала, колени ее подгибались.
– Скажи наконец, Умм Сулейман, в чем дело?
– Не знаю, дочка, не знаю. Спроси у мужчин, они сказали, пришло, мол, письмо какое-то, и забрали у меня Зейда. Увы, слова, услышанные мною, не приносят радости ни врагу, ни другу. О Аллах, избавь нас от всех бед и печалей!
«Письмо?! – лихорадочно думала Зейнаб. – Кто мог написать его, кроме Мухаммеда? Если с ним что-то стряслось, как теперь жить?»
Зейнаб вихрем ворвалась в гостиную и, одолев робость и страх перед неведомым, громко спросила:
– Заклинаю вас Аллахом, что случилось?
Мужчины обернулись к ней. Впервые в жизни Зейнаб оказалась лицом к лицу с целой толпой мужчин: на нее уставились десятки глаз. Ни разу еще не бывала она в подобном положении. Что делать – плакать ли ей, умолять ли, или лучше всего помолчать? Она пыталась прочесть ответ в глазах мужчин, но ничего не поняла, а мужчины молчали, многозначительно переглядываясь. Наконец вперед вышел староста. Седая борода его задрожала, в глазах светилась жалость:
– Уповай на Аллаха, Умм Зейд. Уповай на Аллаха и верь, все пройдет.
Зейд, плача, подбежал к матери и ухватился за подол ее платья.
– Что-нибудь с Мухаммедом? – спросила она сквозь слезы.
– С Мухаммедом все в порядке. Он – настоящий герой. Зейд может гордиться таким отцом.
– Но что же случилось?
– Ничего особенного…
– Ради Аллаха, староста, скажите мне, что с Мухаммедом?
– Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, – помолчав, произнес староста. – Я получил письмо от Низара. Мухаммед, друг его, сказано в письме, ранен.
Пронзительно вскрикнув, Зейнаб выбежала на улицу, ее догнал плачущий Зейд. Они пошли по деревне, рыдая во весь голос. Из домов навстречу им выходили крестьяне, сочувственно качали головами, разделяя горе матери и сына. Печально взирали на Зейнаб горы, от жалобных стенаний ее лопались и рассыпались камни, боль и скорбь Зейнаб передались земле. Женщины окружили Зейнаб, шагая скорбной чередой. Подобно тихим горлицам, чье молчание время от времени прерывается воркованием, женщины голосили, рыдали, выводили печальные песни. Сердца их переполняли тревога и боль, они вспоминали свое печальное прошлое. Мрачные воспоминания тяжкой глыбой ложились на грудь, стесняя дыхание. Безотрадно было и их настоящее. Женщины рыдали все громче, ведь это был повод свободно и открыто, не навлекая на себя гнева мужчин, излить накопившиеся в душе вековечные страдания и горечь. Долго не могли они успокоиться. А завтра жизнь снова потечет по прежнему руслу – такая же тоскливая, однообразная, порой мучительная, как у несчастной Зейнаб.
Односельчане, как могли, утешали семью Мухаммеда аль-Масуда. Завидя его ребятишек, соседи старались их приласкать; дети не отставали от взрослых, пытаясь отвлечь бедолаг от невеселых мыслей. Особенно преуспели в этом женщины – чужая боль поразила их в самое сердце, взбудоражила все сокровенное в тайниках души. Люди торопились разделить с Зейнаб бремя ее тяжелого горя, а Ахмед аль-Хасан даже послал семье Мухаммеда горсть кофе и кило сахара. Души людей наполнились сочувствием к Зейнаб. В ее драме было нечто такое, что касалось не только Зейнаб и ее детей, а глубоко тронуло души многих людей…
Письмо, прибывшее в деревню, было адресовано старосте, поскольку Низар не знал имен ни жены своего друга Мухаммеда, ни его родичей. Вскоре староста с несколькими почтенными сельчанами догнал Зейнаб и, проводив ее, вошел в дом, чтобы прочесть ей вслух письмо. И часа не прошло – вся деревня знала содержание письма.
« Уважаемый староста деревни Кахиль. Приветствую вас. Пишу вам с фронта, с передовой. Прошу сообщить семье Мухаммеда аль-Масуда из вашей деревни: он ранен. Это случилось на моих глазах, когда мы вступили в схватку с врагом. Не знаю, жив он сейчас или нет. Он бился как настоящий герой. Мы гордимся им, и родина им гордится. Вы все тоже должны гордиться подвигом Мухаммеда. Передайте привет от меня его семье, особенно сыну его Зейду, Мухаммед всегда вспоминал о нем. За два дня до боя он хотел послать Зейду двадцать пять лир, но не успел. Я вкладываю эти деньги в конверт вместе с письмом и прошу передать их его жене или Зейду. Да будет над ними милосердие Аллаха и его благословение.
P. S. Мухаммед аль-Масуд занесен в списки пропавших без вести.
Низар аш-Шави».
Все поминали Мухаммеда аль-Масуда добрым словом, скорбели о нем. Зейнаб была неутешна, в отчаянии обливалась слезами. На нее теперь легли новые обязанности, появились новые, большие заботы. Дети совсем маленькие, жить не на что, муж пропал без вести… Да поможет беднягам Аллах!
Долог был путь Зейнаб, проторенный тысячами таких же, как она, женщин, ведавших в жизни одну лишь нужду и боль. Внимая голосу своего сердца, она искала утешения и терпеливо внушала детям: отныне они должны быть разумнее и серьезнее – ведь они сироты… Поставив Зейда перед собой, она повторяла мальчику: помни, теперь ты у нас единственный мужчина, хозяин дома. Она рассказывала ему об отце, надеясь хоть этим вселить в его душу бодрость, веру в свои силы, в будущее. Зейнаб непрестанно скорбела о муже, думала о нем. Вспоминая минувшие годы, Зейнаб не могла воскресить в памяти ничего отрадного и светлого, кроме редких радостных дней, когда вся семья их была в сборе и ничто не омрачало их жизнь. Муж подолгу отсутствовал, зарабатывал гроши, а забот возникало много, очень много. Он был гордым, ее Мухаммед. Увы, ему так и не удалось осуществить свою маленькую мечту, которой он часто делился с нею, когда они оставались вдвоем. «Мечтаю, – говорил он, – чтобы у нас был маленький домик. Вокруг него мы непременно разобьем сад, распашем какое-никакое поле, засеем его, лепешек напечем – ешь не хочу. Работать станем день и ночь. И мне, поверь, уже незачем будет уезжать от вас на чужбину. Живем-то мы земле один раз!..»
Глаза Зейнаб наполнились слезами: «Ты был на чужбине, о отец Зейда, а мы жили надеждой на твое возвращение. Дни проходили, горькие, как плоды алкама [4]4
Алкам (колоквинт) – стелющееся или вьющееся растение семейства тыквенных с очень горькими плодами.
[Закрыть]. Мы вытерпели все невзгоды, ожидание облегчало нам горечь разлуки. Теперь же, увы, нет у нас никакой надежды. Горе вошло в наш дом и в наши сердца, Мухаммед…»
Когда соседи разошлись, впервые в жизни Зейнаб почувствовала, как холод смертельной тоски стиснул сердце. Прижимая Зейда к груди, Зейнаб пыталась прикрыться им, как щитом, от одиночества. С этого вечера она лишилась покоя. В доме все переменилось. Каждая вещь ранила ее. Любой шорох заставлял вздрагивать, губы ее судорожно подергивались, руки опускались бессильно. Подавленная, ослепленная горем, она часто вскакивала с места, подходила к двери или к маленькому окошку, пробитому высоко в стене, напряженно вглядывалась вдаль, прислушивалась, затаив дыхание, потом бросалась обнимать и ласкать своего Зейда.
Женщина без мужа должна особо блюсти себя и беречь детей, чтобы злые языки не запятнали ее имя. «Честь дороже всего на свете, дочка, сокровище женщины – ее чистота». Слова эти, так много значившие для нее теперь, часто повторяла перед смертью мать. И неспроста мать привиделась ей во сне, пришла к ней среди ночи. Горе принесло Зейнаб особое прозрение, пробудило неведомые прежде силы. Она поняла: честь и впрямь величайшее сокровище женщины и ее надлежит беречь как зеницу ока. Раньше она не особенно задумывалась над этим, но теперь…
Мухаммед не один год прожил в Кувейте, потом ушел на военную службу. Все это время Зейнаб жила одна, но она почемуто не чувствовала одиночества, не замечала жадных мужских взглядов. Однако в тот горестный вечер она вдруг осознала себя женщиной, которая может приглянуться любому мужчине, и тот пожелает овладеть ею. Сколько раз доводилось ей слышать жалобы товарок: женский, мол, век краток, красота да пригожесть – недолгий дар. Но сейчас ее мысли о другом – она осталась одна, без мужа, без его защиты и покровительства. Где уж Зейду, сыночку, отстоять ее от посягательств мужчин, защитить ее дом? Зейд… О нем лишь она и думает, он – надежда, что теплится в сердце как свечка, разгоняющая обступившую ее с того вечера темноту, страх, одиночество. Ведь тень Мухаммеда покинула дом, опустела постель, хранившая тепло его сильного тела. Покинула дом непреклонная, твердая воля, что воздвигла его из камней… Рассеялась без следа сила, дарившая успокоение. Дом словно остался без крыши, обнажив свое нутро перед нависшим над Зейнаб небом. И теперь всякой птице вольготно летать в этом прежде для них заповедном месте.