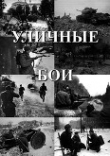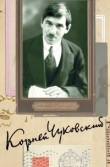Текст книги "Статьи"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Альфонс Доде
Статьи
НОВАЯ ПОСТАНОВКА «ЭРНАНИ» ВИКТОРА ГЮГО
Триумфальное шествие, возвращение победоносных войск, проходящих под воздвигнутыми для этого случая арками и протянутыми поперек улицы гирляндами цветов; клики и приветствия охваченной восторгом толпы, поднятые руки, обнаженные головы; гром славы, прерываемый минутами трепетного, благоговейного молчания, которое только подчеркивает звон оружия и мерный шаг полувзводов по гулкой мостовой, словно расширенной почтительным восхищением народа, – вот чем была эта постановка «Эрнани», одна из самых блестящих и впечатляющих, какие мы когда-либо видели.
Вот какой прием публика премьер, пресыщенная, критически настроенная, любящая посредственное единообразие и банальные события современной комедии, оказала этим прекрасным стихам, бывшим в свое время героями сражений эпохи романтизма:[1]1
Постановка «Эрнани» во Французской комедии вызвала гнев сторонников классицизма в театре, которые собирались освистать романтическую драму Гюго. Однако на премьеру 25 февраля 1830 года явилось около пятисот сторонников романтизма в костюмах разных эпох. Разгоревшаяся в антрактах распря между «классиками» и «романтиками» доходила до кулачных боев.
[Закрыть] теперь они уже не задыхаются от исступления, как тогда, в помятых от ударов кирасах, в кровавом дыму битв, – теперь они горделиво спокойны, дышат уверенно и умиротворенно, теперь они овеяны безмолвной торжественностью и всеобщим признанием.
В этом торжественном батальоне нет ни одного посредственного солдата. Однако то тут, то там один какой-нибудь стих возвышался над прочими, словно порванное, пробитое пулями знамя, словно покрытый славой штандарт, вокруг которого люди яростно и доблестно сражались, и при виде его в нас оживали давно позабытые чувства.
Даже критика, несмотря на свое показное бесстрастие, не могла противостоять всеобщему увлечению. В кои веки раз мы позволили себе восхищаться без всяких оговорок, ибо все в этой драме, которой мы никогда не видели на сцене, показалось нам одинаково прекрасным, – все, вплоть до некоторых чисто драматургических промахов, сознательно допущенных поэтом, чей гений неизбежно влечет его к возвышенной наивности великих страстей и великих деяний, чьи эпические персонажи действуют в легендарной атмосфере давно прошедших времен, и у них у всех гордая осанка и титанические души, высоко поднимающиеся над мелочностью наших условностей, и все они говорят языком неумирающей человечности.
Кое-какие замечания есть у нас лишь по поводу сценического воплощения, да и то незначительные, так как вся драма в целом отлично разыграна. Никогда г. – жа Сара Бернар не бывала так трогательна, как в новой роли доньи Соль. Никогда еще не пользовалась она с таким изумительным искусством своим редким даром глубоко чувствовать и своеобразно выражать свои чувства. Всем хорошо известные стихи, которые зрительный зал шепчет еще до того, как она начала их произносить, приобретают вдруг благодаря ее музыкальной дикции неожиданную, за душу хватающую интонацию, например, знаменитый стих:
который она бросает своему партнеру с каким-то необыкновенно юным, радостным, полным наивной, безудержной страсти порывом. А какое у нее умение слушать, заражаться драматическим действием! Но особенно полно развертываются все возможности ее дарования в последних сценах, на благоухающей террасе Арагонского замка, когда, прошептав супругу, который хочет ее увести: «Сейчас!» – она продолжает сидеть рядом с ним, упиваясь своим счастьем в таинственном безмолвии чудесной ночи.
Уж слишком тихо все, и слишком мрак глубок.
Хотел бы ты звезды увидеть огонек?
Иль голос услыхать, и нежащим и странный,
Летящий издали?
Эрнани
О друг непостоянный!
Ты только что бежать хотела от людей.
Донья Соль
От бала, да! Но там, где птицы средь полей.
Где соловей в тени томится песней страстной
Иль флейта вдалеке!.. О, с музыкой прекрасной
Нисходит а душу мир, и, как небесный хор.
Встают в ней голоса и рвутся на простор.
Стихи замечательные. Но какое дополнительное очарование придает им артистка! Мы опасались, как бы этот нежный голос, этот чистый хрусталь, звонкий и хрупкий, не оказался недостаточно мощным для трагического финального взрыва. Но мы недооценивали дарование артистки, которая даже из этой слабости своей извлекла возможность найти какие-то никогда еще не звучавшие, раздирающие интонации, соответствующие ее тяжелому двойственному положению – между Руй Гомесом и Эрнани. Муне-Сюлли, по обыкновению великолепный, темпераментный, блестяще подает реплики донье Соль. Может быть, он несколько несдержан, несколько увлекается. В некоторых местах он слишком мало играет, недостаточно отделывает детали, но во всех лирических и любовных сценах ему нет равного. Единственный серьезный недостаток – это его речь, настолько лихорадочно – страстная, что зрителю иногда трудно бывает его слушать. Надо, впрочем, сказать, что роль Эрнани невозможно исполнять, отчеканивая каждый стих. И мы предпочитаем дарование Муне-Сюлли со всеми его промахами, с безудержной тратой сил, с беспорядочной, порывистой повадкой спокойному и рассудительному поведению старого Руй Гомеса де Сильва.
У г-на Мобана всегда достаточно рвения и усилий, но никакие старания не могли поднять его до эпической высоты, на которой находится образ герцога. Это самая лирическая роль в пьесе, роль, которую надо произносить на авансцене на манер итальянской каватины, ибо она наливается в величавых тирадах, ничего не прибавляющих к действию драмы, но усиливающих ее нравственную красоту.
У актера не хватает настоящей силы для этих поэтических излияний. Они у него тянутся, как повествовательные отрывки в трагедии, и сопровождаются строго рассчитанными жестами – как бы движениями руки, высовывающейся из-под римской тоги. Зато артист, которому поручили роль Дон Карлоса, то есть роль самую трудную, неблагодарную, справился со своей задачей так, что превзошел все ожидания. До последнего времени мы видели г-на Вормса лишь в ролях первых любовников, в которые он вкладывал юношеский пыл, делающий его достойным соперником Делоне, и в которых он пленял великолепной дикцией. Но в этот вечер, исполняя роль Дон Карлоса, он выказал большое мастерство, большое искусство, уменье построить роль, редкую способность владеть собой, склонность к изучению воплощаемого образа, которой, пожалуй, не следует увлекаться, чтобы исполнение не стало суховатым, но которое в данном случае, проявленное в должной мере, заслуживает восхищения. Вормс, то высокомерный, то страстный, то насмешливый, привел зрительный зал в восторг прежде всего своим чтением несравненного монолога из четвертого действия. С большой силой и вместе с тем необыкновенно четко выделяет он все интонационные оттенки, все тревожные, изменчивые порывы той бури, что клокочет в его царственной голове. Крики «браво», превратившиеся в настоящую овацию, вознаградили его за эти усилия.
Все же мы позволим себе легкую критику, которая, впрочем, относится не столько к артисту, сколько к постановке этой сцены. Мы считаем, что внезапному появлению Дон Карлоса среди заговорщиков не хватает некоторой торжественности. Подумайте: ведь в данной ситуации есть нечто сверхъестественное. Поэт нагромождает здесь эффекты, полные возвышенного лиризма: король Карлос выходит из гробницы Карла Великого, побледневший и как бы возвеличенный своей беседой с покойником; он отрекся от своего прежнего существа, от своих страстей, от своей ненависти и притом как раз в момент, когда три пушечных выстрела возвещают о его избрании императором. Но во Французской комедии этот сценический эффект пропадает. Сцена слишком ярко освещена. А она должна быть погружена в глубокий мрак; должен быть освещен лишь силуэт императора, он должен выделяться на фоне бледного, сверхъестественного света, исходящего из глубины гробницы. В то же время артисту не следовало спешить; ему надлежало говорить медленно, торжественно, так, чтобы заговорщики могли подумать, что с ними говорил, что к ним возвращается сам Карл Великий. По нашему мнению, на сцене слишком светло и в последнем акте, когда после трех призывов рога на верхней площадке лестницы появляется остроконечный, скрывающий все лицо капюшон старого Сидьвы. Если бы было темнее, это явление производило бы более сильное впечатление. А в общем следует признать, что постановка пьесы осуществлена тщательно и все живописные эффекты в ней хорошо согласованы. Ночной налет на Сарагосу соратников Эрнани, набат, крики, объятый пламенем город представляют собой яркую картину, напомнившую нам незабываемое начало драмы «Ненависть».[3]3
«Ненависть»-драма Викторьена Сарду, поставленная в театре Гэте в 1874 году.
[Закрыть]
«БУТОН РОЗЫ» ЭМИЛЯ ЗОЛЯ
Между публикой Пале-Рояля и автором «Бутона розы» произошло недоразумение, и его надо рассеять.
После двадцати лет напряженного труда, усидчивого, тяжелого, беспрерывного, Эмиль Золя добился известности. Слава его возникла бурно, внезапно, разорвалась, как шрапнель. Из тех, кто знал его упорное честолюбие, его удивительное дарование художника – творца образов, никто – может быть, за исключением его самого – не был удивлен этим блистательным триумфом. «Слава подобна нашей тени, – говорил друг Луцилия,[4]4
Друг Луцилия – философ Сенека, автор «Писем к Луцилию» – трактата на этические темы, из которого и приведена цитата.
[Закрыть]– в зависимости от времени дня, от положения солнца в небе, она идет впереди нас или же следует за нами».
Столько было потеряно времени, столько было тщетных стремлений и усилий, что в конце концов Золя проникся убеждением, будто успеха он достигнет лишь через много лет после своего исчезновения, что это будет поздней тенью, отброшенной уже закатившимся солнцем. Отсюда те нотки глухого мятежа, то угрюмое презрение к общественному мнению, которое звучит во всех его книгах. Все же придется ему примириться с тем, что он стал знаменитостью. Если бесчисленные издания, которые выдержали его романы за последние несколько лет, если все венки, которые пресса сплетала вокруг его имени, не до конца избавили его от сомнений и подозрительности, то он освободился бы от них при виде того, как «весь Париж» стремится на этот спектакль в Пале – Рояле, как во всех взорах загорается огонь любопытства, как при поднятии занавеса воцаряется настороженная тишина, которой публика премьер оказывает честь лишь двум-трем прославленным именам.
Подумать только! Пьеса, принадлежащая перу автора «Добычи», «Чрева Парижа», «Западни»; пьеса этого неукротимого мятежника из «Понедельника», который каждую неделю бунтует в театральном фельетоне, останавливая и опрокидывая все, что проезжает мимо, – от омнибусов компании Сарду до догкарта Дюма-сына, до парадных карет с гербами и позолотой, с прославленным вензелем В. Г.[5]5
В. Г. – Виктор Гюго.
[Закрыть] на дверцах. Ожидали шума и грома, скандала, взрывов пироксилина, не оставляющих и следа от старой драматургической формы. А вышло так, что, захваченный врасплох просьбой театра Пале-Рояль написать для него пьесу. Эмиль Золя решил сдать театру трехактную комедию без всяких претензий, написанную наскоро, с забавным сюжетом. Тут-то и вышло недоразумение: получился разрыв между расчетами публики и писателя. Будь пьеса подписана другим именем, она имела бы гораздо больше успеха.
Действие происходит в Туре, в гостинице «Большой олень» – добропорядочном заведении на Королевской улице, принадлежащем Брошару и Рибалье. Рнбалье, старый фатоватый холостяк с придурью, разваливается каждый день в своем широком кресле за письменным столом и, сложив губы сердечком, делая благородные плавные жесты, округлые, словно горшок с жареной свининой, принимает посетителей, красуется перед ними и все свои любезности ставит в счет постояльцам, а тем временем Брошар, бывший фельдфебель, грубиян и невежа, с короткой шеей, с лицом лнловатым, как баклажан, взяв на себя все внешние сношения, ездит за провизией, пьет белое вино с поставщиками, а когда они пытаются плутовать, уж как же он их честит!..
Достаточно упомянуть эти два персонажа, достаточно упомянуть добрую казарменную дворнягу, раскатами голоса вгоняющую в дрожь своего мирного компаньона, чтобы представить себе, какая это забавная упряжка, как занятны сцены их совместной жизни с веселой суетней гостиничного быта, с отъездами, приездами, встречами, с табльдотом, с банкетами и балами, организованными по подписке. Нынче вечером свадьба, от которой все в гостинице идет вверх дном: Брошар женится; а уж когда Брошар женится, то, смею вас уверить, весь «Большой олень»– и персонал и постояльцы – будут на ногах. Вино течет рекой, стекла окон дрожат, эхо труб и тромбонов раскатывается до самой Луары, и только около трех часов утра Рибалье, разбитому, падающему от усталости, удается ускользнуть из-под бдительной опеки неутомимого приятеля, укрыться от тиранически навязанного ему веселья и, крадучись, добраться до своей комнаты, обрести наконец свои туфли, ночной колпак, гоголь-моголь – словом, весь тот ритуал, с которым старые холостяки укладываются спать. Но не успевает он как следует улечься, – дверь слетает с петель от двух мощных ударов кулака. Появляется Брошар в застегнутом на все пуговицы свадебном сюртуке, бледный, мрачный, со стиснутыми зубами, напоминающий Вателя[6]6
Ватель (умер в 1671 г.) – домоправитель принца Конде, покончивший с собой из-за того, что в то время, когда его хозяин принимал у себя Людовика XIV, за ужином не хватило жаркого, не удался фейерверк, наконец, ночью поставщики не привезли к завтраку рыбы свежего улова.
[Закрыть] в ночь, когда совсем не было рыбы свежего улова. Но сейчас в «Большом олене» свежей рыбы достаточно, – нет битой птицы, и Брошар вынужден сию же минуту ехать в Ле-Ман, где ему должны поставить каплунов, которых перехватила у него гостиница «Универсаль». Положение отчаянное, «Ну что ж, поезжай, друг мой», – говорит закоренелый эгоист Рибалье, украдкой поглядывая на впадину, уже образовавшуюся в мягкой постели от его тела. Однако новобрачный относится к делу отнюдь не столь благодушно: «Поезжай! Поезжай!.. Тебе хорошо говорить… Посмотрел бы я, как бы тебе весело было мотаться туда-сюда в брачную ночь!..» «Ну, тогда иди к жене и не мешай мне спать». «А наши каплуны, несчастный, а каплуны, которых у нас перехватил «Универсаль»?.. Нет, нет, это невозможно! Профессиональный долг превыше всего… Решено, я еду в Ле-Ман и доверяю тебе мою крошку…» «Ты – мне?..» «Я доверяю тебе мою жену, тысяча чертей! Золотой самородок чистоты и невинности я оставляю в твоих руках, Рибалье, и ты отвечаешь мне за него головой… Горе тебе, если с нее упадет хотя бы пылинка!» «Но, друг мой…» «Никаких «но»!» И тут усы Брошара начинают топорщиться с тем подобным жужжанию прялки грозным шелестом, с каким сворачивается в клубок выставивший все свои иглы дикобраз. Ах, если бы бедняга Рибалье мог сам поехать в Ле-Ман, если бы каплуны были по его ведомству, он предпочел бы, пожалуй, вылезти из постели, из ночных туфель, только не принимать на себя ответственность в деле, касающемся такого дуралея!
Но его успокаивают невинный взгляд и выдержка крошки-новобрачной, – она приоткрыла дверь и стоит на пороге в белом подвенечном наряде с венком флердоранжа на голове: «Ты болен, дружочек?» Нет, черт побери, Брошар не болен, но ему надо ехать в Ле-Ман и т. д., и тут снова повторяется рассказ о каплунах и о сокровище, о святыне, которая отдается на хранение Рибалье. Молодая дама выслушивает Брошара с полнейшей невозмутимостью и отвечает короткими фразами, достойными куклы Боре: «Хорошо, друг мой», «Отлично, друг мой». «Да это ангел! – восхищается про себя компаньон. – Наблюдать за такой ничего не стоит». Тут романтически настроенный Брошар, любящий мыслить символами, вынимает из кармана бутон розы, который он снял со свадебного торта, и прикалывает его к корсажу супруги: «Через два дня, когда я вернусь, он должен быть на том же самом месте, слышите? И он должен быть таким же нетронутым и таким же свежим, как сейчас». «Не беспокойся, дружочек!»-отвечают ясные глазки, искрящиеся всей прелестью невинности. А Рибалье снова шепчет: «Ангел!»
Конечно, ангел на поверку оказывается сущим бесенком, и, таким образом, опекунство Рибалье превращается во что угодно, только не в синекуру: «Хочешь наблюдать за мной, старикан? Что ж, наблюдай!» В ближайший же вечер офицеры 301-го полка являются в «Большой олень» пропустить рюмочку и вступают с г-жой Брошар в заговор с целью устроить несчастному компаньону нелегкую жизнь: в продолжение целого акта он носится за супругой приятеля, застает ее то с капитаном, то с лейтенантом, то с младшим лейтенантом, словом, поклонников у нее целый полк! А как лихо этот ясноглазый ангелочек погружает свои крылышки в пунш, с каким огоньком распевает забористый казарменный куплетец! Похоже, что этот серафим ходил в «вольноперах»! А еще больше похоже на то, что он дал зарок свести тебя с ума от любви, бедняга Рибалье. Выпив несколько бокалов шампанского, ты пустился во все тяжкие и так быстро покатился по рельсам, что занавес опускается как раз вовремя, чтобы скрыть от нас твои безобразия, твои слабости и все скандальные сцены, происходящие в «Большом олене».
В третьем действии Рибалье уже протрезвел – он стоит лицом к лицу со своей нечистой совестью и с кем – то еще более грозным, чем совесть, а именно с Брошаром, который вернулся с охоты без каплунов, но с утешительным воспоминанием о двух здоровых оплеухах и лихом ударе шпаги, которым он угостил предателя-поставщика. «Так да погибнут все изменники!»-гремит бывший фельдфебель, потрясая вилкой и исподлобья бросая взгляд на жену и на компаньона, сидящих на другом конце стола. «Я погиб… Ему все известно», – думает Рибалье и бледнеет от страха. В довершение всего крошка-новобрачная начинает расточать перед супругом чересчур сочную словесность солдатского погребка и офицерской столовой, которой обучили ее новые друзья – офицеры и унтеры 301-го полка. «Офицеры – приятели моей жены?.. Это еще что такое? – вопрошает разгневанный Брошар и, окинув ее взглядом людоеда, громовым голосом продолжает: – А где мой бутон? Подать его сюда!..» Ошалев от ужаса, Рибалье готов уже во всем признаться – и в измене ангела, и в преступлении, содеянном ими прошлой ночью, но тут раздается звонкий смех, г-жа Брошар кидается на шею мужу, а на корсаже у нее свежая роза, как у Мими-Пенсон. Рибалье стал жертвой гнусной мистификации. Ему хотели дать урок: прежде чем наблюдать за другими, научись следить за собой. Можете быть уверены, что урок пойдет ему на пользу.
Приняв во внимание, как много теряется при пересказе таких произведений, согласитесь, что из этого сюжета могла получиться занимательная пьеса. Оба характера – и Рибалье и Брошара, которых превосходно играют Жоффруа и Пельрен – списаны, и притом отлично, с натуры. Нет ничего комичнее Рибалье, этого Тантала своей подушки: у него все время одна нога на кровати, а другая свисает на пол, и ему так и не удается улечься по-настоящему. А когда дама из 17-го номера, преследуя его, забирается к нему в комнату, как отлично он выпроваживает ее, с каким добродушным хладнокровием! Превосходна также сцена обеда в третьем действии, где все терроризованы дурным настроением Брошара, не смеют пикнуть и шепотом просят «передать хлеб». В своем роде это стоит завтрака из «Шара»,[7]7
«Шар»– комедия Мейлака и Галеви, поставленная в театре Пале-Рояль в 1874 году.
[Закрыть] с той лишь разницей, что в «Шаре» этими перипетиями, этой бессловесной игрой открывался первый акт, а здесь, в последнем, они замедляют действие, придают ему некоторую вялость, а оно должно бы набирать к развязке темп, подобно коню, почуявшему стойло. Здесь, так сказать, промах в театральной оптике. Излишним является и хоровод, чересчур броский и старомодный, равно как и любовные признания сержанта, который обхаживает г-жу Брошар в перчатках денщика и с жестами Карагеза. Однако все это пустяковые придирки, легко устранимые дефекты отделки, которые никак не объясняют раздражения, вернее, разочарования публики. «Как? Только и всего?»-казалось, говорили все, даже не подумав, что автор и не собирался давать ничего другого. Конечно, зритель был в своем праве, – он во что бы то ни стало требовал последовательности. Но не позволить даже произнести имя автора – это уж слишком. А ведь в театре не так часто звучат подобные имена.
Во всяком случае, Эмилю Золя надо принять это в расчет на будущее время. Публика не посвящена в тайны творческой жизни, и она не догадывается, что художник может устать, что его напряжение нуждается в разрядке, – публика требует от любимых писателей верности привычному диапазону, она всегда требует от них самых высоких нот, в особенности от автора «Страницы любви»; она ждет от него произведений не менее прекрасных, высокого, мощного тона. Ему не разрешают даже прикорнуть, а ведь и льву порой надо хорошенько выспаться. Нет, он должен всегда рычать и выпускать когти! Тяжело, но ничего не поделаешь – приходится.
НОВАЯ ПОСТАНОВКА «РЮИ БЛАЗА» ВИКТОРА ГЮГО
Ни на одной из пьес Виктора Гюго так явственно не выделяются печать и штамп 1830 года, как на «Рюи Блазе», ни в одной из них так явственно не звучит романтическое Hierro,[8]8
Испанское слово Hierro («железо») Гюго написал на пригласительных билетах, розданных романтикам, явившимся на премьеру «Эрнани» защищать Гюго.
[Закрыть] оказавшееся на скрещении великих литературных движений боевым кличем и лозунгом. И все же драма не устарела. Она предстала перед нами вчера такой же, какой ее видели в первый раз наши отцы: мощной, живой, полной пафоса и театральной – даже в том, что в ней неправдоподобно. В пятницу вечером во Французском театре ее встретили такими же восторженными рукоплесканиями, как сорок лет назад на сцене театра Ренессанс. Тогда, как и теперь, в архитектурном остове этого творения угадывались прихоти строителя, даже трещины и щели, которые время и не законопатило и не расширило, но которые по-прежнему остаются искусно и богато задрапированными и скрытыми волшебством ни с чем не сравнимых стихов.
В этой большой пьесе, в три тысячи стихов, перемешивается и перекрещивается все многообразие переходов и интонаций, все языковые оттенки; нежность, пафос, горькая и злая ирония, – в ней содержится, в ней звучит, в ней оживает вся клавиатура человеческой души. И какие руки касаются этих клавиш! Найдется ли во всем классическом репертуаре, о котором часто заговаривают, когда дело касается подобных произведений, что-нибудь равное лучезарному веселью, блистательному, дерзкому и мощному пылу, которым дышит образ дона Сезара де Базана, которым веет от его пышного, развевающегося султана? Слушать его – это настоящее пиршество, на котором вы наслаждаетесь испанскими винами, пьянящими, бархатистыми, согревающими кровь. А как оживляет четвертое действие Коклен Старший, как он читает стихи – не на манер Меленга, исполнявшего эту роль в Одеоне: по-ученому, весьма любопытно и книжно, – нет, его исполнение проникнуто непосредственной, заразительной веселостью! «Он больше Фигаро, чем дон Сезар», – заметил мой сосед. Упрек незаслуженный, результат непонимания. Разумеется, актер не мог специально для этой роли вылезти из кожи, но он был блистательно многоречив, искренен. В нем было ровно столько барственности, сколько требуется этому прощелыге дону Сезару, чье испанское грандство часто ютилось под мостами, бродило по выжженным солнцем берегам рек, отчего на его плаще осталась печать цыганщины, отчего он пропитался запахом больших дорог. Коклен, отвергнув традиционную трактовку роли, создал совсем новый образ, который тотчас же был освящен успехом у публики, настолько, что для зрителя он даже заслонил образ Рюи Блаза, а между тем Рюи Блаз должен был быть на первом плане. Дело в том, что г-н Муне-Сюлли, который, впрочем, всегда отлично перевоплощается в свои любимые драматические образы, не наделяет их той спокойной и ровной силой, какую обнаруживает Коклен в роли дона Сезара. Великолепно изображая в пятом действии страсть и гнев, начиная с того момента, когда Рюи Блаза охватывает ярость:
трогательный, пылкий, грозный, срывающий аплодисменты после каждого стиха, он долго заставил нас ждать этого пробуждения, он вяло произнес тираду: «Приятного вам аппетита…»-одну из важнейших арий этой лирической драмы, а главное, совершенно провалил сцену, где дон Саллюстий забавляется, унижая лакея, которого он сделал испанским грандом:
Здесь дует из окна —
Поди, закрой его…
Не слишком ли медлителен г-н Муне, когда закрывает окно, поднимает платок? Не слишком ли внешне передает он то усилие, какое делает над собой раб, грызущий удила? Во всяком случае, все это плохо пригнано, плохо отмерено: вся сцена до того фальшива, что делается неловко. А ведь она очень театральна. Лафонтен – не говоря уже о Фредерике, которого нам не пришлось видеть, – извлек из нее могучий эффект. Поработав и поразмыслив, г-н Муне-Сюлли сумеет внести недостающие оттенки, гармонические паузы музыкальной страницы. Заслуживает похвалы г-н Февр, достаточно сильный и выразительный, надменный и мрачный в роли зловещего дона Саллюстия, – он создал блестящий образ. Достоин похвалы и г-н Мартель, сумевший придать в меру шутовской облик старому дону Гуритану, поклоннику королевы. Гордясь своими шпорами, словно старый боевой петух, он только, пожалуй, слишком уж напирает на этот внешний образ боевого петуха – его манера поднимать руку и держать ее горстью напоминает комика Александра в «Курице с золотыми яйцами».[10]10
«Курица с золотыми яйцами» – комедия Деннери (1848).
[Закрыть] Я не могу найти слова, чтобы выразить восхищение игрой г-жи Сары Бернар, – слова, которые не были бы повторением всего, что уже говорилось об изумительной чистоте ее голоса, о четкости и ясности его интонаций, этом алмазном ключе, открывающем все самые трудные положения и даже самые враждебные сердца. Публика неистовствовала больше, чем когда-либо. Но критику да будет позволено сказать исполнительнице, что она вносит в исполнение своих ролей слишком мало оттенков, что она слишком доверяется своему испытанному таланту И злоупотребляет симпатиями публики. В «Рюи Блазе» она, по нашему мнению, проявила себя как настоящая артистка лишь во втором действии, когда королева пытается молиться, держа на груди письмо: «О, пощади меня…» Она кладет письмо на стол, потом опять берет его и прерывает молитву:.
Прочесть в последним раз и разорвать…
Все это превосходно понято и произносится как нужно. Но в целом г-жа Сара Бернар не играет свою роль – она ее прет. После того как мы похвалим г-жу Баррета за милую живость, с какой она воссоздает образ Касильды, рассыпая жемчужный смех в мрачном безмолвии испанского дворца, нам останется лишь с похвалой отозваться о декорациях, о великолепных костюмах, обо всей, впрочем, чересчур броской, чересчур «оперной» пышности, какой последние годы отличаются постановки Французского театра.
Печать единодушно отмечает блестящий успех новой постановки «Рюи Блаза». Рецензенты удовольствовались тем, что покритиковали отдельные детали исполнения. В связи с этим нам хотелось бы рассеять с помощью маленькой книжки, вышедшей на днях в издательстве Оллендорфа, недоразумение с ложной, якобы традиционной трактовкой роли дона Сезара, которую блистательно исполняет сейчас несравненный Коклен.
Признавая все достоинства артиста, признавая впечатление, произведенное его игрой на публику, большинство наших собратий упрекает его в извращении образа дона Сезара, в том, что он нарочно лишил эту роль присущей ей величественности, лишил благородства, что он играет не столько дона Сезара, сколько Фигаро. Так вот, заглянув в «Историю Рюи Блаза» Александра Эппа и Клемана Кламана, мы обнаружим, что в 1838 году в первой постановке пьесы роль дона Сезара, сперва предназначавшаяся Гюйону, в конце концов поручена была Сен-Фирмену. Гюйон был превосходный исполнитель первых ролей, Сен-Фирмен – законченный и очень живой комик, который, не усмотрев в образе дона Сезара ничего сложного, постарался сделать из него прежде всего яркий, лучезарный контраст ко всему, что есть в драме темного и страшного. В таком понимании роль эта очень позабавила публику. Позже, в 1841 году, когда «Рюи Б лаз» перешел в театр Порт-Сен-Мартен, преемником Сен-Фирмена оказался Рокур. Было высказано мнение, что он слишком щупл, не по размерам сцены, но играл он все того же симпатичного хвастуна, и против трактовки возражений не было. Еще через несколько лет Фредерик Леметр, которого всегда соблазняли лохмотья пикаро,[11]11
Пикаро (исп. «плут») – герой «плутовского романа», жанр которого возник в Испании.
[Закрыть] заказал по своей мерке пьесу под названием «Дон Сезар де Базан», где одно лишь богатое воображение поэта, но только надутое, ходульное, лишенное блистательного волшебства его стихов, заполняло все пять или даже шесть актов мелодрамы, о которой Теофиль Готье отозвался нижеследующим образом:
«Можно не сомневаться, что гг. Дюмануар и Деннери – люди вполне порядочные: носового платка они ни у кого из кармана не вытащат, а вот идейкой воспользоваться могут. Во всяком случае, у них хватило наивности не отпороть метку с шарфа, который они вытянули из кармана прославленного поэта Виктора Гюго. В наше время, когда свирепствуют литературные пираты, это своего рода добродетель… относительная, конечно. Но какой великий актер Фредерик! Как он одним жестом, одним словом, одним восклицанием умеет растормошить публику – от партера до райка! Вам кажется, что вы видите любовные сцены, слышите пламенные слова, крики о мщении! Прочитайте пьесу – ничего этого в ней нет. Все писал Фредерик, возводя очи к небу, бросаясь на колени, переставляя с места на место стул, закрывая судорожно сжатыми руками трагически искаженное лицо».
С того дня возник ложный образ дона Сезара, перворазрядная роль, трагическая и шутовская, бурлескная и патетическая, роль Дон Жуана, вылезшего из сточной канавы, Дон Жуана, который случайно избежал петли, роль паяца и Альмавивы. Но разве такого парня втиснуть в один ящик с доном Саллюстием и Рюи Блазом?
Меленг, в 1872 году сыгравший эту роль в традициях Фредерика, был в ней как-то странно уныл, особенно в четвертом действии. Его слишком пышный романтический султан падал ему на глаза, словно траурные перья на катафалке, и, несмотря на Сару Бернар, Лафонтена и Жоффруа, это отразилось на всем спектакле. На этот раз, напротив, комический пыл Коклена произвел именно тот контраст, к которому стремился Виктор Гюго. По нашему мнению, заслуга артиста в том и состоит, что он первый оттенил блестящее остроумие и комическую силу поэта, создавшего «Рюи Блаза».