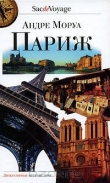Текст книги "Маленький человек (История одного ребенка)"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
VII. КРАСНАЯ РОЗА И ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА
.
После первого посещения старинного дома Лалуэта, я долгое время не возвращался туда. Жак аккуратно отправлялся туда по воскресеньям, и каждый раз он придумывал новую форму банта для своего галстука. Галстуки Жака представляли вообще целую поэму, поэму горячей, сдержанной любви, нечто в роде восточного селама или тех букетов символических цветов, которые турецкие аги преподносят своим возлюбленным, выражая ими все оттенки своей страсти.
Если бы я был женщиной, галстуки Жака с их бесконечно разнообразными бантами тронули бы меня больше всяких объяснений в любви. Но – сказать ли правду? – женщины ничего в этом не смыслят… Каждое воскресенье, собираясь к Пьеротам, бедный влюбленный всегда обращался ко мне с вопросом:
– Я ухожу туда, Даниель… пойдешь ли ты со мной?
И я неизменно отвечал:
– Нет, Жак, я буду работать…
Тогда он быстро удалялся, и я оставался один, совершенно один со своими рифмами.
Я принял твердое, серьезное решение не ходить к Пьеротам. Я боялся встречи с Черными Глазами. Я говорил себе: "Если ты опять увидишь их, ты погиб", и я не хотел увидеть их. Но они не давали мне покоя, эти большие Черные Глаза. Они всюду преследовали меня, и я не переставал думать о них и днем, и ночью. На всех моих тетрадях красовались большие глаза с длинными ресницами, нарисованные пером. Я простъ не мог отделаться от них.
Ах, когда мать моя – Жак – уходил с сияющим лицом и новым бантом в Сомонский пассаж, мне страстно хотелось броситься вслед за ним по лестнице, крикнуть ему: "Подожди меня!" Но я сдерживал себя; какой-то внутренний голос говорил мне, что мне не следует итти туда, и у меня хватало мужества оставаться у столика и спокойно отвечать Жаку: "Нет, Жак, благодарю, я буду работать".
Это длилось довольно долго, но я уверен, что, в конце концов, мне удалось бы с помощью моей музы совершенно изгнать Черные Глаза из моей души; к несчастью, я увидел их опять. Эта встреча погубила меня… Черные Глаза всецело овладели мною.
Произошла эта встреча при следующих обстоятельствах. Со времени прогулки нашей по набережной, Жак больше не говорил со мной о своей любви, но я по его лицу видел, что дело там не ладилось… По воскресеньям, возвращаясь от Пьеротов, он всегда бывал очень грустен. По ночам он часто стонал, но, когда я спрашивал у него: "Что с тобой, Жак?", он резко отвечал: "Ничего". Но я хорошо понимал, что ему очень тяжело. Жак, добрый, терпеливый Жак, теперь часто бывал резок со мною, смотрел на меня сердитым взглядом. Я догадывался, что под этим скрывается большое сердечное горе, но так как Жак упорно молчал, то я не смел поднимать этот вопрос. Однако, в одно воскресенье он вернулся более мрачным, чем обыкновенно, и мне захотелось выяснить положение.
– Жак, – сказал я ему, взяв его руку, – что с тобой? Твои шансы так плохи?
– Да, совсем плохи, – отвечал Жак печально.
– Но в чем же дело, Жак? Может быть, Пьерот догадывается о чем-то я мешает вам?
– О, нет, Даниель, дело не в Пьероте… Но она не любит меня… Никогда не полюбит.
– Какой вздор, Жак. И на каком основании ты можешь утверждать это?.. Сказал ли ты ей, что ты любишь ее?.. Нет?.. Ну, вот видишь…
– Тот, которого она любит, ничего не сказал ей; ему не надо было говорить, чтобы добиться ее любви.
– Неужели ты думаешь, что флейтист?..
Жак точно не слышал моего вопроса.
– Тот, которого она любит, ничего не сказал, – повторил он.
Я не мог добиться ничего другого. В эту ночь никто не спал на Сен-Жерменской колокольне.
Жак просидел всю ночь у окна, глядя на звезды и вздыхая. Я же думал в это время о том, как бы помочь Жаку. "Что, если бы я пошел туда? – говорил я себе. – Может быть Жак ошибается, может быть мадемуазель Пьерот не поняла, сколько скрывается любви в складках его галстука… Если Жак не решается высказать ей свою любовь, мне следовало бы заговорить с ней об этом… Да, я пойду к этой филистимлянке и переговорю с нею…"
На следующий день, не говоря ни слова Жаку, я отправился туда. Клянусь, что у меня не было никаких задних мыслей. Я пошел к ней исключительно ради Жака, ради одного Жака… Но, когда я увидел на углу Сомонского пассажа бывший торговый дом Лалуэта с его зелеными ставнями и большой вывеской: "Фарфор и хрусталь", у меня замерло сердце… Это должно было остановить меня, но… Я вошел в магазин; там никого не было. В задней комнате завтракал флейтист… На скатерти рядом с его прибором лежала его флейта. "Не может быть, – говорил я себе, поднимаясь по лестнице, – чтобы Камилла могла колебаться между этой флейтой и моей матерью – Жаком. Впрочем, увидим"…
Я застал Пьерота, его дочь и даму высоких качеств за столом. К счастью, не было Черных Глаз. Когда я вошел в комнату, все ахнули от удивленья.
– Наконец-то! – воскликнул добряк Пьерот своим громовым голосом. – Он, конечно, выпьет чашку кофе с нами…
Меня усадили за стол. Дама высоких качеств принесла мне великолепную чашку с золотыми цветами, и я уселся рядом с мадемуазель Пьерот…
Она была необыкновенно мила в этот день. В волосах ее была воткнута маленькая красная роза… Удивительно яркая… Признаюсь, я подозреваю, что эта маленькая красная роза была волшебницей, которая придавала особенное, неотразимое очарование этой маленькой филистимлянке.
– Что же это такое, господин Даниель, вы не желаете бывать у нас! – сказал мне Пьерот, смеясь.
Я начал извиняться, ссылаясь на литературные работы.
– Да, знаем вас… Латинский квартал!..
И севенец громко расхохотался, поглядывая на даму высоких качеств, которая покашливала, толкая меня ногой под столом. Латинский квартал означал в этом мире оргии, музыку, маски, фейерверки, разбитую посуду, безумные ночи и прочее. Как удивились бы они, если бы я стал рассказывать им о моей отшельнической жизни на Сен-Жерменской колокольне. Но в ранней молодости мужчина не прочь прослыть кутилой; слушая обвинения Пьерота, я защищался крайне слабо:
– Да нет же, уверяю вас… Это совсем не то…
Жак, вероятно, расхохотался бы, если бы увидел меня в эту минуту.
В то время, как мы допивали кофе, со двора послышался звук флейты. Пьерота звали в магазин. Как только он вышел из комнаты, дама высоких качеств также удалилась, – вероятно, она отправилась в кухню сыграть партию в пикет с кухаркой. Между нами будь сказано, мне кажется, что одно из самых высоких качеств этой дамы было ее пристрастие к картам…
Когда я остался наедине с маленькой красной розой, я подумал: "Вот подходящая минута!", и я собирался уже произнести имя Жака, когда мадемуазель Пьерот спросила вдруг почти шопотом, не глядя на меня:
– Это Белая Кукушка мешает вам навещать ваших друзей?
Сначала я думал, что она смеется надо мной, но она не смеялась. Она казалась очень взволнованной, густой румянец покрыл ее щеки, и грудь высоко поднималась. Вероятно, при ней говорили о Белой Кукушке, и она смутно представляла себе бог знает что. Я мог разбить ее предположения одним словом, но какое-то глупое тщеславие удерживало меня… Не получая от меня ответа, мадемуазель Пьерот повернулась ко мне и, подняв свои длинные ресницы, взглянула на меня… Нет, я лгу. Не она взглянула на меня, а Черные Глаза, полные упреков и слез. О, милые Черные Глаза, радость моей души!
Это было лишь мимолетным видением. Длинные ресницы тотчас опустились, и Черные Глаза исчезли; возле меня сидела мадемуазель Пьерот.
Тогда я, не теряя времени, заговорил о Жаке. Я стал говорить о том, как он бесконечно добр, честен, великодушен; я рассказывал о его бесконечной преданности, о его чисто материнской нежности и заботливости. Жак кормил и одевал меня, и бог знает, какого труда, каких лишений стоила ему моя жизнь. Не будь Жака, я все еще был бы там, в этом мрачном сарландском коллеже, где я так ужасно страдал…
Тут я заметил, что мадемуазель Пьерот очень тронута моим рассказом, и что крупная слеза скатилась по ее щеке. Я думал, что она плачет о Жаке и сказал себе: "Кажется, все обстоит благополучно". Тогда я удвоил свое красноречие, заговорил о сердечном недуге Жака, о той глубокой, таинственной любви, которая подтачивала его. О, как счастлива будет та женщина, которая…
И вдруг, в ту минуту, когда я собирался выяснить маленькой Камилле, что она именно и есть эта счастливая женщина, маленькая красная роза выскочила из волос мадемуазель Пьерот и упала к моим ногам. Эта красная роза была прекрасным орудием для меня. Не говорило ли мне предчувствие, что эта красная роза – маленькая волшебница? Я быстро поднял ее.
– Я передам ее Жаку от вас, – сказал я с многозначительной улыбкой.
– Вы можете передать ее Жаку, если хотите, – ответила, вздыхая, мадемуазель Пьерот.
Но в ту же минуту появились Черные Глаза. "Нет, не Жаку, а тебе!" – говорили они. О, если бы вы видели, с какой пламенной нежностью, с какой стыдливой страстностью они говорили это! Я все еще колебался, но они несколько раэ повторили: "Да… тебе… тебе!" Тогда я поцеловал красный цветок и спрятал его на груди.
Вечером Жак, вернувшись домой, застал меня, по обыкновению, у столика за рифмами, и я не сказал ему ничего о своем визите. Но, когда я раздевался, маленькая красная роза, которую я спрятал на груди, упала на пол, к ножке нашей постели, – все волшебницы полны лукавства! Жак увидел красный цветок, поднял его и долго смотрел на него. Я не знаю, кто был краснее – я или маленькая красная роза.
– Я узнаю этот цветок, – сказал Жак. – Он сорван с розана, который стоит там, на окне гостиной.
Затем он прибавил, возвращая мне розу:
– Она никогда не давала мне цветов.
Он сказал это таким грустным тоном, что у меня навернулись слезы на глаза.
– Жак, милый, дорогой Жак, клянусь тебе, что до сегодняшнего вечера…
Он ласково прервал меня:
– Не оправдывайся, Даниель. Я убежден в том, что ты не изменил мне… Я знал, я давно знал, что она любит тебя. Ведь я сказал тебе, – помнишь? – "Тот, которого она любит, ничего не говорил ей".
И бедняга стал расхаживать по комнате большими шагами. Я следил за ним, неподвижный, с красной розой в руке.
– Я предвидел, что это случится, – заговорил он после небольшой паузы, – давно предвидел. Я знал, что если она увидит тебя, я перестану существовать для нее. Вот почему я так долго не решался итти с тобой "туда". Я заранее ревновал ее к тебе. Прости меня, я так любил ее!.. Однажды я решился сделать этот опыт и взял тебя с собой. В тот вечер я понял, что мне не на что надеяться. После пятиминутного знакомства она взглянула на тебя так, как не смотрела ни на кого. И ты заметил это… о, не лги, не отрицай этого. Доказательством служит то, что ты целый месяц не ходил туда. Но это не помогло мне… Каждый раз, когда я приходил к ней, она начинала говорить о тебе, и с такой наивностью, с такой доверчивостью, с такой любовью… Это было настоящей пыткой для меня. Теперь все кончено… Тем лучше.
Жак говорил еще долго все тем же спокойным, мягким голосом и со своей печальной улыбкой. Слова его вызывали во мне какое-то странное ощущение боли и радости, – боли потому, что я чувствовал, что Жак глубоко несчастен, радости потому, что за каждым его словом выглядывали Черные Глаза, полные любви ко мне. Когда он умолк, я подошел к нему, немного сконфуженный, но не выпуская из рук красного цветка.
– Жак, будешь ли ты теперь любить меня? – спросил я.
Он улыбнулся и, прижимая меня к себе, тихо сказал:
– Глупенький, я буду любить тебя еще больше прежнего.
И, действительно, красная роза нисколько не повлияла ни на отношение моей матери – Жака – ко мне, ни на его настроение духа. Я думаю, что он очень страдал в то время, но он никогда не показывал этого. Ни вздоха, ни жалобы. Он продолжал попрежнему бывать там по воскресеньям и попрежнему бывал приветлив со всеми; только бант галстука перестал интересовать его. Спокойный и гордый, работая до истощения, с глазами, устремленными на заветную цель – восстановление очага, он мужественно шел по тернистому пути… О, Жак, дорогая мать моя, Жак!
Что касается меня, то с того дня, когда я мог свободно, без угрызений совести, отдаться Черным Глазам, я всецело окунулся в эту страсть. Я проводил целые дни у Пьеротов, где я успер очаровать все сердца… ценой каких хитростей, боже! Я приносил куски сахара старику Лалуэту, играл в пикет с дамой высоких качеств… Меня прозвали у Пьеротов "Желанием нравиться"… Большею частью "Желание нравиться" являлось после завтрака. В это время Пьерот был в магазине, а мадемуазель Камилла – наверху, в гостиной, с дамой высоких качеств. Как только я входил, немедленно являлись Черные Глаза, а дама высоких качеств спешила удалиться. Эта благородная особа, приглашенная севенцем в качестве компаньонки к его дочери, считала себя освобожденной от своих обязанностей, когда я приходил. Она спешила в кухню поиграть в карты с кухаркой. Я не жаловался… Подумайте, оставаться наедине с Черными Главами!
О, сколько восхитительных часов провел я в этой маленькой гостиной! Я почти всегда приносил с собой какую-нибудь книгу, одного из моих любимых авторов, и читал избранные места вслух Черным Глазам, которые то наполнялись слезами, то метали молнии, смотря по содержанию чтения. В это время мадемуазель Пьерот вышивала рядом с нами туфли для своего отца или играла свои бесконечные Rêveries de Rosellen. Но мы не обращали на нее никакого внимания. Иногда, впрочем, на самых патетических местах чтения, эта мещаночка делала вслух какое-нибудь глупейшее замечание: "Нужно позвать настройщика…" или: "Я сделала два лишних крестика…" Тогда я с озлоблением закрывал книгу и не хотел продолжать чтение. Но Черные Глаза умели смотреть на меня с особенным выражением… Под этим взглядом я успокаивался и опять принимался за чтение. Было весьма неблагоразумно оставлять нас одних в этой маленькой гостиной. Нам вместе – Черным Глазам и "Желанию нравиться" – было не более тридцати четырех лет… К счастью, мадемуазель Пьерот никогда не оставляла нас, а эта мещаночка была очень благоразумной, строгой и предусмотрительной надзирательницей, точно сторож при пороховых складах… Однажды мы – Черные Глаза и я – сидели на диване в гостиной. Это было после полудня, в один из жарких майских дней. Окно было открыто, тяжелые портьеры спущены. Мы читали Фауста… Когда я кончил, книга выпала из моих рук. Мы сидели, прижавшись друг к другу, не говоря ни слова; она склонила голову на мое плечо, и я видел через полуоткрытый вырез ее корсажа маленькие серебряные образа, блестевшие на ее груди… И вдруг явилась мадемуазель Пьерот. Надо было видеть, как быстро я очутился на противоположно конце дивана, и какое длинное наставление она прочла нам!
"То, что вы делаете, очень дурно, милые дети, – сказала она нам. – Вы злоупотребляете доверием, которое вам оказывают… Надо поговорить о ваших намерениях, господин Даниель, с моим отцом… Когда же вы думаете переговорить с ним"?
Я обещал поговорить с Пьеротом, как только кончу свою поэму. Это обещание несколько успокоило нашу надзирательницу, но, тем не менее, с этого дня Черным Глазам было строго запрещено садиться на диван рядом с "Желанием нравиться".
Ах, мадемуазель Пьерот была вообще особа очень строгих правил. Представьте себе, в первое время она не позволяла Черным Глазам писать мне! Под конец она согласилась на это, но под непременным условием, чтобы ей представляли для контроля все письма Черных Глаз. И, к сожалению, она не только перечитывала эти очаровательные, полные страсти письма, – она нередко вставляла собственные фразы, в роде следующих:
"…Сегодня мне очень грустно. Я нашла паука в своем шкафу. Утренний паук предвещает печаль…"
"…Нельзя обзавестись домом с пустыми карманами…"
И вечный припев:
"Надо поговорить с отцом"…
На что я неизменно отвечал:
"Когда я кончу свою поэму!"…
VIII. ЧТЕНИЕ В СОМОНСКОМ ПАССАЖЕ
.
Наконец, я кончил ее, эту знаменитую поэму, кончил после четырехмесячного труда. Помню, что, дойдя до последних стихов, я не мог более писать, до того руки мои дрожали от лихорадочного возбуждения, гордости, радости и нетерпения.
Это было крупным событием на Сен-Жерменской колокольне. Жак по этому случаю превратился на один день в прежнего Жак-Жака, окруженного кусками картона и горшочками с клейстером. Он сделал мне великолепную переплетенную тетрадь, в которую пожелал собственноручно переписать мою поэму. И, переписывая, он после каждого стиха вскрикивал и топал ногами от восторга и энтузиазма. Я относился более сдержанно к своему произведению. Жак слишком любил меня, и я не вполне доверял его суждению. Мне хотелось показать свою поэму более беспристрастному и надежному судье. Но, к несчастью, я никого не знал.
Правда, в ресторане я имел возможность завязать знакомства. С тех пор, как мы разбогатели, я обедал за табльдотом, во второй зале. Там обедало десятка два молодых людей: писателей, живописцев, архитекторов, или вернее – зародышей их. В настоящее время многие из них вышли в люди, некоторые приобрели даже славу, и, когда я встречаю в газетах их имена, у меня надрывается сердце от сознания собственного ничтожества. Когда я в первый раз пришел к табльдоту, вся эта молодежь встретила меня с распростертыми объятиями, но, так как я был слитком робок, чтобы принять участие в их разговорах, меня скоро забыли, и я был так же одинок за общим столом, как и в первом зале, сидя у своего маленького стола. Я не говорил никогда, я только слушал…
Раз в неделю у нас обедал знаменитый поэт, имя которого я забыл. В этом кружке его называли Багхаватом, по названию одной из его поэм. В эти дни у нас подавалось бордоское вино по восемнадцати су, а за десертом великий Багхават декламировал нам одну из своих индийских поэм. Индийские поэмы были его специальностью, он написал их множество – "Лаксаману", "Дасарату", "Калатсалу", "Бгажирату", "Судру", "Куносепу", "Виевамитру"… Но выше всех была его поэма "Багхавата". О, когда поэт декламировал у нас свою "Багхавату", весь зал дрожал от рукоплесканий. Люди ревели, топали ногами, вскакивали на стол. По правую руку от меня сидел архитектор с красным носом, который начинал; рыдать после первых стихов и все время вытирал себе глаза моей салфеткой…
Увлеченный общим восторгом, я кричал громче других, но в душе я далеко не увлекался "Багхаватой". В конце концов, все эти индийские поэмы совершенно походили одна на другую. Во всех неизменно фигурировали лотус, кондор, слон и буйвол; иногда для разнообразия "лотус" назывался в них "лотосом", но, за исключением этого варианта, все эти рапсодии стоили друг друга – ни страсти, ни правды, ни фантазии. Рифма на рифме. Мистификация… Таково было мое мнение о таланте великого Багхавата. Может быть я был бы снисходительнее к нему, если бы меня попросили прочитать мои стихотворения. Но меня ни о чем не просили, и это делало меня неумолимым… Впрочем, не я один относился скептически к этой индусской поэзии. Мой сосед слева также не восторгался ею… Странная личность был этот сосед в маслянистом, лоснящемся, потертом сюртуке, с большой лысиной и длинной бородой, в которой всегда извивалось несколько ниток вермишели. Он был старше всех за столом и считался умнее других. Как все великие умы он говорил очень мало, не разбрасываясь по мелочам. Он пользовался всеобщим уважением. "Это – большой ум… философ", – говорили о нем. Я был очень высокого мнения о нем, благодаря иронической улыбке, искажавшей его лицо в то время, когда великий Багхават декламировал свои стихи. Я думал: "Это человек со вкусом… вот если бы он выслушал мою поэму!".
Однажды вечером, когда все собирались уходить, я велел принести бутылку водки и предложил философу выпить со мной рюмочку. Он принял мое предложение… Я знал его слабость. Тогда я навел разговор на поэмы великого Багхавата и стал издеваться над его лотосами, кондорами, слонами и буйволами. Это было так неблагоразумно: слоны так мстительны!..
Пока я говорил, философ пил рюмку за рюмкой, не говоря ни слова. Изредка только он улыбался и одобрительно кивал головой, говоря:
– У-а!.. У-а!..
Ободренный этим, я сообщил ему, что написал большую поэму и желал бы прочесть ее ему.
– У-а!.. У-а! – проговорил философ, не отрываясь от водки.
Я подумал: "вот подходящая минута!" и стал вынимать поэму из кармана. Философ, наливая себе пятую рюмку, спокойно смотрел, как я развертываю рукопись, но в ту минуту, когда я собирался приступить к чтению, он положил свою руку на рукав моего сюртука.
– Прежде чем приступить к чтению, молодой человек, – сказал он, – позвольте узнать ваш критерий.
Я посмотрел на него с беспокойством.
– Ваш критерий! – повторил, повышая голос, страшный философ. – Ваш критерий!
Увы! – мой критерий!.. У меня его не было, и я никогда не думал о нем. Это сказывалось в моем удивленном взгляде, в краске, выступившей на лице, в смущении, овладевшем мною.
Философ встал, негодуя:
– Как, несчастный! У вас нет критерия?.. Тогда незачем и читать мне вашу поэму… Я заранее знаю, чего она стоит.
Вслед затем он налил одну за другой две-три рюмки водки, которые еще оставались на дне бутылки, схватил свою шляпу и вышел, бросая на меня свирепые взгляды.
Когда я рассказал об этом эпизоде моему другу Жаку, он вышел из себя.
– Твой философ круглый идиот, – сказал он. – Критерий!.. Имеют ли соловьи критерий?.. Критерий!.. Где он фабрикуется? Видел ли его кто-нибудь?.. Чорт с ним, с твоим торговцем критериями!..
Милый Жак! У него навернулись слезы на глаза при мысли об оскорблении, нанесенном мне и моему произведению.
– Послушай, Даниель, – сказал он после небольшой паузы, – у меня явилась мысль… Тебе хочется прочитать кому-нибудь свою поэму?.. Не прочитаешь ли ты ее в одно иа воскресений у Пьеротов?
– У Пьеротов?.. О, Жак!
– Что же тебя смущает?.. Пьерот, правда, человек необразованный, но он далеко не глуп, У него много здравого смысла и природного ума… Камилла будет прекрасным судьей, хотя не совсем беспристрастным… Дама высоких качеств много читала… Даже эта старая птица, Лалуэт, не так глуп, как кажется… Да притом у Пьерота есть еще знакомые в Париже, – можно бы пригласить их на этот вечер… Как ты полагаешь? Хочешь, чтобы я переговорил с ним?..
Идея Жака не особенно нравилась мне… Искать судей в Сомонском пассаже! Но мне так хотелось прочитать свои стихи, что я после некоторого раздумья принял предложение Жака. На следующий же день Жак переговорил с Пьеротом. Очень сомневаюсь в том, чтобы Пьерот понял, чего мы собственно добивались, но, желая сделать удовольствие детям Мадемуазель, добряк согласился, не раздумывая, и приглашения были тотчас разосланы.
Никогда еще маленькая гостиная Пьеротов не была свидетельницей такого празднества. Пьерот пригласил ради меня все что было лучшего в мире торговцев фарфором; кроме обычных посетителей, на этот литературный вечер явились: господа Пассажон с сыном-ветеринаром, одним из лучших учеников Альфортской школы; Ферулья-младший, франмасон и оратор, имевший незадолго до этого блестящий успех в ложе Великого Востока; супруги Фужеру с шестью дочерьми и, наконец, Ферулья-старший, самое видное лицо в мире торговцев фарфором.
Когда я очутился перед страшным ареопагом, я почувствовал сильное смущение. Этих господ предупредили, что они должны будут дать свое заключение о каком-то поэтическом произведении, и они сочли своим долгом принять для этого случая холодный, равнодушный, серьезный вид. Они разговаривали между собой шопотом, покачивая головой, как судьи. Пьерот, не придававший особенного значения этому чтению, смотрел на них с удивлением. Наконец, все собрались, уселись, приготовились слушать. Я сидел спиной к роялю; против меня, полукругом – аудитория. Один старик Лалует сидел на своем обычном месте. Когда в гостиной водворилась тишина, я начал читать взволнованным голосом…
Моя поэма, или вернее драматическая поэма, носила громкое название "Пасторальной комедии"… Читатели помнят, вероятно, что в первые дни своего заключения в Сарландском коллеже Маленький Человек рассказывал своим ученикам фантастические сказки, в которых главную роль играли кузнечики, мотыльки и другие маленькие твари. Из трех таких сказок, переложив их в диалоге в стихах, я состряпал "Пасторальную комедию". Поэма моя состояла из трех частей, но в этот вечер я прочел только первую часть. Прошу позволения привести здесь этот отрывок из "Пасторальной комедии", не в смысле образцового литературного произведения, но как пояснительный документ к истории Маленького Человека.
Теперь представьте себе, что вы сидите в маленькой гостиной Пьерота, и что Даниель Эйсет читает перед вами дрожащим голосом.
ПАСТОРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ.
Часть первая.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОЛУБОГО МОТЫЛЬКА.
Сцена изображает деревню. Шесть часов вечера. Солнце садится. Голубой Мотылек и молоденькая Божья Коровка беседуют, сидя на листе папоротника. Они встретились в это утро и провели весь день вместе. Темнеет, и Божья Коровка собирается улететь.
Мотылек.
Как, ты уходишь?
Божья Коровка.
Да, пора домой.
Смотри-ка: ведь темнеет.
Мотылек.
Ах, останься
Еще немного. А домой вернуться
Не поздно никогда. Что до меня,
То я всегда, придя домой, скучаю.
А ты? Подумай, – двери, стены, окна…
Как это глупо все, когда есть солнце,
Роса и на полях цветы и небо.
Возможно, впрочем, полевых цветов
Не любишь ты?
Божья Коровка.
О, я их обожаю!
Мотылек.
Ну, вот, не уходи, еще немного
Останься тут со мною. Посмотри,
Как чудно здесь, как все благоухает!
Божья Коровка.
Да, но…
Мотылек.
Иди, иди же, поваляйся
В траве, – она принадлежит ведь нам.
Божья Коровка (сопротивляясь).
Пусти меня, я не могу остаться…
Нет…
Мотылек.
Тсс!
Божья Коровка (испуганно).
Что такое?
Мотылек.
Помолчи. Послушай:
В соседнем винограднике поет
Певунья – маленькая перепелка.
О, как приятно слушать это пенье
В чудесный летний вечер. Красота
Кругом какая…
Божья Коровка.
Да, конечно, но…
Мотылек.
Тсс! Помолчи…
Божья Коровка.
Что там еще такое?
Мотылек.
Сюда подходят люди!
(Проходят несколько человек.)
Божья Коровка
(вполголоса, после небольшой паузы).
Говорят, что люди очень злы.
Мотылек.
Да, правда, очень.
Божья Коровка.
И я всегда боюсь, чтобы меня
Ногами как-нибудь не раздавили:
Ножищи ведь огромные у них,
А я такая хрупкая. Ты тоже
И мал и худ, но крылья у тебя,
А это преимущество большое.
Мотылек.
О, если этот грубый люд, дружок,
Тебя пугает, – поскорей на спину
Ко мне садись. Я очень ведь силен,
И крылья у меня ведь не походят
На крылья Стрекозы, что так прозрачны.
Как чешуя от луковицы. Я
На них тебя снесу, куда захочешь,
На них тебя носить я буду, сколько
Тебе угодно!
Божья Коровка.
Нет, благодарю,
Я не осмелюсь никогда…
Мотылек.
Но разве
Тебе так трудно на меня взобраться?
Божья Коровка.
Не трудно, но…
Мотылек.
Да ну же, глупая, влезай!
Божья Коровка.
Домой меня ты отнеси скорее
Прямым путем, иначе…
Мотылек.
Ладно, ладно!
Божья Коровка (взбираясь на крылья Мотылька).
Все дело, понимаешь ли ты, в том,
Что вечерами нужно на молитву
Сходиться нам…
Мотылек.
Да, да, я понимаю…
Садись-ка, дальше… Так… Ну, а теперь
Вниманье! Я лечу.
(Они улетают, продолжая беседовать на высоте.)
Божья Коровка.
Как хорошо! Как легок ты! Ах, боже!
Мотылек.
Что с тобою?
Божья Коровка.
Ах, ничего не вижу… Голова
Кружится… Ах, сойти бы мне на землю!..
Мотылек.
Как ты глупа! Кружится голова —
Закрой глаза – кружиться перестанет.
(Божья Коровка закрывает глаза.)
Как чувствуешь себя?
Божья коровка.
Немного лучше.
Мотылек (смеясь).
Да, кажется, летательным искусством
Не славится твой род?
Божья Коровка.
Конечно, нет!
Мотылек.
Ну, вот, мы и приехали!
(Спускается и садится на Ландыш.)
Божья Коровка (открывая глаза).
Что вижу?
Ведь… я живу не здесь…
Мотылек.
Так что же, знаю.
Но, так как очень рано, я привез
Тебя к приятелю, где можно будет
И отдохнуть и славно освежиться.
Божья Коровка.
Мне некогда…
Мотылек.
Вот вздор, – одну минуту!
Божья Коровка.
И в обществе, по правде говоря,
Совсем я не бываю…
Мотылек.
Да пойдем же!
Не хочешь ли, я незаконной дочкой
Моей тебя представлю. Вот увидишь,
Какой тебе окажут здесь прием.
Божья Коровка.
Но поздно ведь…
Мотылек.
Да нет же, нет, – не поздно,
Кузнечика послушай…
Божья Коровка (вполголоса).
И, к тому же… денег не имею…
Мотылек (увлекая ее).
Ну, пойдем,
Пойдем, нас Ландыш угостит на славу!..
(Входят к Ландышу.)
Занавес опускается.
–
Во втором действии наступает ночь. Оба приятеля выходят от Ландыша. Божья Коровка слегка опьянела.
Мотылек.
Ну, в путь-дорогу, друг!
Божья Коровка (смело на него взбираясь).
Да, в путь-дорогу!
Мотылек.
Ну, как тебе понравился мой Ландыш?
Божья Коровка.
Друг милый, он прелестен. И какое
Гостеприимство! Погреба свои
Он открывает, вас почти не зная.
Мотылек.
Ого! Свой нос высовывает Феб,
И надо нам спешить…
Божья Коровка.
Спешить? Зачем же?
Мотылек.
А кто спешил домой еще недавно?
Божья Коровка.
О, только бы не опоздать к молитве.
Наш дом ведь недалеко… Вон он – там…
Мотылек.
Тем лучше. Некуда мне торопиться.
Божья Коровка (с увлечением).
Какой ты милый… Странно, почему
Тебя не любят… Говорят, – отступник,
Цыган, поэт, скакун…
Мотылек.
Ах, вот как? Кто же
Так говорит?
Божья коровка.
Да мало ль кто… Вот, Жук…
Мотылек.
О, толстобрюхий остолоп!
Он скакуном, конечно, называет
Меня из зависти.
Божья Коровка.