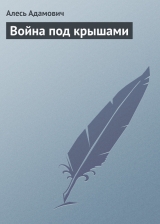
Текст книги "Партизаны. Книга 1. Война под крышами"
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Толя перешел к другой яме, расковырял мусор, сделал лунку поглубже, потом вернулся к ведру, высыпал из него песок и торопливо сунул в ведро тяжелый влажный мешочек, сверху присыпал песком. Он чувствовал, что делает много лишних и подозрительных движений и переходов с места на место. Но он как-то отупел, думал лишь о том, чтобы поскорее все окончить. И опять пошел к приготовленной ямке, опрокинул ведро, привалил гранаты песком и мусором. Все это он проделывал, удивительно ясно сознавая, что спрятал плохо и слишком неосторожно, но думал об этом с непонятным безразличием.
– Где ты пропадал столько времени? – встретила его мать. – Еле ноги переставляют, слоняются, как мертвые. Когда я вас научу!
Ну, пошло! Мама теперь так только и разговаривает, сердится. Постоянное раздраженно резче обычного ломит ее брови. На высоком неспокойном лбу морщины, раньше их Толя не замечал.
Толя смолчал, чувствуя свою вину за то, что так глупо возился со своей опасной находкой, и за то, что он не скажет о ней маме. Скажешь – совсем разнервничается, а Толя будет в ответе за все: и что война, и что немцы, и что гранаты ему под лопату попадаются.
– Мусора навалили там, – оправдывался он.
– Все у вас так.
– Ай, мама!
– Что ты айкаешь? С ума скоро сойдешь, а они еще тут…
«Они» – это обо всех, но прежде всего о Павле. Мамино постоянное раздражение все чаще наталкивается на встречную обиду и раздражение Павла и бабушки. Даже Маня дуется. Чем чаще и злее она ругает мужа, тем реже заговаривает со своей старшей сестрой.
Толя все это замечает, и, хотя он не любит видеть маму такой, какая она сейчас, он на ее стороне. Он всегда на ее стороне.
Когда Толя сообщил о находке Павлу, у того глаза загорелись.
– Запалов не видел? Желтые такие карандашики.
– Нет, не видно там.
Оказывается, не такая это ценность, если без запалов. Толя не выдержал, сказал и про две винтовки, и про цинки с патронами.
– У нас все есть.
– У кого это?
– Ну, у нас с Минькой.
Павел вдруг погас, точно вспомнил о чем-то.
– Не лезьте вы в дела эти.
Что это он, от мамы научился?
– А где у вас? Забрать надо, а то попадетесь еще.
– Я скажу Миньке.
– Нет, нельзя. Не говори.
Толя колебался. Но товарищеская солидарность и общая тайна мало значили там, где кончалась игра и начиналось настоящее. А тут было уже настоящее.
С немцами по-немецки
Жизнь в Лесной Селибе шла своим чередом. В домах, которые поближе к шоссе, разместились на постой офицеры. Павлу с Маней пришлось перебраться в комнату к старикам. В зале засел немец в черной форме. Его сразу так и прозвали: «черный». На кухне сделалось тесно от необычайно подвижного переводчика-познанца. Он день-деньской варил и кипятил что-то черному немцу и его овчарке. С поваром-переводчиком бабушка скоро поладила. Дедушка над ней посмеивался:
– Шляхта моя застенковая хоть наговорится с паном. А то век с мужиком промаялась.
– И правда, что мужик, – отмахивалась бабушка, – эт!
– Как ты промахнулась так, мати, что за мужиком свековала?
– Бо молодая, дурная была.
У бабушки уже было двенадцать детей, когда, овдовев, она выходила за «мужика», но это в расчет не берется.
– Поучись у этого, как панам готовить, и нам слаще чего сделаешь, – советует дедушка.
А любопытного много. Пока «черный» сидит, запершись с собакой (хоть бы урчали там, а то – ни звука), денщик-познанец разливает очередную порцию еды хозяевам, а чтобы не слишком обжигало им нутро, он воровато помешивает пальцем в тарелках.
– Цо пан роби? – поражается бабушка.
Ловкий повар, бойко смахнув с пальца горячую жижу, скороговоркой поясняет:
– Э, вшистко едно![7]7
Э, все равно! (польск.)
[Закрыть]
«Черный» и его овчарка едят очень часто, но все одну и ту же горохово-бобовую тюрю. На второе им носят чай. Ни «яйко», ни «млеко», кажется, не интересуют хозяев повара-познанца.
Ровно в полдень черный немец и овчарка выходят «на шпацир». «Черный» идет впереди, подтягивая левую ногу, за ним – овчарка, сзади марширует познанец. Хотя у «черного» нет никаких знаков отличия, встречные немцы, завидев его, деревянно стучат каблуками. Но, миновав опасность, некоторые переглядываются с денщиком, и тогда познанец тоже начинает подтягивать ногу и ковылять.
Однажды «черный» заметил это. Он подозвал познанца и начал, как парикмахер, спокойно обрабатывать его физиономию оплеухами. Овчарка по долгу собачьей службы беззвучно оголяла клыки, но в глазах у нее чисто собачье удивление: перед нею было существо, которое не огрызается и не убегает, когда его бьют.
Дома «черный» все время сидит «у себя» и, кажется, никого не замечает. И его старались не замечать. Но пока он не уехал в Большие Дороги, где, по слухам, возглавил СД, у всех в доме было такое чувство, как если бы в соседней комнате поселился хищный зверь. Его не слышно, но, может быть, в эту минуту он уже стоит у двери, сейчас толкнет ее мордой и войдет…
Наведывались и другие немцы. Но их умело выпроваживал познанец, пугая своим шефом. Непонятен этот носатый, с напомаженным пробором человек. Хочется почему-то верить, что за маской франта и шута кроется что-то. Павел и тут верен себе: пытается распропагандировать его, заговаривает о фронте, Москве. Познанец делает шутовские глаза и машет пальцем перед носом у Павла.
Интересный разговор с одним немцем произошел у Нины. Ома мыла кухню, когда кто-то сильно рванул дверь.
– Матка, мильх!
Из столовой Толе все было видно.
«Матка» Нинка, раскидав косички, с тряпкой в руке стоит перед большим немцем, замурованным в смолисто-черную накидку. У немца офицерская фуражка с высокой тульей. Вздернув топкие плечики к ушам, как она это умеет делать, Нинка очень серьезно говорит:
– Не форштейн.
Офицер вытащил из кармана перчатку и «доит» ее за пальцы.
– Ферштейн?
– Форштейн, – радостно взмахивает косичками Нина.
– Гиб мильх.
– Не форштейн.
Тогда офицер снял фуражку, сделал у лба «рога» и промычал очень даже похоже. Спросил:
– Ферштейн?
– Форштейн.
– Гиб мильх.
Нина даже лопатки свела от непонимания, а рукой, в которой мокрая тряпка, для вящей выразительности взмахнула перед лицом гостя:
– Нихт форштейн.
«Нихт» у нее получилось даже здорово, не хуже мычания немца. Лакированный козырек офицерской фуражки звонко опустился на несообразительную Нинкину голову.
В дом быстро вошла мама.
– Что тут? Чего он хочет?
– Мо-ло-ка, – сквозь плач сердито пропела Нина.
Из соседней комнаты донесся голос познанца:
– А, зрозумяла, поняла!
– Иди принеси кувшин, – приказала мама.
Всхлипывая, Нина осторожно обошла большого немца, долго не возвращалась из кладовой, принесла молоко и, обойдя немца, подала маме.
А когда сели обедать, бабушка пожаловалась:
– Нехта всю кладовую молоком залил.
– И надо же, – догадалась мама, – сплеснула все же сливки на пол.
Вечером в столовую заглянул познанец, как всегда прилизанный, с неопределенной усмешкой в шалопутных глазах. Пощупал Нинкину голову:
– Ферштейн?
Нина сердито сбросила его руку и полезла на печь.
– Пенкна паненка, хорошая, – совсем развеселился познанец и удалился, легкий и шумный, как пузырь с горошинками.
Скоро в зале поселился другой офицер. В первый же вечер он вошел в столовую, где при коптилке играли в карты. На него старались не глядеть, и он тут же удалился, показалось, даже смущенный. Он какой-то неловкий в движениях, лицо в оспинах.
Утром явился Казик. Увидев немца (тот вышел в кухню с бритвенным прибором), Казик громко провозгласил и даже руку вознес:
– Ес лебе геноссе Сталин! Няхай жыве!
Немец от неожиданности даже голову вздернул, как испуганная лошадь, и тут же покраснел густо-густо. Он внимательно и подозрительно смотрит на Казика, у того лицо самое невинное и беззаботное. Весь вид Казика говорит: «Все это не серьезно. Иначе разве стал бы я в присутствии немецкого офицера произносить такие слова. Вы же человек интеллигентный, понимаете шутку – я это вижу».
Встречная вынужденная улыбка вместе с потом выступила на бугристом лице немца: «Да, конечно, я понял, почему вы осмелились произнести такое. Но…» Немец тут же нахмурился и ушел в комнату, забыв сполоснуть помазок.
В столовой уже балуются подкидным. Янек старательно прячет карты в колени и за каждым ходом приговаривает бабушкино: «Эт, такой бяды!» Страшно доволен он и бабушкиной фразой, и самой игрой. Выиграет – доволен, проиграет – тоже. В полный восторг приводит его дедушкино слово «говяда».
– Говяда ты, брат, а не игрок.
Дедушкино «говяда» означает корову, но какую-то особенно дурную, как сало без хлеба, ту, о которой говорят: «волчье мясо».
– Говяда? – переспрашивает Янек.
– Говяда, брат, хочешь – обижайся, хочешь – не.
Казик шумно поздоровался, переглянулся с Павлом и подсел к играющим. Толю мама отправила за дровами. Вернувшись, он застал всех в столовой. И немец тут. Он чертит на карте линию фронта. Павел смотрит на его карандаш спокойно: он заранее знает, что будет врать немец. Мама стоит в сторонке. Бабушка подступила к самому столу и, как прилежная ученица, даже головой кивает: все понимает. Она чувствует на себе веселый взгляд деда и хмурится, вот-вот скажет: «Эт, старый дурень». Казик повис над картой, егозит, поддакивает немцу, явно стараясь выудить у него как можно больше. И все переглядывается с Павлом. А немец клонит к тому, что к зиме «Москау капут», намекает на японцев.
– Рано, пташечка, запела, гляди, как бы кошечка не съела.
Глухой дедушка только и услышал про «Москау», и ему кажется, что он сказал тихо, но по укоряющему взгляду невестки понял, что провинился. Он засопел и взялся свертывать цигарку.
А тем временем Толя повыспрашивал у Янека нужные немецкие слова. Краснея от смущения и радуясь возможности просветить немца, Толя торопливо выложил:
– Наполеон взял Москву, а ему сделали капут.
Немец не поднял головы, из-за его спины мама грозит Толе кулаком, но и улыбается почему-то. Казик вставил что-то спасительное, но офицер встал и, ни на кого не глядя, вышел. Не успел Толя получить нагоняй, как немец вернулся. Со словарем. Поискал и торжественно указал Янеку. Тот проспрягал:
– Повесим, повесят…
– Ничего не скажешь – тоже аргумент, – скороговоркой согласился Казик.
Немец нашел и существительное.
– Осторожность, – прочел Янек.
Через несколько минут немец вышел из зала с чемоданом. На прощание больно постучал согнутым пальцем Толю по лбу, сделал взмах рукой и ушел.
Толя небрежно заметил:
– Он, наверное, совсем из поселка уезжает.
– Испугался? – набросилась на Толю мать. – И ты что-то понимаешь! Вот пойдет и заявит в комендатуру.
Но почему-то опять улыбается. А за ужином вернулась к этому.
– Казик хитрый. Скажет – и не поймешь, серьезно он или нет. А вы, дурни, так и влопаетесь.
Павел принял это на себя.
– Когда я что говорю?
– А мало ты с ним шепчешься? Как баба! – вступила в дело Маня.
– Вот что, Павел, – серьезно заговорила мама, – я их лучше знаю. Жигоцкие – это особые люди, поверь моему опыту. Ты же не один, пойми наконец. Я не могу объяснить, но меня никогда не обманывает чутье.
Это даже для Толи прозвучало неубедительно. Вмешался Алексей. Подобные разговоры о людях вызывают у него что-то похожее на зубную боль. Он морщится и просит:
– Ну что ты, мама, зачем заранее говорить на человека!
Мама сдается.
– Да что вы на меня все, – смеется она, – я же только советую осторожней быть, а то вам все шуточки…
Виктор поправился
Виктор поднялся очень скоро. С остриженной ножницами, нелепо полосатой головой, в застиранной неопределенного цвета рубахе с большими белыми пуговицами, очень худой – совсем неузнаваем. Толю встретил кривой усмешкой, хотя и не к нему относящейся, но неприятной.
– А, Толя! Ну, что у вас тут? Слава богу, стало тихо, как говорит моя мамаша. А вот и она, к слову.
Вбежала Любовь Карповна.
– Полежал бы, Витик.
– Ну, что там, говори уж? – поморщился Виктор.
Его догадливость немного смутила Любовь Карповну.
– Это можно и завтра. В сарае работа есть.
– Закурить не раздобыла?
– О хлебе теперь думать надо.
– Я у дедушки попрошу, – обрадовался возможности услужить Виктору Толя. Правда, он несколько удивлен, что Виктор курит. До войны курение у него входило в разряд «лишних привычек», которые порабощают человека, связывают.
И еще наведывался Толя к своему бывшему другу, но теперь даже странно, что у них были когда-то общие дела, интересы. И не то чтобы Виктор слишком повзрослел, просто он стал совершенно другим, а с этим другим Толя никогда не дружил. Виктор неприятно безразличен ко всему. О чем ни рассказывай ему, все молчит, только и забота у него, как бы покурить. А потом взялся наводить порядок возле дома, в сарае. И хотя Любовь Карповна страшно довольна его неожиданной домовитостью, он не перестает язвить над нею, но уже не весело, как прежде, а как-то мрачно, зло. Толя рассказал об этом маме, как о чем-то очень забавном. Она нахмурилась:
– Что это он, кажется, и не дурак. И ты там выучишься так с матерью разговаривать.
Скажет ведь: то – она, а то – Любовь Карповна!
– Леонору, гречанку нашу, встретил, – сообщил однажды Виктор, – постояли, помолчали, повыкали. Похорошела и живет как бы в укор людям: у меня нос с горбинкой, нужно мне знать про ваш там фронт!
Правду говорит Виктор, она и Толю совсем не замечает, словно и не бывал у нее дома, не сидел на диване…
Виктор стал приходить к Толе домой: закурить у дедушки, поиграть в карты, помолчать. Он редко вступает в разговоры. Павел попытался было выяснить с ним некоторые вопросы немецкой политики, но с Виктором серьезный разговор трудно вести: он слушает без особого интереса. Заметно, что Надю этот молчальник раздражает, а Казик точно смущается при нем, сникает, слова у него как-то перестают вязаться. Надя не умеет и не желает скрывать свои чувства. В дом она всегда врывается, как с мороза, энергично и шумно.
– О, вижу мужчин! Учителя, художники… – удивилась она. За столом – картежники: Казик, Павел, Толя и Виктор Петреня. – А я думала, – продолжает Надя, – все они или в плену, или в бобиках.
– Или на фронте, – поправил ее Казик.
– Там не вы.
– Или в лесу.
– Там настоящие. А вы…
– «Молодые девушки немцам улыбаются, – затянул Казик, – позабыли девушки…»
– И правильно вас позабыли.
Как бы извиняя Надю и прося других извинить ее, Казик кричит весело:
– Надя такая!
– Ай верно! – сказал Виктор. – До войны мы себя ого какими видели!
– Ругают теперь довоенное, чтобы себя оправдать… кому это необходимо, – глядя в карты, произносит Павел.
– А если уж про то… – вспыхивает Виктор, – многого не было бы сегодня, если бы не было вчера.
– Жду, когда полетит шерсть, – довольная, говорит Надя и садится на табурет.
– Моего тестя раскулачили, – Павел уже глядит прямо в лицо Виктору, – значит, нам куда теперь? Кому охота – пожалуйста. Справимся. И с чужими и со своими.
Павел видит, что в проеме двери, на кухне стоит Анна Михайловна и смотрит на него. Сердито дернул плечами, но замолчал.
Казик, держа карты на столе, объясняет Виктору обстоятельно и чуть-чуть снисходительно:
– И вчера и сегодня происходил и происходит отбор человеческого материала…
– Не цитируйте мне немецкие газеты! – резко оборвал его Виктор.
Казик даже растерялся. Переглянулся с Павлом. Но тот молчит.
Надя пошевелилась, как бы получше усаживаясь:
– Мне начинает нравиться!
– Не о материале, а о людях пора думать, – говорит Виктор. – «Братья и сестры!»… Вот то-то же! Спохватились. Что сто́ят анкеты, мы уже убедились. Писали, писали, а нужной оказалась графа, которой-то и не было: человек ли? Ее-то потруднее заполнить!
Помолчав, Виктор уже спокойнее проговорил:
– На самом острие война идет между политическими целями. Но есть в этой мировой войне и более широкий фронт, проходит он между человеком и тем, что фашизм хотел бы из человека сделать. Тут каждый втянут…
Вошла из кухни Анна Михайловна:
– Обедайте с нами. В городе Любовь Карповна?
– Да, побежала в город. В церковь, к богу. Все ищет покупателей на ковры, которые я должен мазать.
– Натурщица не нужна? – поинтересовалась Надя. – Нет, не я. Во, скулы. А вот Леонора – с нее и красавицу и лебедя. Все полицаи без ума. А они здесь – самые мужчины.
Давно уже все замечали, как Казик откровенно ухаживал за Надей, часто они уходили от Корзунов вместе, и хотя Надя говорит Казику одни резкости, но и резкости такие говорят лишь человеку, которого уже не стесняются.
И вдруг как бы оборвалось что-то. Однажды пришел Казик и невразумительно рассказал, что были они с Надей в деревне и чуть партизан не встретили. Как это «чуть» – никто не понял. Появилась Надя и сразу прошла к маме. Не поздоровалась даже, но это никого не удивило: ей все можно. Удивил Казик. Он виновато пытался перехватить взгляд Нади, но глаза Казика скользнули по не узнавшим его глазам женщины, как по холодному стеклу.
Непривычно жалким выглядел Казик в этот миг.
Ночью взвыли вдруг пулеметы у комендатуры. Когда пальба спадала, было слышно: по асфальту звонко цокают подковы. Цокот ровный, неторопливый, будто и не беснуются пулеметы. Не галоп, а бег трусцой. Очевидно, это и наводило ужас на тех, кто стрелял. А когда небо посветлело, жители поселка увидели, что шоссе, канавы завалены трупами лошадей. Одна лошадь стоит на асфальте, широко расставив передние ноги, и слегка покачивается, около десятка больших тяжеловозов с куцыми заячьими хвостами скучают на огородах. Но нигде не видно трупов тех, что конно атаковали комендатуру.
Скоро все выяснилось. В совхозе убили управляющего, охрану тоже перебили. Лошади, поставленные на поправку, были выпущены из-за ограды. Белоногие бельгийские тяжеловозы вышли на шоссе и лениво потрусили на запад… Их-то и приняли за советских казаков.
Толя убежал к Петреням.
На вопрос о Викторе Любовь Карповна заголосила:
– Спит, что ему! Перебрался на чердак, и холод ему нипочем, лишь бы не мешали валяться до дня. Что ему до того, что скоро рот нечем будет заткнуть. Сушенков Сергей техникумов его не кончал, а на коврах столько картошки и крупы зарабатывает. За один ковер три стакана соли дают, я узнавала.
Любовь Карповна уже и покупателей нашла, дело только за Виктором. А Виктор как раз начал свой утренний спуск. Усевшись на лестнице на уровне окна, принялся закуривать, не заботясь о том, что его широкая спина кого-то раздражает. Любовь Карповна забарабанила в окно, не боясь и стекло разбить:
– Ви-иктор! Где там, над ним не каплет.
Толя вышел во двор. Кривясь от вонючего дыма (теперь около курильщиков пахнет чем угодно: сухим навозом, горелыми листьями, хвоей и меньше всего – табаком), Виктор с любопытством глядит на шоссе. Любовь Карповну встретил удивленно:
– Ты уже встала?
Будто горячими углями осыпали женщину, она даже руками всплеснула:
– О божечка, что ты мне дал! Он думает, что свет из одних лежебоков?
– Почему лежебоков? Во как поработали ночью!
– Всех сгоняли коней на машины грузить, – уже весело говорила Любовь Карповна, как бы смиряясь с тем, что бог дал ей Виктора. – Этого лайдака я пожалела, сказала, что уже на шоссе. А он вот что!
И снова рассказала Любовь Карповна про то, как зарабатывает Сушенков хлопец на коврах.
– Какая польза, что я тебя… – Любовь Карповна поправилась, – государство учило тебя.
– Иконы, что ли, начать мазать?
– А не отвалились бы руки. В церковке столько людей теперь бывает, купили бы. Не надорвался бы, если б и намалевал.
– С тебя разве?
Любовь Карловна не выдержала, сердито рассмеялась:
– А чтоб тебя, вот научился на собак брехать.
У Толи Виктор спросил:
– Что у вас там? Казик все Надьку охмуряет? Да ты, собственно, ничего не знаешь. Ладно.
Но потом, уже серьезно, сказал:
– Даже когда у человека огромное несчастье, когда, кажется, конец всему, человек продолжает дышать, ходить, даже есть, спать и все другое. Но разве он не противен себе за это? Противно других видеть, а себя еще больше гадко. Но уже совсем мерзость, если человек и в этом положении остается этаким гусем, который страшно гордится тем, что его подают на стол с яблоками. Как этот ваш Казик. Сел еще до войны на слова и слезать не хочет. И совесть спокойная, и жизнь спокойная. – И совсем неожиданно: – Надя не рассказала, какая у них встреча была с партизанами? Нет?
Но и сам Виктор не рассказал, а что-то знает.
К вечеру, будто дым в сырую погоду, пополз по поселку слух: немцы согнали жителей совхоза в гумно и теперь жгут. В удушливом молчании смотрели люди на дымное зарево. Там люди задыхаются, корчатся от боли и беспредельного ужаса, страшно кричат, а тут тишина. И это может быть, и такое – правда… Никогда потом Толя не видел мать такой раздавленной. Его неприятно покоробило, когда уже в хате она с раздражением заговорила о тех, что убили пятерых немцев и тем самым подвели под лютую смерть столько людей, обрушили на них злую силу, чужую жестокость. Мертвая скала спокойно раздавит и ребенка, а повинен в этом будет тот, кто ее стронул с места, – так звучало это. Толя понимал, что мать не права в чем-то главном, но когда заговорил Казик и сказал именно то, что нужно, слушать его было неприятно. С каким-то противным спокойствием и чувством превосходства Казик возразил маме:
– Победит в этой беспощадной схватке тот, кто готов пойти на большие жертвы. Это – война на истощение не только крови, но и нервов.
И тут заговорил Виктор, нервно, зло:
– Может, и так. Но чтобы иметь право так умно говорить про судороги детей, заживо сжигаемых, надо самому всем жертвовать, по крайней мере жизнью. Что за поганая привычка у нас пошла: героически голодать чужим желудком, мужественно переносить чужие страдания. Если свою кровь не проливаешь – помолчи уж лучше. Полицай и тот собой рискует.
– Что-то часто вы об этом! Никому туда дорога не заказана, – вырвалось у Казика, покрасневшего до кончика носа, отчего вдруг стали заметны на нем длинные белые волосики.
Так выйти из себя – совсем на Казика не похоже! Оказывается, они здорово невзлюбили друг друга. Вот и сейчас: Виктор жестко сузил глаза, побледневшее лицо сделалось неприятно злым.
– А если я и вправду, как ты сказал, возьму полицейскую винтовку, – вдруг заговорил он, впервые обращаясь к Жигоцкому на «ты». – Да приду к тебе. Любопытно, как ты станешь со мной разговаривать. И как смотреть. Ласково смотреть будешь, ей-богу! Забудешь обо всем, что болтал здесь.
Толя с удивлением глядел на друга: что за дурацкий разговорчик завел! Павел даже со стула поднялся.
Алексей удивлен и смущен: как только поблизости запахнет подлостью, он сразу теряется.
Что-то неожиданное, нешуточное послышалось всем в словах Виктора.
Казик вдруг стал бледнеть, но, как бы сам почувствовав это, встрепенулся и все-таки сказал:
– Ну, знаете, всему предел есть. И шуточкам.
– А я вовсе не шучу, – медленно проговорил Виктор.
Поднялся и ушел.
Как о чем-то вполне выяснившемся, Павел сказал:
– Субчик этот мне давно не нравился.







