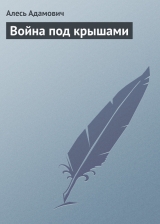
Текст книги "Партизаны. Книга 1. Война под крышами"
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Часть вторая
Дом мой – крепость моя
«Приехал» Виктор
В конце сентября «приехал» Виктор. Так по привычке и сказала Любовь Карповна, испуганная и счастливая. Теперь слова живут как-то по-другому, с иным значением и точно цена им другая. Выплыли откуда-то из дедушкиного прошлого «волость», «пан», «бургомистр», «господин», «полицейский». Слова эти вязли в ушах, в памяти оживало: «У бурмистра Власа бабушка Ненила…» Казалось, среди живых стали бродить покойники. Оттого, что жизнь загрязняли слова мертвые, враждебные, нужнее и теплее сделались те слова, которые когда-то употребляли, может быть, недостаточно бережливо, как праздничную одежду в будни. Теперь «товарищ», «советский», «коммунист» – это надежда на самое малое и на самое большое: на то, что жизнь не кончилась.
И будничные слова звучат ныне по-другому и означают совсем не то, что означали до войны. Раньше, услышав, что приехал Виктор, Толя бежал к Петреням помогать Виктору разбирать чемодан с красками и альбомами. Теперь «приехал Виктор» означает вот что.
– Я тонко сплю, – рассказывает Любовь Карповна. – Сдается мне, на завалинке кто-то ползает, стену царапает, по окну достанет и опять по стене. «Мама, мама», – будто зовут меня. Не проснусь никак, все забыла, где я, что я. Толкаю локтем в стенку и кричу: «Романыч, проснись, Витик наш на дворе, Витика в кроватке нету». А сама руками лапаю, кроватку хочу найти. Это же надо, чтобы такое причудилось, сколько лет тому. Проснулась, страшно-страшно мне сделалось, к окну – ничего не видно. Когда посветлело, вышла, глядь – боже! Человек под окном, черный, оборванный. Порфирка по шоссе бежал, чуть не кликнула его.
– Этого еще недоставало, – сердито сказала мама, а Толе подумалось, что Любовь Карповна была лучше, пока она не проснулась.
– Я ж не знала, кто это, – оправдывается женщина с нелепыми стеклянными бусами на худой шее, – а как разглядела: о боже, сыночек! Тяну в хату, как неживого, а сама дрожу, чтоб не увидели. Надо доктора, а я боюсь, к вам прибежала.
– Отнесите бургомистру что-нибудь, – сразу распорядилась практичная мама, – а я приду с Владиком. Скажите там в волости, что он из Витебска добирался, в армии не был. Не пожадничайте только, а то я вас знаю.
Последние слова прозвучали ненужно резко, но мама редко когда разговаривает по-иному с людьми, которых мало уважает. И тем не менее Любовь Карповна бежит к ней по всякому делу.
Любовь Карповна заохала:
– Нету ничего такого. Что и придумать, не знаю. Часы у меня есть, еще Романыча. Он же так любил Витю, хотя и не родной был. – И тут же стала уверять зачем-то: – Да он, милочка, и не был в армии, авиаклуба своего он и не окончил, пришел в цивильном, невоенном.
– Хорошо, все равно несите, – бесцеремонно оборвала ее мама, – о сыне речь идет.
Любовь Карповна согласно закивала головой и убежала.
– Верь ей, – раздумчиво проговорила мама, – занесет какую ломачину, только разозлит того бургомистра.
Порывшись в шкафу, она вытащила новое золотисто-белое покрывало.
Несколько раз мама уже хотела снести его в деревню, обменять на продукты, но все откладывала.
– Отнеси к Петреням, – сказала она Толе, – во что только завернуть?
Толя – с готовностью. Это же к Виктору! Мимо комендатуры, через шоссе – вот и дом Любови Карповны. Дом очень старый, но большой. Вся вторая половина приспособлена под кладовую. Забор завалился, но чего только нет во дворе: дырявая канистра, корзины, ящики (вот они где – аптечные!) и даже жестяные подставки-гнезда для мин и снарядов. Толя невольно присмотрелся: не притащила ли хозяйственная Любовь Карповна и парочку мин к себе во двор?
Без стука вскочил в кухню. Любовь Карповна колдует над раскрытым сундуком, оклеенным изнутри старыми медицинскими плакатами.
– Вот, – подал сверток Толя и заглянул за дощатую перегородку.
На высокой (хоть лестницу подставляй) кровати – одни подушки. Но дальше, на лежанке, есть кто-то под ворохом постилок[5]5
Домотканое одеяло (бел.).
[Закрыть] и одежды.
– Спасибо твоей мамке, – пела Любовь Карповна, – не знаю, как можно и отблагодарить за такую вещь. Ты, Толенька, побудь с Витиком, холодит его, бедненького.
И она убежала. Сколько ее помнит Толя, всегда она жила вот так – все на ногах.
Побыть с Виктором? С трудом верилось, что Виктор сейчас здесь. Толя подошел к лежанке, приподнял край фуфайки. Сделал он это с таким чувством, словно совершал что-то нехорошее, пользуясь беспомощностью больного. Заглянул в лицо и поразился: как похож этот чужой, заросший, темный, как земля, человек на Виктора! Над правым глазом глубокая складка, широкие ноздри напряжены, как бывало у Виктора, когда он сосредоточен, и волосы тоже Виктора – черные досиня. Только с одной стороны какие-то ржавые, вроде огнем схваченные. Сухие губы быстро-быстро шевелятся. Толя почти испугался, когда человек вдруг открыл темные, внимательные – совсем как у Виктора! – глаза и, спокойно глядя Толе в лицо, сказал:
– Правый тоже барахлит, до поля не дотянем.
– Что, что? – заспрашивал Толя.
Но глаза закрылись. С колотящимся сердцем Толя отошел от лежанки, сам не понимая, почему его так испугали открывшиеся глаза. Сел на застланную домотканой постилкой кушетку.
Все тут знакомо. Слева, у двери, плита, свежепобеленная, потолок еще больше провис, стены оклеены выцветшими медицинскими плакатами и старыми газетами. На перегородке ходики с рисунком: вверху малец в большой шапке, лаптях и с книжкой, хата с надписью: «Школа», внизу смешной трактор с самоварной трубой и бородачи с красным флагом. Эти ходики, наверное, отсчитали часов больше, чем Толя их прожил. В углу, рядом с иконами, – портрет Любови Карповны. Этот портрет Виктор сделал с фотографии, еще когда начинал учиться в художественном техникуме. Нескладная фигурой, но молодая и даже красивая, белолицая и круглолицая Любовь Карповна стоит, опершись на круглый столик, – такой она была, когда первый раз овдовела. По требованию заказчицы Виктор ярко размалевал и платье и ланиты женщины на портрете, потом хохотал, довольный своей работой. Мамаша его притворно сердилась, но заметно было, что именно такой она себе нравилась – ярко раскрашенной.
Ниже, в сторонке, – нарисованный углем портрет человека в старой, еще «царской», армейской форме. Отчим. Он умер от туберкулеза. А вот таким был в детстве Виктор: глазастый, с оголенными ноздренками, сердито-серьезный. Хорошая дружба была у Виктора с отчимом – старым лекарем. С Любовью Карповной такой близости у Виктора не было. Между ними постоянно шла непонятная Толе война. Виктор грубил, зло подсмеивался над Любовью Карповной, язвил над ее скупостью, она же ругала его всегда во множественном числе: «абибоки»[6]6
Абибок – лежебока, лентяй (бел.).
[Закрыть], «объедалы». Виктор приезжал домой только на каникулы. Вначале Любовь Карповна разговаривала с ним ласково, голосом больного и слабого человека. Но сын не принимал этого тона, и тогда начиналось обычное. Мать ругала «бездельников», которые только и умеют «жрать», а сын весело интересовался:
– Кстати, что там в духовке у тебя? Каша?
В день отъезда сына Любовь Карповна снова превращалась в больного и тихого человека, стараясь не замечать иронических взглядов сына. Собираться Виктору недолго.
И привозил и увозил он плоский деревянный ящик с красками да чемодан с альбомами. Все остальное было на нем, и все серого цвета: костюм, пальто, кепка. Серое, оказывается, тем удобно, что подходит для любой поры года. Белья у Виктора никогда не водилось: трусы и летом и в мороз.
Независимость и умение Виктора легко обходиться самым малым, всегдашняя его веселость и одновременно какая-то сосредоточенность – все это очень нравилось Толе. И мысли у Виктора всегда такие смелые. Он уверен, что все зависит только от самого человека, от его «силы воли» – любимое его выражение. Это было ново для Толи, «как в книгах», а потому особенно восхищало его. Когда Виктор рассказывал про Рахметова, казалось, что этот удивительный человек, заставлявший себя спать на гвоздях, такой же хороший и близкий его знакомый, как те веселые и почему-то всегда голодные студенты, с которыми он жил в одной комнате. От худощавого, но кряжистого сына Любови Карповны всегда веяло здоровьем и силой. В одних трусах, босой, он нырял в сугробы, с ног до шеи растирался сухим снегом, а потом брал колун и, не одеваясь, шел разбивать крепкие, как сам он, сосновые комли. Виктор всерьез доказывал, что всякая болезнь – самовнушение и саморасслабление:
– Древние говорили: «В здоровом тело – здоровый дух». А еще лучше: «Сила воли, здоровый дух делают здоровым и мое тело».
Больше всего восхищала Толю легкость и простота, с какой Виктор умел расставаться с вещами, нужными ему самому, хотя доставались ему они совсем не легко: за счет студенческих завтраков и ужинов. Научил Толю играть на мандолине, а так как у Толи не было инструмента, отдал ему свой; начал учить Толю рисовать и тут же подарил набор масляных красок и пачку бумаги – «александрийки». Но однажды мама дала Любови Карповне кусок материи на белье Виктору. Толя увидел, какими холодными могут быть у Виктора глаза и каким жестким голос.
– Это что, за мандолину заплачено? – спросил он, сведя брови.
Любови Карповне удалось убедить его, что материю она сама купила.
А потом Виктора внезапно исключили из техникума. Но он остался в городе – работать. Приезжал еще реже и сразу как-то повзрослел.
Хотя Виктор был на пять лет старше – это не обижало. Алексей, бывало, только и думает о том, как бы отвязаться от младшего братца, будто ему на горбу приходилось его таскать. Виктор же шел с шестиклассником Толей не куда-нибудь, а к девушке. Странные это были посещения. В доме Леоноры тесно от согнутых под потолком фикусов, на огороде, под окнами – везде цветы. Пол прогибается, но крашеный, даже широкие щели в полу чистые, как на кухонном столе у хорошей хозяйки. Толя входил в этот дом, прячась за друга, и всегда старался побыстрее добраться до своего места. Место это – в уголке дивана, и он стремился к нему, как человек, не умеющий плавать, стремится к берегу: не думая о том, хорошо ли он это делает, с каким лицом. Про лицо лучше и не говорить, какое уж там лицо у человека, который вот-вот захлебнется. Но и доплыв до дивана, Толя не обретал уверенности. Он занимался тем, что беспрестанно краснел. Толя не всегда даже догадывался поздороваться со строгой иконоподобной Леонориной мамашей. Когда белолицая и большеглазая чернявка Леонора из приличия обращала внимание и на друга Виктора, тот жался в угол, испуганно прятал глаза. Леонора очень нравилась Толе, впрочем, ему нравились все девушки, которые были старше его. И он боялся этих девушек постарше: их улыбчивые и всепонимающие глаза читают тебя, как букварь. Быть рядом с этими существами неловко и жутковато, но это такая радость – тайком смотреть на продолговатое и словно светящееся личико Леоноры. Толя боится смотреть, но глаза его опять и опять замечают, что черный джемпер очень натянут, даже разрежен на груди. Толя уверен, что Леонора обо всем догадывается, и глаза его по-мышиному мечутся, жмутся, когда их настигает взгляд девушки. Как только в его сторону обращаются царственно невозмутимые очи Леоноры и при этом в них загорается легкий интерес («Что этот мальчик так вспотел?»), Толины руки начинают хватать все, что лежит или стоит поблизости: книгу, пепельницу, бахрому скатерти. Но где-то, очень-очень глубоко, вспыхивает мысль, что девушка неспроста так внимательно посмотрела на него. Он даже старается слегка приоткрывать рот и напрягать подбородок, чтобы лицо не было таким отвратительно круглым. То, что в эти минуты он становился на пути своего друга, который так доверчиво брал его с собой, Толю мало смущало. Куда там! В эти минуты он желал своему другу самого плохого: чтобы тот был и рябой, и глупый, и вообще неприятен Леоноре. Кстати, Виктор и сам вовсю старался быть неприятным девушке: дерзил, хватал ее за руки так, что даже больно ей делал. Толя чуть не в рот смотрел своему смелому другу, словно видел перед собой укротителя змей. Сам он умер бы раньше, чем осмелился прикоснуться к руке Леоноры. А Виктор будто сознательно старался прогнать спокойствие и холодную приветливость с красивого лица девушки. И когда это удавалось ему, когда краска (Толя с удивлением догадывался, что это цвет удовольствия, а не гнева) ложилась на нежные девичьи щеки, Виктор смотрел на нее каким-то другим, вспыхивающим взглядом.
Такой вспыхивающий взгляд у него, когда Виктор доволен положенными на холст красками: отстранится и любуется. Хлопцам, Янеку и Алексею, он говорил про Леонору:
– Это же античное лицо. Линии какие! И такое же спокойствие. И вдруг оно оживает: линии те же, а свет изнутри иной, точь-в-точь – деревенская девушка, стыдливо держащая фартук у рта. Сочетание, а?
Как он теперь встретится с Леонорой? Она ведь здесь и стала какой-то вызывающе красивой. Наряжается будто назло всей той бедности и грязи, что заполняет теперь все вокруг. Рядом с Леонорой легко было представлять того, вчерашнего Виктора. А вот этот Виктор, обросший, постаревший, беспомощный?.. Да он ли это там за перегородкой?
В Толином сознании Виктор неотделим от всего, что осталось в довоенном. В теперешнюю жизнь Виктор не вошел еще ни словом, ни осмысленным взглядом, ни поступком, и совершенно невозможно представить, как вчерашний Виктор возможен в сегодняшнем. О чем бы заговорил он, выйдя из-за перегородки? Толя даже посмотрел с непонятной тревогой за перегородку.
Он почувствовал облегчение, когда увидел наконец бегущую через двор Любовь Карповну. Вбежала и затараторила. Все уладилось, бургомистр взял покрывало. Любовь Карповна поставила греть воду, разобрала свою высокую постель. Казалось, она только теперь поверила, что сын дома.
Толе вспомнилось, как однажды он все же видел Виктора жалующимся. С неожиданно свежей обидой он рассказал маме про то, как «мамаша» после смерти отца «сплавила» его к дальней родне, чтобы он не мешал ей «быть молодой». Толя даже помнит слова его:
– Я никогда не знал матери, а только неискреннюю чужую женщину.
Возможно, если бы Виктор увидел вот эту суетящуюся счастливую Любовь Карповну, что-то могло бы измениться в этой странной семье.
Вошла мама, за ней в низкую дверь влез Владик и сразу направился к больному с лицом озабоченным и строгим. Спустя какое-то время Толя услышал слово «тиф», по-разному повторенное Владиком, мамой, Любовью Карповной.
– У него кризис на исходе, как мог добраться он в таком состоянии? – удивился Владик.
Вспомнилось: «сила воли».
Мама предупредила Любовь Карповну:
– Не проговоритесь никому. Они тифозные дома сжигают вместе с больными.
– Сохрани и помилуй, боже!
Толя пишет стихи
Толя был поэт – об этом знал лишь он сам. И если у Толи не всегда ладилось с друзьями, это можно было понять: они не знали, что он поэт, и относились к нему так, как если бы он не писал стихов. Сам же Толя легко шел на ссору: ему и с самим собой не скучно.
Начинал учиться в школе он несколько странно: уже в первом классе ему разбили голову, во втором – два раза. Обстригая ранку и безжалостно обрывая Толин скулеж, папа всякий раз интересовался: что будет в десятом? А Толе просто не везло. Станут перебрасываться камнями через крышу – кому попадет? Толе, конечно. Один старшеклассник, который уже изучал законы физики, рассудил:
– Это у него голова большая – притягивает.
Читать Толя не любил до четвертого класса, с тяжелым смирением брался он за книжку. Миньке объяснял: научиться хорошо читать можно по любой книге. И показал другу брошюру о картофеле, которую он пытался осилить. Прыщеватая и красневшая даже перед школьниками молоденькая учительница русского языка, которая все ходила к маме за мазями для лица, подарила Толе однотомник Пушкина. Толя прежде всего взвесил его в руке: какие есть книги толстые! Брошюра о картофеле куда-то затерялась, и Толя взялся за Пушкина. Стихи заучивать он не любил. Но очень скоро обнаружил, что среди обычных слов в голове у него поют удивительно звучные, круглые, праздничные слова:
Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана.
Будто «уши отложило» ему. Толя вдруг уловил, что все слова живут не сами по себе, что они ударяются друг о дружку и звенят, как весенние сосульки: он – Купидон, грезы – слезы, мама – упрямо…
А однажды проснулся он каким-то удивительно легким, счастливым, как просыпаются только в детстве. Солнце колышет прозрачные, словно из лучей, шторы, в кухне голоса, и среди них – мамин, за окном кричат мальчишки: весь мир уже проснулся и ожидает лишь тебя…
Я лежу, гляжу в окно —
Все мне очень мило.
Над страной взошло давно
Дневное светило.
Что это? Да это же стихи, его стихи! Толя повторил, правда – стихи!
Вошла мама, взглянула на счастливое лицо сына и так хорошо сказала:
– Полежи, сынок, помечтай.
Как она угадала?
Жил с тех пор Толя в постоянной работе, будто нашел удивительный механизм и занят тем, что беспрестанно проверяет: действует ли?.. «Звезды смотрят вниз – кот полез на карниз», «Мне не спится – земля вертится»…
Когда-то Толя любил рассматривать все предметы снизу, изучать то, что скрыто от глаз взрослых: залезал под кушетку или кровать, под стол и лежал там, пока мама не выгонит. По ее мнению, он занимался тем, что спиной вытирал пол.
А тут на него новое нашло. Ему нравилось теперь ко всякой вещи сызнова примеривать ее название. «Хле-еб». Почему это – «хлеб», а если – «стол» или «чернильница»? Почему хлеб обязательно – «хлеб»? А если про дерево сказать – «человек»?
В голове у него был страшный кавардак.
– Толя, ставь стулья и зови обедать.
– Почему – «стулья»?
– Что почему? Обедать надо, папа сейчас придет, некогда ему вас ждать.
Все в мире приходилось называть наново. Деревья – «зеленые». А если сказать – «красные»? Нет, само слово «зеленый» будто окрашено в цвет деревьев.
Но когда Толя читал Пушкина, вещи и их наименования не вызывали сомнений: все тут на месте, кажется, что это Пушкин первый назвал небо – «небом», соловья – «соловьем», шатер – «шатром». С этого и началось удивление, а потом и то, что нельзя назвать иначе, как любовью. Толя влюбился в Пушкина, как влюбляются в живых: стыдливо, мечтательно. Он даже на свидания ходил к Пушкину.
В одном из классов (дядя жил в школьном здании) висел портрет. Этот Пушкин был по-особенному приветливый, черты лица не резкие, бакенбарды мягкие. Случалось, что после уроков, когда уже начинали густиться по углам вечерние тени, Толя шел к Пушкину. Как полагается для свидания, брал с собой книгу. Заглянет кто-либо в класс – что скажешь? Приходил к Пушкину? А так – читал.
Толя садился за парту, смотрел в порывистое и светлое лицо на стене и даже что-то говорил:
– Вот, опять я…
И было ему печально и сладко в эти мгновения. И еще было ощущение чего-то жутковатого, запретного, ему самому непонятного. Уходя, он прощался с глазами Пушкина, а потом из коридора засматривал еще раз, зная, что снова и снова встретится с провожающим и приглашающим взглядом.
Пушкин – тот, что в строчках, и тот, что на портрете, – отвечал на всякое Толино чувство: с ним одинаково полно можно быть и счастливым, и грустным, и спокойным, и неспокойным. Когда Толя был еще в пятом классе, Пушкин подсказал ему, что печально-сладкое томление, которое мучило, это не что-то запретно-постыдное, а, наоборот, очень красивое. Оно называется: «любовь», «нега», «печаль». Через Пушкина он узнавал самого себя, у поэта он находил слова, называющие Толины переживания. Названия были самые неожиданные, но лишь такие и устраивали Толю; в своих стихах Толя именовал беленькую, глазастую Лялю «коварной», «жестокой девой», себя величал «пустынником одиноким», лоб свой – «челом», встречу во втором классе с Лялей называл «роковой». «Коварство» же беленькой девочки заключалось в том, что она не догадывалась о настоящих Толиных чувствах, когда он, угрюмо опустив глаза и упрятав подбородок в воротник, старался прошмыгнуть мимо. Правда, прятал глаза он от страха перед приветливой девочкой, а бычился, наклонял голову, чтобы лицо не казалось таким круглым. Но Ляле, видимо, было все равно. Она бегала и смеялась с теми, у кого на «челе» не имелось «печати рока».
Раньше, когда маме говорили, что у нее красивый мальчик, «совсем как девочка», Толя буркал из-под маминой руки:
– Сама ты красивая.
А тут он стал часто смотреться в зеркало. И огорчался: не лицо – одни щеки, так и хочется ткнуть пальцем. Очень кстати ему сделали кубанку, удлиняющую лицо. Толе она так полюбилась, что он даже на печи в ней сидел. Но и в кубанке Толя готов был два километра крюка задать, только бы не встретиться с Лялей. Глаза у нее такие дружелюбные, словно выкатываются тебе навстречу, вот-вот что-то скажет. А заговори она с ним, Толя провалился бы сквозь землю. Вот он и шмыгал мимо, злобно хмурясь. Девочка провожала его удивленным взглядом, приветливая улыбка на всегда бледном личике ее иногда сменялась тревогой, обидой. Толя не знал, что живущая без матери и отца девочка очень чувствительна ко всякому злому взгляду, слову. Но и Ляля тоже не знала, как ласково и жадно смотрел в ее сторону Толя, когда она его не могла видеть. В темном клубном зале, когда механик кинопередвижки заряжал новую часть, Толя вскакивал и смотрел, смотрел туда, где сидела Ляля, вспыхивал экран – он прилипал к стулу. Иногда движок долго не заводился. Публика стучала, мальчишки свистели, один Толя был доволен. Кино часто кончалось тем, что механик подходил к экрану и объяснял, что было бы в картине дальше. А Толя спешил к выходу, чтобы, притаившись на веранде, увидеть хотя бы Лялину тень.
Однажды произошло ужасное. К празднику возле клуба фотографировали пионеров. Волосатый фотограф долго прикидывал так и этак. Потом вывел из группы Лялю и стал высматривать еще кого-либо. От мысли, что могут приметить и вызвать его, Толя вспотел, налился краской. И, может, потому его и заметили. Дальше все происходило, как в страшном сне. Фотограф велел Ляле и Толе лечь перед группой «голубками» – голова к голове. Оправив каким-то очень взрослым движением белое платьице, Ляля опустилась на траву. Толя не мог шевельнуться, уши его пылали. Волосатый требовательно надавил на плечо. А все смотрят и, конечно, смеются. Правда, Толя ничего не слышал и не видел, он лишь помнил, что возле его ног – Ляля. Пришлось сесть, пришлось и лечь на локоть, но все это Толя делал под нажимом, словно все суставы у него проржавели: не выпрямили ему левую ногу, она и осталась поджатой. В этой судорожно поджатой ноге, казалось, собралось все его внутреннее напряжение.
– Головками поближе – не уколешься, – потребовал безжалостный фотограф.
Лялины волосы коснулись щеки, Толя испуганно дернулся. Так и на карточке получилось: он – темен лицом, смотрит исподлобья, ковыряет стеклышком землю, а головкой к нему – доверчиво спокойная Ляля.
А потом уехала Ляля с братом и теткой-учительницей. Толя тосковал, и ему противно было видеть других шестиклассниц. Особенно не полюбилась ему худющая черноволосая Валя. А она, как нарочно, все попадалась ему на глаза. У Ляли самое заметное – доверчивые глаза да бледное личико. У этой сразу бросались в глаза широко расставленные, наивно-бесстыжие бугорки под платьем. Ходила она как ветер, разговаривала громко, смеялась так, что в другом конце коридора услышишь, и всегда распевала свое «Сулико». И еще любила задавать учителю вопросы, тоже наивно-бесстыжие. Услышит от хлопцев слово и просит пояснить. А бедный учитель не знает: выгнать ее из класса или в самом деле объяснять. У хлопцев Валя ходила в героях: вот это девка, казак!
И вдруг Толя почувствовал, что влюбляется и в эту. Как почувствовал? Вот он уже перестал замечать, что Валя уродливо худая (оказывается, она гибкая, подвижная), лицо у нее не вытянутое, как еловая шишка, а тонкое и чертовски умное, она не нахальная, а смелая и веселая. Толя теперь сознательно старался приблизиться к Вале, даже подружиться с нею до того, как Валя станет для него пугающе-недоступной. Он уже понимал, что, если заранее не сумеет приблизиться к девочке, чтобы хоть не бояться разговаривать с нею, смотреть ей в лицо, потом он не сможет этого сделать и опять будет мучиться издали. Толя искал случая заговорить с Валей, но, поскольку у него уже была тайная цель, он терялся и вел себя так, что потом стонал, как от зубной боли: «Глупо, глупо…» Все это лишь ускорило приход уже знакомого ему страха перед девочкой. Валя заметила, что этот головастый чудак ее за что-то невзлюбил: сторонится, не глядит! Ну и пусть!
Все повторилось, но на этот раз Толя тосковал острее и мечтал слаще.
И тут возвратилась Ляля. Увидев Толю возле школы, она подбежала, засмеялась, Видимо, она обрадовалась ему так же, как школьному двору, липкам, знакомом пионерской мачте, но все же ее первое движение, такое непосредственное, на какой-то миг разрушило стену мучительного отчуждения, воздвигнутого Толиной трусостью. Теперь все от Толи зависело.
– Уже приехала? Скоро.
– Мы с тетей в Пятигорске были. Как там хорошо!
– Горы…
– На Машуке были, где убили Лермонтова.
Толя промолчал. Но промолчать для него было так же опасно, как для человека, идущего по узенькой кладке, сбиться с ноги.
– А что у нас тут? – помогла ему девочка.
– Ничего.
Толины глаза, как от режущего света, болели от доверчивого взгляда простеньких голубеньких глаз девочки. С этим «ничего» он и поспешил сбежать.
Но с того момента Толя понял, что любить – радостно. А Валя? О ней он думал уже с неприязнью, как бы мстя ей за свою несмелость, за свою тоску. Он уже не помнил, что то же самое он пережил и «по вине» Ляли.
Прошло несколько дней, и Толя уже не понимал, кого ему хочется видеть больше: Лялю или Валю. Он слонялся по поселку, каждый вечер убегал в клуб, даже вечером выходил на шоссе, где шаркают подметками хлопцы постарше. Если ему удавалось издали видеть смуглянку Валю, он думал и про беленькую девочку с добрыми глазами. Он и во сне видел, чувствовал их как что-то одно.
Потом Ляля уехала насовсем, а следом и Валя. А Толя писал о них в своем тайном дневнике. И когда у дяди жил. В тетрадке у него все меньше было «роковых страстей», «коварства», хотелось писать о дожде, о дороге…
Сырое небо без конца
Водой сочилось. И сам воздух
От влаги весь разбух, казалось,
Отяжелел и вязким стал.
Казалось мне, что вся земля,
Тоскливо-серая, как небо,
Сплывет через края куда-то…
Это были невеселые стихи, по они принадлежали ему, и оттого, что, по его убеждению, стихи хороши, Толе было очень радостно, когда он их писал, а потом без конца читал самому себе. Он был в том возрасте, когда сама грусть по ушедшему, неосуществленному живет в человеке как обещание чего-то еще более радостного, нужного, большого. Впереди было столько всего: там была жизнь!
Пришли немцы – и это все тоже стало «довоенным», как бы осталось за чертой.
Толя любит вот так сесть над открытым сундучком, смотреть на книги, на свой дневник, на школьную тетрадку стихов и думать. Когда-нибудь Толя будет вспоминать о происходящем теперь, как о прошлом. И вот этот миг тоже будет тогда в прошлом: Толя сидит над своими книгами, в соседней комнате стучит молотком дедушка, мамин и бабушкин голоса на кухне, а за стенами дома – немцы. С усилием попробовал представить, что комендатура, волость, полицаи, неизвестно чем и для чего живущие люди – все это осталось бы навсегда. Даже представить не смог: перед глазами сразу встала стена.
Толю позвали. Опять за водой? Нет, песок понадобился ножи чистить. Война войной, а у мамы в голове еще и это. Захватив старое ведро и лопату, Толя побрел к шоссе: там, под соснами, есть специальная яма. Вот тебе и раз, кто-то умный свалил сюда мусор! Толя направился к другой яме. Тут в холодном песке ковыряется Надина девочка. Над нею висит соседский пузан, сопит сопливо и глядит на красные, как гусиные лапки, Инкины ручки, а свои зябко прячет в длинные рукава фуфайки.
– Ну, дайте мне, – сказал Толя.
Он не умеет разговаривать с малышами, и ему всегда кажется смешным лицо брата, когда тот возится с «лупатенькой» (так он Инку называет) и даже целуется с ней. А вообще-то Инка забавная а, правда, лупоглазая: когда смотришь в большие, верящие и такие ожидающие глазенки этого человечка, невольно и сам начинаешь широко открывать глаза, округлять их навстречу Инке. Вот так же нестерпимо хочется зевнуть, когда видишь, как рядом кто-нибудь ртом ловит сон.
Инка выбралась из ямки и ссыпает Толе под лопату черный песок, да еще глядит так, будто Толя за тем и пришел, чтобы играть с нею.
– Инка, немец твоего котика забрал.
Соседка Надя рассказала, что ее Инка прячет за печкой от немцев котят. Она, конечно, убеждена, что раз кур взяли и поросеночка, так уж котят, тепленьких, с пушистыми хвостиками, схватят сразу. Толины слова зажгли тревогу в черных глазенках. А Толя продолжал:
– Во-он пошел.
Действительно, через Надин двор шел немец. Тревожным женским взглядом проводила его Инка, личико ее такое озабоченное, точно дома у нее – куча детей. Толе стало жалко ее.
– А ты сбегай, погляди.
Инка с опаской потопала к дому. Ее товарищ, путаясь босыми ногами в фуфайке, последовал за ней. Отбежав, остановился и грозно глянул на Толю, а потом еще быстрее замелькали его чистые клубничного цвета пятки.
Толя набрал полное ведро желтого песка и вылез наверх. По шоссе, как заводные, шагают в ногу два немца. Инка и ее товарищ громко кричат у себя во дворе:
– Ладуга, ладуга, не пей нашей воды!
А красиво встала радуга над лесом: точно ободок зеркала, в которое смотрится желтая осенняя земля. Какая поздняя радуга! Толя прикинул, как про это можно сказать в стихах. Стоя над ямой, разжал ладонь и выпустил лопату: насколько войдет в песок? Железо звякнуло. Доставая лопату, Толя ковырнул землю. Удивился – мешковина! Он соскочил вниз и стал тащить из-под тяжелого песка тряпку…
По шоссе идет караул с моста, напротив комендатуры часовой потрошит корзины женщин.
Толя сел на край ямы и, беззаботно помахивая ногой, проводил невинным взглядом немцев. А самого дрожь бьет. Немцы свернули к комендатуре, в Надином дворе нарочито громко («наперегонки») смеются дети. Толя опять соскользнул вниз. Хорошо бы пересчитать, но и так видно, что гранат больше десятка. Новенькие, зеленые. Кто мог зарыть их? Или это немцы собрали, что осталось после боя? Первое побуждение – присыпать находку песком и уходить подальше – исчезло и не возвращалось. Будь тут одна или две гранаты, Толя просто отнес бы найденное к Миньке, они разобрали бы их – и на том конец. Но тут целый склад. То, что гранат много, что даже знать о них – опасно, направило Толину мысль в еще более опасное русло: гранаты необходимо перепрятать. В сарай? Надо с Павлом посоветоваться.







