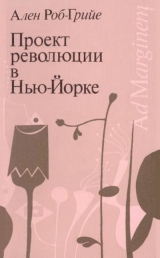
Текст книги "Проект революции в Нью-Йорке"
Автор книги: Ален Роб-Грийе
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Пестрой афишей, воспроизведенной во многих десятках экземпляров, обклеены все стены длинного коридора, ведущего на пересадку Пьеса имеет название: «Кровавые грезы». Мужскую роль исполняет негр. Я ничего не слышал об этом спектакле, вероятно, совсем недавнем, поскольку рецензий в прессе еще не было. Что до актеров, их имена, напечатанные, впрочем, очень мелким шрифтом, ни о чем мне не говорят. Я никогда раньше не видел этой рекламы, будь то в метро или же в каком другом месте.
Полагая, что задержался достаточно, дабы вероятные преследователи могли поравняться со мной, я вновь оборачиваюсь и убеждаюсь, что за мной никто не следит. В длинном коридоре пустынно и тихо, он очень грязен, как и все пересадки на этой линии, замусорен бесчисленными бумажками, от рваных газет до конфетных оберток, и усеян мокрыми пятнами – почти все они отвратительного вида. Новенькая афиша, конец которой теряется впереди, равно как и сзади, выделяется своей чистотой на стенах, покрытых блестящей керамической плиткой, некогда белой, но теперь облупившейся, облезшей, испачканной коричневатыми подтеками и местами поврежденной, словно по ней стучали молотком.
Коридор выводит на обширную площадь, также пустынную. Эта громадная зала под землей не имеет очевидного назначения; ничто здесь – ни особенности архитектуры, ни таблички с указателями – не позволяет определить направление движения; хотя таблички могут висеть на стенах, но до них, учитывая размеры помещения, очень далеко, а электрическое освещение слишком тусклое, так что взгляду не за что зацепиться, поскольку сами пределы этой непонятной бесполезной залы теряются в затененных участках.
Бесчисленные маленькие колонны из полых металлических трубок, с высверленным цветочным орнаментом, пережитком прошедшей эпохи, поддерживают очень низкий потолок. Колонны, стоящие чересчур близко друг к другу, в пяти или шести шагах, поставлены в правильном порядке по параллельным и перпендикулярным линиям, отчего все пространство состоит из равных смежных квадратов. Впрочем, на потолке этот шахматный порядок обретает плоть благодаря балкам, соединяющим попарно вершины колонн.
Внезапно асфальтированный пол обрывается длинным рядом эскалаторов, последовательно чередующихся по направлению движения вверх и вниз: их первая ступенька совпадает по ширине с расстоянием между двумя колоннами с кружевным железным узором. Весь комплекс явно предназначен для исхода огромной толпы, полностью отсутствующей, во всяком случае, в этот час. Преодолев два пролета, развернутых в противоположные стороны, оказываешься в нижней зале, неотличимой от той, что находится наверху. Спустившись еще на один этаж, я, наконец, попадаю в торговую галерею, утопающую в резком свете многоцветных ламп, что вызывает резь в глазах – весьма неприятную, поскольку выходишь сюда после долгого пребывания в сумраке.
Равным образом без всякого перехода возникает толпа: не из самых многочисленных, но довольно плотная, состоящая из одиночек и групп по двое, очень редко – по трое человек, занимающих все свободное пространство между павильонами и внутри них. Здесь собрались одни лишь подростки, большей частью мальчики, хотя при внимательном рассмотрении за короткой стрижкой некоторых из них, узкими голубыми джинсами и свитером с высоким воротом или кожаной курткой угадываются вероятные или даже неоспоримые девичьи очертания. Все они похожи друг на друга как своим одеянием, так и безусыми, свежими, розовыми лицами, чей яркий ровный цвет не столько свидетельствует о хорошем здоровье, сколько вызывает в памяти краски манекенов в витринах или загримированные лица покойников в стеклянных гробах, на кладбище для дорогих усопших. Впечатление какой-то фальши еще более усиливается из-за неестественной манеры держать себя: своими позами молодые люди, очевидно, стремясь к самовыражению, демонстрируют сдержанную силу, уверенность в себе, высокомерное презрение к остальному миру, однако высокопарные жесты и показная кичливость, которая сквозит в каждом движении, напоминают скорее плоскую игру бездарных актеров.
Среди них там и сям попадаются похожие, напротив, на усталых смотрителей музея восковых фигур немногочисленные взрослые – неопределенного возраста, помятые и незаметные; они словно бы стараются не привлекать к себе внимания и раствориться в толпе – и, действительно, нужно некоторое время, чтобы обнаружить их присутствие. В серых лицах этих людей с осунувшимися чертами и в их неуверенном поведении видна несомненная печать ночного часа, более чем позднего. Мертвенно-бледный свет неоновых ламп завершает их сходство с больными или наркоманами; кожа белых и негров приобрела почти одинаковый металлический оттенок. В большом зеленоватом зеркале на одной из витрин возникает мое собственное, точно такое же изображение.
При этом у молодых и старых есть одна общая отличительная черта, а именно чрезвычайная замедленность всех движений – небрежно-напускная разболтанность у одних, чрезмерно-тяжелая неповоротливость у других – из-за чего каждую секунду возникает опасение, что они могут впасть в окончательную и бесповоротную неподвижность. Вдобавок, здесь поразительно тихо: ничто – ни крики, ни слишком громкие голоса, ни любой другой шум – не пробивает ватного безмолвия, нарушаемого только клацанием рычагов и сухим потрескиванием цифр, показывающих набранные очки.
Ибо эта подземная зала, по-видимому, целиком отведена для игр: с каждой стороны широкого центрального прохода располагаются большие холлы, где длинными рядами стоят автоматы кричащих расцветок: машины, глотающие и извергающие монеты, чьи таинственные щели разрисованы таким образом, чтобы придать им как можно большее сходство с женскими половыми органами; аппараты для азартных игр, позволяющие проиграть за десять секунд и несколько центов тысячи воображаемых долларов; механический раздатчик познавательных фотографий, изображающих сцены войн или совокуплений; электрический бильярд со световым табло, где представлены виллы и роскошные автомобили – они вспыхивают пламенем после каждого удачного Удара по стальному шару, летящему в лузу; тир, в котором из ружья со световым лучом расстреливаются попавшие в кадр прохожие, гуляющие по улице; мишень Для оперенных дротиков, представляющая собой обнаженную красивую девушку, распятую на заборе в виде креста святого Андрея; автомобильные гонки, электрический бейсбол, волшебный фонарь для просмотра фильмов ужасов и т. п.
Рядом же находятся огромные магазины сувениров, на витринах которых выставлены параллельными рядами по принципу сходства самые известные достопримечательности империи, запечатленные в пластмассе. Это – если двигаться сверху вниз – статуя Свободы, Чикагские мясобойни, гигантский Будда из Камакуры, Синяя вилла в Гонконге, Александрийский маяк, яйцо Христофора Колумба, Венера Милосская, «Разбитый кувшин» Греза, «Божье око» на скале, Ниагарский водопад с клубами подсвеченной мерцающей пены из нейлона. Наконец, здесь имеются секс-шопы, которые служат всего лишь продолжением соответствующих лавчонок Сорок второй улицы, уходя на глубину нескольких десятков или сотен метров.
Я без труда нахожу нужную мне витрину, весьма приметную тем, что в ней ничего не выставлено: это большое матовое и ровное стекло, на котором крохотными эмалевыми буквами выведена незатейливая надпись:
«Доктор Морган, психотерапевт». Я поворачиваю едва заметную ручку двери, сделанную из того же матового стекла, и вхожу в совсем маленькую, голую комнату кубической формы, все шесть сторон которой (иными словами, включая пол и потолок) окрашены в белый цвет, где находятся только свободный стул из полых алюминиевых трубок и столик с покрытием из искусственного алебастра, куда положен закрытый журнал для записей в черной молескиновой обложке с золотым тиснением из четырех цифр: «1969». За этим столом на стуле, ничем не отличающемся от первого, сидит, неестественно выпрямившись, светловолосая девушка, может быть, и красивая, равнодушная, неискренняя, в медицинском халате ослепительной белизны и солнцезащитных очках, которые, видимо, помогают ей вынести интенсивное, белое, как и все остальное в этой комнате, освещение, чья яркость усиливается благодаря отражению от безупречно чистых стен.
Она смотрит на меня, не говоря ни слова. Стекла ее очков такие темные, что невозможно даже определить форму глаз. Решившись, я произношу условленную фразу, тщательно отделяя одно слово от другого, как если бы каждое имело свой особый смысл:
– Мне нужно сделать анализ на наркотик. На секунду задумавшись, она дает установленный ответ, но при этом голос ее звучит неожиданно живо и естественно, что производит странное впечатление. Непринужденно и весело она говорит:
– Да… Уже очень поздно… Как там на улице? И сразу же ее физиономия застывает, тогда как тело мгновенно обретает прежнюю неподвижность манекена. Однако я отвечаю, как положено, все тем же нейтральным тоном, делая ударение на каждом слоге:
– На улице дождь. На улице все идут, сгорбившись и подняв воротник.
– Очень хорошо, – говорит она (и внезапно голос ее становится усталым), вы постоянный пациент или же пришли сюда в первый раз?
– Я пришел сюда в первый раз.
Тогда, изучающе оглядев меня – по крайней мере, мне так кажется – из-за черных очков, девушка встает, огибает стол и, хотя это никоим образом нельзя объяснить малыми размерами комнаты, проходит настолько близко от меня, что почти трется о мою одежду, оставляя на ней запах своих духов; одновременно она указывает мне на свободный стул и, дойдя до стены в глубине, оборачивается со словами: «Садитесь».
Она тут же исчезает за дверью, настолько хорошо скрытой в белой перегородке, что я даже не заметил стеклянную ручку. Впрочем, поверхность стены обретает свою первозданную гладкость с такой быстротой, что у меня могли бы возникнуть сомнения, действительно ли я увидел в ней дверной проем. Едва я сажусь, как через противоположную дверь, выходящую на торговую галерею, входит один из людей с серо-металлическим цветом лица, которого я заметил несколькими минутами раньше перед витриной магазина порнографической литературы: он стоял спиной, повернувшись к выставленным в витрине журналам и специализированным газетам, временами поглядывал направо и налево, словно опасаясь, что за ним следят, а затем вновь устремлял взор на роскошное иллюстрированное издание, занимавшее целую полку на высоте взгляда множеством идентичных экземпляров; их цветная обложка воспроизводила фотографию широко раскрытого влагалища в натуральную величину.
Однако в данный момент он смотрит на меня, потом на стол со стоящим за ним свободным стулом и, наконец, решается произнести пароль: «Мне нужно сделать анализ на наркотик». Я мог бы, не упустив и не изменив ни слова, дать ему правильный ответ, что не считаю нужным делать, поскольку это не входит в мои обязанности; поэтому я только начинаю, как положено, не желая все-таки вспугнуть его: «Да… Уже очень поздно», а затем добавляю от себя:
– Ассистентка доктора вышла. Но, думаю, скоро вернется.
– Ах, так? Благодарю вас, – говорит мужчина с серым лицом и поворачивается к матовому стеклу, которое обращено к коммерческому переходу, словно мог что-то разглядеть сквозь него и избрал это времяпровождение с целью скоротать минуты ожидания.
Внезапно во мне рождается подозрение при виде того, как одет вновь прибывший: широкий блестящий черный плащ и мягкая фетровая шляпа с помятыми полями… Правда, эта спина может лишь напоминать беспокойную фигуру, которую я только что видел у витрины магазина порнографической литературы… Однако субъект в плаще, будто желая усугубить тревожащее меня помимо воли сходство, запахивается плотнее и засовывает в просторные карманы руки в черных перчатках.
Не давая мне времени выждать, когда он вновь повернется, чтобы я мог распознать в заострившихся от усталости чертах лица дневной облик, девушка в медицинском халате возникает из стены и очень быстро отделывается от меня. Следуя ее инструкциям, я выхожу в дверь со стеклянной ручкой и поднимаюсь по железной винтовой лестнице, очень узкой и крутой.
Затем начинается длинный коридор, целиком (за исключением пола) выложенный той самой поврежденной белой керамической плиткой, что все время встречалась мне в переходе на станцию метро, где я, видимо, по-прежнему нахожусь. В конце коридора маленькая раздвижная дверь с электрическим глазком автоматически открывается, пропуская меня, и я оказываюсь, наконец, в зале, где, если я правильно понял, нам будут отдавать распоряжения на завтрашний день. Здесь собралось около пятидесяти человек. Я сразу же задаю себе вопрос, сколько среди них полицейских осведомителей. Поскольку вошел я из глубины комнаты, то вижу перед собой только спины, что не облегчает задачу по выявлению шпиков, впрочем, совершенно бессмысленную.
Мне казалось, что я приду загодя; но собрание, судя по всему, уже длится какое-то время. И, похоже, не будет никаких точных указаний, имеющих отношение к непосредственному действию. Сегодня происходит скорее нечто вроде идеологического занятия, привычная форма которого вполне доказала свою дидактическую эффективность, должным образом воздействуя на активистов движения всех рангов: это подготовленный заранее обмен репликами между тремя персонажами, которые задают вопросы и отвечают на них – перемена ролей совершается при каждом новом повороте темы, то есть примерно через минуту.
Фразы отличаются краткостью и простотой – подлежащее, сказуемое, дополнение; большим количеством повторов и антитез, однако для словарного состава характерно внушительное число ученых слов и терминов, принадлежащих к различным областям знания: философии, грамматике или геологии – их употребляют постоянно и настойчиво. Участники диалога говорят неизменно ровным нейтральным тоном, даже когда речь идет об устрашающих сценах насилия; они изъясняются в вежливой, почти улыбчивой манере, несмотря на холодную жесткость произносимого текста. Все трое знают его наизусть до мельчайшей запятой, и сценарий разыгрывается как по маслу, словно роли исполняются безупречными машинами, у которых не может быть колебаний, оговорок и провалов памяти.
Актеры одеты в черные строгие костюмы модного покроя, белоснежные рубашки и полосатые галстуки. Они сидят бок о бок на невысокой эстраде за белым деревянным столом, обшарпанным и колченогим, похожим на те, что некогда ставились на кухнях в бедных домах. Благодаря этому возникает соответствие между мебелью и стенами и потолком залы, облицованными все теми же треснувшими керамическими плитками: медленно проникающая влага источила некоторые из них, отколов кусочки разнообразной формы, так что наружу выступила сероватая поверхность грубой штукатурки, наползающая на плитки линией в виде лесенки или зубцов. Судя по всему, темой сегодняшнего занятия является «красный цвет», осмысляемый как радикальное разрешение непримиримого противоречия между белым и черным. В настоящий момент каждому из участников диалога надлежит взять на себя изъяснение одного из трех величайших освободительных деяний, имеющих отношение к красному: изнасилования, поджога, убийства.
Предварительное обсуждение, которое подходит к концу в самый момент моего прихода, видимо, было посвящено теоретическому оправданию преступления и понятию метафорического деяния. Теперь актеры переходят к определению и анализу трех избранных актов. Утверждение, согласно которому изнасилование уподобляется красному цвету в том случае, когда жертва уже лишилась девственности, носит чисто субъективный характер, хотя и опирается на новейшие исследования в области сетчатки глаза, фиксирующей зрительные впечатления, равно как и на работы, описывающие религиозные ритуалы, существовавшие в Центральной Африке в начале нашего века: в частности, обряд дефлорации юных пленниц из вражеского племени в ходе универсального празднества, напоминающего театральные представления античности с их специфической постановкой, кричаще-яркими костюмами, разрисованными масками, утрированной до пароксизма мимической игрой – столь же жестокая, но одновременно и очистительная мифология воплощается в действии, сочетающем холодную точность с патетикой бреда.
Зрители, сидя лицом к амфитеатру, образованному округлой линией масличных пальм, словно бы пританцовывают, отбивая ногами такт по красноплиточному полу в одинаково-однообразном медленном ритме, который, однако, неприметным образом убыстряется. Каждый раз, когда одна из ног касается пола, торс наклоняется вперед, а из легких с глухим стоном вырывается воздух, будто сопровождая некую тяжкую работу, как у дровосека, опускающего топор, или пахаря, взмахивающего мотыгой. Без всякой видимой причины перед моим взором вновь возникает равнодушная неискренняя молодая женщина, переодетая медсестрой, которая принимает лже-больных, пациентов психотерапевта Моргана, в маленькой сверкающей комнате: я вижу ее в тот самый момент, когда она касается меня крашеными в золотой цвет волосами и грудью, без сомнения, искусственной, распирающей белую ткань халата, так что на моей одежде остается резкий запах ее духов.
Она продолжает прижиматься ко мне совершенно очевидным, провоцирующим, непостижимым образом, будто посреди комнаты воздвиглось какое-то невидимое препятствие, и ей приходится протискиваться между им и мною, вихляя бедрами, словно она ползет, сохраняя вертикальное положение, с целью просочиться через этот узкий проход. А голые ноги отбивают такт на глиняном полу во все более стремительном ритме, одновременный выдох становится таким хриплым и громким, что в конечном счете заглушает рокот тамтамов, гудящих под ладонями музыкантов, которые сидят на корточках перед сценой, соединяющей края полукруга, образованного линией масличных пальм.
Но три актера на возвышении переходят уже ко второй части триптиха, иными словами, к убийству; и на сей раз демонстрация акта покоится на вполне объективных основаниях, а именно на крови – при условии, разумеется, что применяются способы, вызывающие достаточно обильную внешнюю геморрагию. То же самое относится и к третьей части, где рассматривается естественный и традиционный цвет пламени, чья максимальная интенсивность достигается, если осуществить поджог при помощи бензина.
Зрители, сидящие параллельными рядами на кухонных стульях, благоговейно внимают диалогу, напоминая своей неподвижностью набитые соломой чучела. А поскольку я остаюсь в глубине залы у стены, ибо свободных мест нет, и вижу только спины, мне легко представить себе, что лица у них вообще отсутствуют, что это просто костюмы, набитые соломой и прикрытые сверху лысыми или кудрявыми париками. Впрочем и участники диалога исполняют свои роли в абсолютно отстраненной манере, говоря в пространство прямо перед собой и ни на ком не останавливая взора, как если бы напротив никого не было, как если бы зала была пуста.
И вот уже хором все трое одновременно произносят один и тот же текст прежним ровным нейтральным тоном, не выделяя интонацией ни единого слова или слога. Это изложение заключительной части: идеальным преступлением, включающим в себя все три изученных элемента, могла бы стать насильственная дефлорация юной девственницы, предпочтительнее всего – с молочно-белой кожей и очень светлыми волосами, с тем чтобы жертва затем была умерщвлена (наилучшие способы – вспороть ей живот или перерезать горло), а обнаженное окровавленное тело в качестве завершающего аккорда сожжено при помощи бензина, который мало-помалу воспламенил бы весь дом.
Уши мои все еще заполняет вопль ужаса, боли, смерти, пока я рассматриваю скомканные простыни и муслиновое белье, кучей лежащее на полу – этот импровизированный алтарь, чьи останки постепенно обретают ослепительно красный цвет: сначала в центре появляется пятно с очень четкими контурами, которое мало-помалу расползается по всей поверхности.
Зато огонь, едва лишь спичка опалила краешек кружевной оборки, пропитанной бензином, вспыхивает мгновенно во всей своей мощи, так что за языками пламени тут же исчезают еще слегка трепещущая жертва, груда тряпок, сыгравших свою роль в ритуале умерщвления, охотничий нож и сама зала, откуда я едва успеваю выйти.
Дойдя до середины коридора, я замечаю, что пожар бушует уже на лестнице, охватив сверху донизу здание, в котором я излишне задержался. К счастью, остаются железные наружные лестницы, которые зигзагом спускаются по фасаду дома. Повернув назад, я устремляюсь в другой конец коридора к двери в виде окна. Оно заперто. Тщетно дергаю я шпингалет, мне не удается его сдвинуть. Едкий дым заполняет легкие и слепит глаза. Сильным ударом ноги, каблуком в самый низ оконной рамы, я вышибаю стекло, осколки которого с хрустальным звоном падают на металлическую площадку. Свежий воздух, хлынувший ко мне, приносит с собой, перекрывая гул пламени, вопль толпы, собравшейся в самом низу, на улице.
Проскользнув в отверстие, я начинаю быстро спускаться по железным перекладинам. Со всех сторон, на каждом этаже разлетаются стекла, лопаясь под влиянием жара. Перезвон осколков, постоянно усиливаясь, сопровождает меня во время бегства. Я перескакиваю сначала через одну перекладину, затем через две.
Время от времени я на секунду приостанавливаюсь, чтобы наклониться через поручень: мне кажется, что толпа у меня под ногами удаляется все больше; я даже перестал различать крохотные головы, поднятые ко мне; вскоре остается лишь одна черная точка в сгустившейся темноте, но, возможно, это только отблеск на асфальте, омытом недавним ливнем. А в тревожном сигнале пожарной машины, промчавшейся вдалеке, издав два жалобных гудка, звучит нечто надежное, успокоительное, привычное.
Я закрываю дверь-окно, шпингалет которого следовало бы смазать маслом. Теперь здесь царит полное безмолвие. Я медленно поворачиваюсь к Лоре, оставшейся в нескольких метрах сзади, в коридоре.
– Нет, – говорю я, – никого нет.
– Но он же стоял здесь, будто на посту, весь день.
– Значит, он ушел.
За углом дома напротив я только что ясно увидел черный плащ, сверкающий еще больше после дождя и блеснувший в желтом свете близко стоящего фонаря.
Я прошу Лору описать субъекта, о котором она говорит; она тут же перечисляет уже известные приметы, изъясняясь медленно и неуверенно, но демонстрируя хорошую память и наблюдательность. Я говорю, чтобы сказать хоть что-то:
– Отчего ты решила, что он следит за этим домом? И даже мне самому тон мой кажется неубедительным.
– Он постоянно разглядывает окна, – отвечает Лора.
– Какие окна?
– Это и те, что в двух пустых комнатах с каждой стороны.
– Значит, он видел тебя?
– Нет, он не мог: я стояла в глубине, а внутри слишком темно. В стеклах он видит только отражение неба.
– Откуда ты знаешь? Ты выходила?
– Нет! Нет! Нет!
Этого вопроса она панически пугается, затем, через несколько секунд, добавляет спокойнее:
– Я рассчитала, сделав чертеж. Я говорю:
– В любом случае, раз он ушел, значит, следил за другим домом, или просто поджидал кого-то, или же укрывался от дождя, надеясь, что ливень скоро кончится, и можно будет продолжить путь.
– Дождь шел не весь день, – отвечает она. И по тому, как звучит ее голос, я догадываюсь, что она мне больше не верит.
Вновь я думаю, что Фрэнк, наверное, прав: от этой девушки исходит опасность, потому что она хочет знать больше, чем способна вынести. Нужно все-таки принять решение.
– А потом, он уже был здесь вчера, – говорит Лора. Я делаю шаг по направлению к ней. Она тут же отступает на шаг назад, не сводя с меня блестящих испуганных глаз. Я продвигаюсь еще на один шаг, затем на другой, и каждый раз на столько же отступает Лора.
– Мне придется…, – начинаю я, стараясь подыскать нужные слова…
Именно в этот момент над нашими головами слышится какой-то звук: тихие, но отчетливые удары, как если бы кто-то трижды тихонько стукнул в дверь, желая войти в одну из комнат. Все они пусты, и в доме никого нет, кроме нас. Возможно, это хрустнуло дерево, и звук показался нам таким неестественно отчетливым, потому что сами мы производим очень мало шума, делая крохотные шажки по плиточному полу. Лора вполголоса спрашивает:
– Вы слышали?
– Что?
– Кто-то стучал.
– Нет, – говорю я, – ты слышала меня.
Я уже добрался до лестницы и положил руку на перила. Чтобы успокоить ее, я, не шевельнув ни ладонью, ни пальцами, трижды постучал ногтем по круглой деревяшке. Лора вздрогнула и посмотрела на мою руку. Я повторил свое движение на ее глазах. Несмотря на большое сходство между звуками сверху и моей имитацией, девушка, по-видимому, не вполне поверила мне. Она посмотрела на потолок, затем опять на мою руку. Я снова начал медленно продвигаться к ней, а она в то же самое время стала пятиться.
Отступая шаг за шагом, она уже почти достигла двери в свою комнату, когда мы вторично услыхали тот же самый звук, на верхнем этаже. Мы оба остановились, напряженно прислушиваясь и глядя туда, откуда могли доноситься удары. Лора еле слышно прошептала, что ей страшно.
Рука моя не опиралась более о перила или обо что-нибудь еще.
И мне было трудно придумать другой сходный трюк.
– Ну, что ж, – говорю я, – сейчас поднимусь и посмотрю. Но это скорее всего крысы.
Я тут же повернулся и пошел назад к лестнице. Лора стремительно бросилась в свою комнату и попыталась закрыть дверь на ключ, разумеется, безуспешно, поскольку замок блокирован с того времени, как я засунул в него гвоздь именно в этих целях. Как обычно, Лора упорствовала в течение нескольких секунд, безнадежно пытаясь повернуть язычок; затем, отказавшись от своего намерения, направилась к кровати, так и не прибранной, где, конечно, пряталась, не раздеваясь. Ей даже не пришлось снимать обувь, потому что она всегда ходит босой, о чем, кажется, уже было сказано.
Вместо того чтобы подняться в верхние комнаты, я тут же начал спускаться. В доме, как я уже упоминал, четыре совершенно одинаковых этажа. На каждом из них пять комнат: две выходят на улицу, а две с противоположной стороны – на двор муниципальной школы для девочек; последняя, с выходом напротив лестницы, вовсе не имеет окон. Там, где мы спим, то есть на третьем этаже, в глухой комнате стоит очень большая ванна. Мы также пользуемся несколькими комнатами на первом этаже: в частности, той, которую я назвал библиотекой. Вся остальная часть дома остается нежилой.
– По какой причине?
– В здании, как я только что сказал, двадцать комнат. Это слишком много для двух человек.
– Зачем вы сняли такой большой дом?
– Я не снимаю его, а только сторожу. Владельцы желают снести это здание, чтобы построить высокий современный небоскреб. Если бы они сдавали квартиры или комнаты, это с большой долей вероятности затруднило бы снос.
– Вы не закончили историю с пожаром. Что произошло, когда человек, спускавшийся по железной лестнице, добрался до нижней перекладины?
– Пожарные уже приставили к ней небольшую лесенку, чтобы соединить с землей. Мужчина с серым лицом не столько спустился, сколько скатился кубарем по последним ступенькам. Лейтенант пожарной команды спросил у него, остался ли кто-нибудь еще в доме. Мужчина ответил без всяких колебаний, что никого больше нет. Пожилая женщина в слезах, только что – если я правильно понял – спасенная из пламени, повторила в третий раз, что исчезла «барышня», жившая над ее собственной квартирой. Мужчина же утверждал, что упомянутый этаж совершенно пуст и молодая светловолосая девушка, конечно, успела выбежать из своей комнаты, когда вспыхнул огонь, возможно, именно у нее – если она забыла выключить электрический утюг или оставила гореть газовую или керосиновую горелку…
– Что же вы сделали после этого?
– Я затерялся в толпе.
Он отмечает все, что представляет для него интерес в только что сделанном мною рапорте. Затем поднимает глаза от своих бумаг и спрашивает без всякой связи с предшествующим:
– Та, которую вы называете своей сестрой, в это время находилась дома?
– Да, конечно, ведь она никогда не выходит.
– Вы в этом уверены?
– Абсолютно уверен.
Прежде и также без видимых оснований он спрашивал меня о цвете волос, глаз и кожи Лоры. Я ответил ему, что именно таких называют «беляночками». Когда разговор закончился, я направился к метро, чтобы вернуться домой.
В это время Лора по-прежнему лежит, забившись под простыню и одеяло, поднятое до подбородка. Однако глаза у нее широко раскрыты – она прислушивается с величайшим напряжением, пытаясь угадать, что происходит наверху. Но это ничего ей не дает, ибо дом погружен в тяжелую, ватную, пугающую тишину. В конце коридора убийца, без помех поднявшийся по железной наружной лестнице, осторожно вынимает кусочки стекла из окна, разбитого до его прихода; благодаря отверстию, оставшемуся после выпавшего маленького треугольника, можно легко вынуть двумя пальцами острые концы звезды, расползшейся по стеклу, потихоньку расшатывая их и освобождая из желобка между деревянной рамой и сухой замазкой. Когда мужчина, не торопясь, завершает эту работу, ему остается лишь просунуть руку в зияющую дыру, не опасаясь взрезать вены на запястье, и бесшумно отодвинуть шпингалет, только что смазанный маслом. Затем створка безмолвно поворачивается на петлях. Оставив ее полуоткрытой, дабы свободно ускользнуть после свершения тройного преступления, человек в черных перчатках неслышными шагами ступает по плиточному полу.
Вот уже ручка двери еле заметно поворачивается. Девушка, наполовину приподнявшись на кровати, не сводит широко раскрытых глаз с медной рукоятки прямо перед собой. Она видит блестящую точку: это отражение маленького ночника у изголовья на полированной кругляшке, которая движется с невыносимой медлительностью. И, словно уже почувствовав под собой скомканные простыни, пропитанные кровью, Лора испускает вопль ужаса.
Из-под двери пробивается свет, поскольку я, поднимаясь, включил реле. Я говорю себе, что крики Лоры в конечном счете переполошат всех соседей на улице. Днем их, конечно, слышат дети, когда выходят во двор на время перемены. Я устало преодолеваю этаж за этажом, едва волоча ноги, измученный беготней, которой сегодня было еще больше, чем всегда. Мне даже приходится опираться на перила. Дойдя до площадки второго этажа, я нечаянно роняю связку ключей, которые, прежде чем оказаться на полу, звякают о железные прутья. Только тут я замечаю, что забыл положить ключи на мраморный столик в коридоре первого этажа, как обычно делаю, возвращаясь домой. Я приписываю свою оплошность усталости и тому факту, что думал о другом, когда закрывал дверь: а именно, о словах Фрэнка, только что сказанных по поводу Лоры, которые я, вероятно, должен рассматривать, как приказ.








