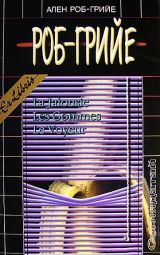
Текст книги "Ластики"
Автор книги: Ален Роб-Грийе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
5
И опять Уоллес в одиночестве шагает по улицам. Теперь он идет к доктору Жюару: как только что повторил Лоран, это первое, что ему надлежит сделать. Он добился помощи от муниципальной полиции: за почтой будет установлено наблюдение, а девушку вызовут на допрос. Но он понял, что у комиссара уже сложилось твердое мнение: никакой террористической организации не существует, Даниэль Дюпон сам лишил себя жизни. Как считает комиссар, это единственное правдоподобное объяснение; пусть отдельные «незначительные детали» пока не очень-то укладываются в эту версию, но все новые сведения, какие к нему поступают, сразу же превращаются в дополнительные доказательства самоубийства.
Вот, скажем, револьвер, который Уоллес нашел у профессора. Он того же калибра, что и пуля, предоставленная доктором; и в барабане как раз не хватает одной пули. А главное, в лаборатории комиссариата эксперты обнаружили, что револьвер заклинило. Этот факт имеет колоссальное значение: он объясняет, почему Дюпон после первой неудачной попытки не выстрелил во второй раз. Вместо того чтобы выпасть, гильза застряла в стволе; поэтому ее и не нашли на полу в кабинете. Что же касается не слишком разборчивых отпечатков на рукоятке револьвера, то их расположение не противоречит картине самоубийства, какой она видится комиссару: на гашетке отпечаток указательного пальца, как будто стреляли от себя, но локоть выставлен вперед, а запястье вывернуто так, чтобы дуло почти с абсолютной точностью могло оказаться между ребрами. Держать оружие таким образом весьма неудобно, и притом его еще надо очень крепко сжимать, иначе пуля отклонится от цели…
Оглушающий удар в грудь, и сразу же – жгучая боль в левой руке; и ничего больше, только тошнота, которую никак нельзя принять за смерть. Дюпон удивленно смотрит на револьвер.
Правая рука двигается свободно, голова ясная, все тело готово повиноваться ему. И все же он уверен, что слышал выстрел, и почувствовал, как в области сердца что-то разорвалось. Он должен был умереть; но вот он сидит за своим письменным столом, как будто ничего не произошло. Наверно, выстрел был неточным. Надо скорее покончить с этим.
Он снова поворачивает револьвер дулом к себе, прижимает его к жилету в том месте, где уже должно быть первое отверстие. Боясь, что потеряет сознание, он изо всех сил нажимает пальцем на собачку… Но на этот раз не происходит ничего, абсолютно ничего. Он судорожно сжимает револьвер, но все напрасно: оружие не срабатывает.
Он кладет револьвер на стол и начинает сгибать и разгибать пальцы, проверяя, действует ли рука. Все дело в револьвере, его заклинило.
Хотя старая Анна, которая убирает со стола внизу, и туговата на ухо, она, конечно, услышала выстрел. Что она сейчас делает? Вышла на улицу и зовет на помощь? Или поднимается по лестнице? Она всегда носит войлочные шлепанцы, ее шагов не слышно. Надо что-то сделать, пока она не пришла. Надо выйти из этого идиотского положения.
Профессор пробует встать; это удается ему без труда. Он даже может ходить. Он приближается к камину, отодвигает стопку книг, чтобы поглядеться в зеркало. Теперь он видит отверстие, оно расположено чуть выше, чем нужно; в жилете дыра, и он слегка запачкан кровью. Едва заметное пятнышко. Стоит только застегнуть пиджак – и ничего не будет видно. А лицо? Все в порядке, он выглядит как обычно. Он возвращается к столу, рвет письмо, которое перед ужином написал своему другу доктору Жюару, и бросает его в корзину…
Даниэль Дюпон сидит у себя в кабинете. Он чистит револьвер.
Он обращается с ним очень осторожно.
Убедившись, что механизм в порядке, он ставит магазин на место. Потом убирает тряпку в ящик. Человек он дотошный, любит, чтобы всякое дело было сделано на совесть.
Он делает несколько шагов по светло-зеленому ковру, который приглушает звуки. В этой небольшой комнате не очень-то походишь. Со всех сторон его окружают книги: право, социальное законодательство, политическая экономия… внизу слева, с краю стеллажа, стоят несколько книг, его собственный вклад в эти исследования. Не так уж много. Но все-таки там были две или три дельные мысли. И кто их понял? Тем хуже для них; это не причина, чтобы отчаяться и лишить себя жизни! На губах профессора появляется чуть презрительная усмешка: подумать только, какая чушь пришла ему в голову несколько минут назад, когда он держал в руке револьвер… А люди приняли бы это за несчастный случай.
Он останавливается у стола и бросает последний взгляд на письмо, которое только что написал одному бельгийскому ученому, проявившему интерес к его теориям. Это внятное, сухое письмо; в нем содержатся все необходимые разъяснения. Может быть, после ужина он добавит несколько теплых слов.
Перед тем как спуститься, надо положить револьвер на место, в ящик ночного столика. Профессор аккуратно заворачивает его в тряпку, которую незадолго перед тем по рассеянности убрал. Потом выключает большую лампу с абажуром на письменном столе. Семь часов вечера…
Когда он вернулся, чтобы дописать письмо, его уже ждал убийца. Лучше бы он оставил револьвер в кармане… Но кто сказал, что он осматривал револьвер именно сегодня? В этом случае он вынул бы застрявшую гильзу. Эксперты сказали только, что оружие «содержалось в хорошем состоянии», а недостающая пуля была выпущена «недавно», то есть уже после того, как револьвер чистили последний раз, а это могло быть несколько недель, даже несколько месяцев назад. Лоран понимает это так: Дюпон вычистил револьвер вчера и вчера же собирался им воспользоваться.
Уоллес думает, что надо было все же переубедить комиссара. Ведь его аргументы часто казались Уоллесу спорными, и наверняка была возможность доказать ему это. А Уоллес позволил втянуть себя в бесплодные дискуссии о вещах второстепенных или вообще не имеющих отношения к делу; когда же он захотел изложить схему преступления, то сделал это в таких неуклюжих выражениях, что история о тайном обществе и казнях, совершаемых в строго определенное время, получилась какой-то фантастической, беспочвенной, непродуманной.
Когда он говорил, то все больше отдавал себе отчет в том, насколько невероятно звучит его рассказ. Хотя, может статься, дело было не в словах: если бы он подбирал их тщательнее, результат получился бы тот же; достаточно было просто произнести их, чтобы у слушателя пропало желание принимать их всерьез. И под конец Уоллес перестал бороться с привычными штампами, которые первыми приходили ему на ум; они оказывались самыми подходящими.
К несчастью, он вдобавок видел перед собой ироническую улыбку комиссара, чье явное недоверие лишало его выкладки последних остатков правдоподобия.
Лоран стал задавать ему прямые вопросы. Кем были жертвы? Каково было их значение для государства? Не образовался ли вакуум с их внезапным и массовым исчезновением? Почему эта тема не обсуждается в гостиных, в газетах, на улицах?
На самом деле это объясняется очень просто. Речь идет о достаточно многочисленной группе людей, рассеянных по всей стране. Большинство из них не занимает никакой официальной должности; они не входят в правительство и тем не менее оказывают на него прямое и значительное влияние. Экономисты, финансисты, руководители промышленных консорциумов, профсоюзные лидеры, юристы, инженеры, технические работники всех областей, они предпочитают оставаться в тени и чаще всего ведут весьма скрытный образ жизни; их имена мало известны публике, и никто не узнаёт их в лицо. Но заговорщики действуют наверняка: они знают, что, устраняя этих людей, расшатывают экономико-политическую систему страны. До сих пор власти пытались скрыть всю серьезность происходящего; сведения о девяти убийствах не разглашались, отдельные преступления удалось выдать за «несчастный случай»; газеты молчат; общество как будто продолжает жить обычной жизнью. Поскольку в такой обширной и разветвленной структуре, как полиция, приходилось опасаться утечки информации, то Руа-Дозе решил поручить борьбу с террористами другому учреждению. Министр склонен больше доверять разведывательным службам, которые находятся под его контролем и сотрудники которых испытывают к нему личную преданность.
Уоллес с грехом пополам ответил на вопросы генерального комиссара, не раскрыв ему главных секретов. Но он сознает всю слабость своей позиции. Незаметные личности, тайно управляющие страной, преступления, о которых никто не слышал, несколько полиций за рамками полиции как таковой и, наконец, террористы, еще более загадочные, чем все остальное, – все это не может не насторожить здравомыслящего чиновника, который слышит об этом впервые… И, конечно, будь эта история от начала до конца вымышленной, каждый мог поверить в нее – либо не поверить – и, соответственно, дальнейшее развитие событий в ту или в другую сторону либо подтвердило бы ее, либо нет.
Розовый, упитанный Лоран, крепко сидящий в своем высоком кресле, опирающийся на платных осведомителей и на свою картотеку, выразил агенту такое категорическое недоверие, что тот на мгновение чуть не усомнился в собственном существовании: поскольку он принадлежал к одной из неизвестных комиссару организаций, то вполне мог быть такой же выдумкой министра с чересчур богатым воображением, что и пресловутый заговор. Во всяком случае, собеседник, похоже, относил его именно к этому разряду. Комиссар без обиняков сказал, что, по его мнению, происходит: у Руа-Дозе опять разыгралась фантазия; а если люди вроде Фабиуса склонны ему верить, это еще ничего не значит. Впрочем, другие его последователи пошли еще дальше: вот, например, некто Марша, впору опасаться, что сегодня в семь вечера он умрет от самовнушения…
Вторжение коммерсанта, разумеется, ни к чему не привело.
Уоллес ушел, унося с собой револьвер Дюпона. Лоран не пожелал оставить его у себя, он не знал, что с ним делать; раз Уоллес ведет следствие, так пусть собирает «вещественные доказательства». По просьбе комиссара в лаборатории револьвер снова привели в то же неисправное состояние, в котором он был обнаружен, то есть с застрявшей в стволе гильзой.
Уоллес шагает. Планировка улиц в этом городе не перестает его удивлять. От самой префектуры он шел той же дорогой, что и утром, но такое ощущение, словно от генерального комиссариата до клиники доктора Жюара сейчас идти гораздо дольше, чем в первый раз. Все улицы в этом квартале похожи друг на друга, и он не мог бы поручиться, что всегда сворачивал на одну и ту же. Он боится, что слишком отклонился влево и прошел параллельно той улице, которая ему нужна.
Он решает зайти в какой-нибудь магазин и спросить, как пройти на Коринфскую улицу. И заходит в маленький книжный магазин, где продают также писчую бумагу, карандаши и краски для детей. Продавщица встает ему навстречу:
– Что желаете, месье?
– Очень мягкий ластик, для рисования…
– Ну конечно, месье.
Развалины древних Фив.
На холме, господствующем над городом, в тени кипарисов, среди разбросанных обломков колонн, художник-любитель установил свой мольберт. Он работает старательно, каждую секунду переводя взгляд на натуру; очень тонкой кистью он прорисовывает множество деталей, почти незаметных для глаза, но на картине обретающих удивительную четкость. Должно быть, у него очень острое зрение. Можно пересчитать все камни, которыми выложен край набережной, каждый кирпич фронтона, каждую деталь кровли. Там, где ограда образует угол, живая изгородь блестит на солнце, и видны даже очертания листьев. Один кустик на заднем плане перерос остальные и выбился вверх, у него оголенные ветки, каждая из которых отмечена блестящей черточкой с освещенной стороны и черной черточкой – с теневой. Фотография была сделана зимой, в необычайно ясный день. Зачем бы этой молодой женщине фотографировать особняк?
– Очень красивый особняк, правда?
– Бог ты мой, ну конечно, раз вам так хочется.
Она не могла жить в этом доме до Дюпона: профессор прожил в нем двадцать пять лет и унаследовал его от дяди. Может быть, она была там прислугой? Уоллес вспоминает веселое, задорное лицо хозяйки магазина; ей самое большее лет тридцать – тридцать пять, привлекательная зрелость, округлившиеся формы, здоровый цвет лица, блестящие глаза, черные волосы, такой тип редко встречается в этой стране, она больше напоминает женщин из Южной Европы или с Балкан.
– Боже мой, ну конечно, раз вам так хочется.
С легким гортанным смешком, как будто он позволил себе какую-нибудь нескромную шутку. Его жена? Это было бы занятно. Разве Лоран не сказал, что она теперь держит магазин? Моложе мужа лет на пятнадцать… брюнетка с черными глазами… да это она?
Уоллес выходит из книжного магазина. Пройдя несколько метров, он оказывается у перекрестка. Перед ним – красное панно с надписью: «Для рисования, для школы, для работы…»
Это здесь он сошел с трамвая перед обедом. И сейчас он снова идет в направлении, указанном стрелкой, в магазин канцелярских принадлежностей на улице Виктора Гюго.
Глава четвертая
1
Если посмотреть прямо вниз, становится виден трос, ползущий по поверхности воды.
Перегнувшись через парапет, можно увидеть, как он появляется из-под арки моста, прямой и натянутый, толщиной вроде бы с большой палец; но на таком расстоянии, когда не с чем сравнить, легка ошибиться. Спиралевидные жгуты мелькают один за другим, создавая ощущение большой скорости. Сто оборотов в секунду или больше?… На самом деле эта скорость не так уж велика, с такой скоростью шагает занятой мужчина или движется буксир, тянущий за собой по каналу вереницу барж.
Под металлическим тросом – вода, зеленоватая, мутная, она все еще тихо плещется, хотя буксир уже далеко. Первая баржа еще не показалась из-под моста; трос пока еще ползет по поверхности воды, ничто не позволяет предположить, что он скоро кончится. Но буксир уже достиг следующего моста и, чтобы пройти под ним, начинает опускать трубу.
2
– Даниэль был грустный человек… Грустный и нелюдимый… Но он был не такой человек, чтобы кончать жизнь самоубийством, – совсем не такой. Мы с ним прожили около двух лет, в этом особняке на улице Землемеров (молодая женщина показывает рукой куда-то на восток – а может быть, всего лишь на фотографию, стоящую в витрине, по ту сторону перегородки), и за все это время я ни разу не видела, чтобы он упал духом или мучился сомнениями. И не думайте, что он скрывал свои чувства: в этом спокойствии выражался его характер.
– Вы только что сказали, что он был грустным человеком.
– Да. Наверно, это не то слово. Он был не грустным… То есть он, конечно, не был веселым: стоило войти в садовую калитку, как веселье теряло смысл. А значит, и грусть тоже, верно? Не знаю, как вам сказать… Скучный? И это неверно. Мне нравилось его слушать, когда он мне что-нибудь объяснял… Нет, жизнь с Даниэлем была невыносима потому, что он был одинок, безнадежно одинок. Он был одинок и не страдал от этого. Он не был создан ни для брака, ни для какой-либо иной привязанности. У него не было друзей. В университете студенты были в восторге от его лекций, а он даже не различал их по лицам… Почему он на мне женился?… Я тогда была очень молода и испытывала перед этим зрелым мужчиной что-то вроде восхищения; все вокруг меня восхищались им. Меня воспитал дядя, к которому Даниэль временами приходил ужинать… Не знаю, зачем я вам это рассказываю, вам ведь совершенно неинтересно.
– Ну что вы, что вы, – возражает Уоллес – Наоборот, нам нужно знать, следует ли принимать в расчет версию самоубийства; вдруг у него были причины лишить себя жизни, или же он способен был сделать это без всяких причин.
– О нет, нет! Любой, даже самый незначительный его поступок всегда имел причину. Если вначале казалось, что ее нет, позже становилось ясно: причина все-таки была, определенная, тщательно продуманная, учитывавшая все стороны дела. Даниэль все решал заранее, и его решения всегда были логичны; и разумеется, бесповоротны… Недостаток фантазии, если хотите, но в небывалой степени… В общем, я могла поставить ему в вину лишь его достоинства: ничего не делать, не подумав, никогда не менять решений, никогда не ошибаться.
– Но ведь вы сказали, что его женитьба была ошибкой?
– Да, конечно, в своих отношениях с людьми он мог допустить просчеты. Можно сказать даже, он только и делал, что допускал просчеты. Но в конечном счете прав оказывался он: его ошибка состояла лишь в том, что он считал всех такими же последовательными, как он сам.
– Быть может, у него оставался горький осадок от этого непонимания?
– Вы не знаете, что это был за человек. Абсолютно непоколебимый. Он был уверен, что прав, и этого ему было достаточно. Если другим нравилось носиться с какими-то бреднями, что ж, тем хуже для них.
– К старости характер у него мог измениться; вы давно его не видели…
– Напротив, мы с тех пор много раз виделись: он был такой же, как раньше. Говорил со мной о книгах, которые писал, о жизни, которую вел, о тех немногих знакомых, с которыми еще виделся. По-своему он был счастлив: во всяком случае, безмерно далек от мысли покончить с собой. Он жил отшельником, в обществе старой глухой экономки и своих книг, и это его вполне устраивало… Его книги… его работа… только этим он и жил! Вы видели этот дом, мрачный и тихий, выстеленный коврами, полный разных старомодных штучек, к которым нельзя было прикасаться. Стоит переступить порог – и будто цепенеешь, чувствуешь, что не хватает воздуха, и уже не хочется ни шутить, ни смеяться, ни петь… Мне было двадцать лет… Казалось, Даниэлю там было хорошо, и он не понимал, что у кого-то может быть другое мнение. Впрочем, он почти все время проводил в кабинете, и никто не имел права его беспокоить. Даже когда мы только что поженились, он безвыходно сидел там и отлучался лишь три раза в неделю, читать лекции. А вернувшись, сразу же поднимался туда и закрывал за собой дверь; бывало, что он просиживал там до глубокой ночи. Я видела его только за обедом и ужином, он спускался в столовую ровно в двенадцать и в семь вечера и никогда не опаздывал.
– Когда вы мне сейчас сообщили о его смерти, у меня было такое странное чувство. Не знаю, как это выразить… Была ли разница между живым Даниэлем и мертвым? В нем и раньше было так мало жизни… Нельзя сказать, что ему не хватало самобытности или силы воли… Но жизни в нем не было никогда.
– Нет, я еще с ним не говорил. Я собираюсь пойти к нему сейчас.
– Как его зовут?
– Доктор Жюар.
– Надо же… Это он делал операцию?
– Да.
– Хм… Занятно.
– Он что, неважный хирург?
– О нет, нет! Думаю, нет.
– Вы его знаете?
– Только по имени… Я думала, он гинеколог.
– И давно это случилось?
– В городе об этом стали поговаривать незадолго до начала…
У него вдруг возникает неприятное чувство, что он зря теряет время. Когда его осенило, что хозяйка магазина на улице Виктора Гюго – возможно, бывшая жена Дюпона, это совпадение показалось ему каким-то чудом; он чуть не бегом вернулся в магазин, и с первых же слов его догадка подтвердилась. Он очень обрадовался, подумал, что благодаря этому нежданному везению его расследование должно ощутимо продвинуться. Между тем тот факт, что эта дама случайно попалась ему по дороге, нисколько не меняет характер сведений, которые она может предоставить: если бы Уоллес всерьез предполагал, что из нее можно выудить нечто действительно важное, он бы раздобыл адрес бывшей супруги Дюпона еще утром, когда узнал от Лорана о ее существовании. Но тогда он счел более срочным допросить других – например, доктора Жюара, до которого он пока так и не добрался.
Теперь Уоллес понимает, что его надежды были беспочвенны. Он немного растерян, дело не только в несбывшихся надеждах, неприятно, что он не сообразил этого раньше. Сидя в задней комнате магазина, лицом к лицу с привлекательной молодой женщиной, он пытается понять, чего искал здесь, быть может, сам того не сознавая.
А еще ему приходит в голову, что он уже может не застать доктора в клинике. Когда он встает и извиняется за то, что у него нет времени продолжать беседу, его снова поражает этот гортанный смешок, словно подразумевающийся какую-то связь между ними. Хотя безобидная фраза, которую он произнес, не содержала ничего двусмысленного… Озадаченный Уоллес старается ее вспомнить, но это ему не удается: «Надо, чтобы я… Надо будет…»
Звон дверного колокольчика обрывает эти изыскания, словно будильник. Но вместо того, чтобы освободить его, эта неожиданность лишь оттягивает его уход; хозяйка магазина исчезает, сказав с улыбкой:
– Минуточку, пожалуйста. Мне надо обслужить покупателя.
«К сожалению, мадам, я вынужден… Минуточку, пожалуйста, мне надо… Мне скоро надо будет идти… Мне скоро надо… Мне скоро надо…»
Он не давал повода для такого смеха.
Уоллес садится снова, не зная, чем себя занять до возвращения хозяйки. Через неплотно прикрытую дверь он слышал, как она с профессиональной любезностью приветствует входящего, но слов не разобрать: комната, где находится Уоллес, отделена от магазина запутанными коридорами и переходами. Больше он не слышит ничего. Наверно, покупатель разговаривает не очень громко, а молодая женщина молчит – или понизила голос. Но зачем бы ей понижать голос?
Невольно насторожившись и напрягая слух, Уоллес пытается представить себе происходящее. Перед его глазами одна за другой мелькают несколько сцен, преимущественно немых или сопровождаемых таким тихим шепотом, что слова пропадают, от этого сцены кажутся еще более неестественными, карикатурными, даже гротескными. Вдобавок все они отличаются столь вопиющей неправдоподобностью, что даже автор вынужден признать их скорее бредом, чем разумной гипотезой. На мгновение он пугается: ведь суть его профессии, напротив, именно в том, чтобы… «Это трудная работа… Трудная и неблагодарная… Но раз мне вас рекомендовали, то я все-таки возьму вас…»
Ладно, ничего страшного: если бы речь шла о чем-то серьезном, то есть относящемся к расследованию, он, конечно, не позволил бы своей фантазии так разыграться. У него нет причин интересоваться, о чем сейчас говорят в магазине.
Но он поневоле прислушивается, вернее, пытается вслушаться, потому что не слышит больше ничего, кроме невнятных звуков, доносящихся неизвестно откуда… Во всяком случае, ничего похожего на легкий гортанный смешок, такой заразительный, дразнящий…
Вечер. Даниэль Дюпон возвращается с лекции. Опустив глаза, он поднимается по лестнице решительной походкой, в которой едва угадывается усталость. Дойдя до площадки второго этажа, он привычно направляется к кабинету… И вздрагивает, услышав позади легкий гортанный смешок, приветствующий его приход. На лестничной площадке нет освещения, и в полутьме он не заметил привлекательную молодую женщину, ожидающую его у открытой двери спальни… этот воркующий смех, который словно исходит от всего ее тела… дразнящий, ласкающий… это его жена.
Уоллес прогоняет от себя и это видение. Дверь спальни закрывается за слишком чувственной супругой. Призрак Даниэля Дюпона продолжает свой путь к кабинету, опустив глаза, уже протянув руку к дверной ручке и готовясь ее повернуть…
По-прежнему неясно, что происходит в магазине. Уоллесу кажется, что дело затянулось, и он машинально приподнимает край рукава, желая взглянуть на часы. Но тут же вспоминает, что часы остановились: действительно, на них все еще половина восьмого. Переводить стрелки бесполезно, часы не пойдут.
Напротив, на комоде, справа и слева от флиртующей парочки из фарфора без глазури, стоят фотографии в рамках. На той, что слева, строгое лицо мужчины в годах; он снят в три четверти, почти в профиль, и как будто краем глаза наблюдает за статуэткой – если только взгляд его не направлен на вторую фотографию, сделанную значительно раньше, о чем свидетельствует ее желтизна и то, как старомодно одеты люди на ней. Маленький мальчик в костюме первопричастника глядит снизу вверх на высокую женщину в пышном платье, со множеством украшений и в огромной шляпе, как было принято в прошлом веке. Очевидно, это мать мальчика, совсем молодая мать, на которую он смотрит с каким-то робким восхищением – насколько можно об этом судить по выцветшей фотографии, где лица во многом утратили живость. Вероятно, эта женщина приходится матерью также и хозяйке дома; а строгий господин – возможно, Дюпон. Уоллес даже не знает, как он выглядел.
Если всмотреться, фотография освещается едва заметной улыбкой, и трудно сказать, где она рождается – в глазах или на губах… А под другим углом выражение лица у этого человека почти игривое, есть в нем что-то вульгарное, самодовольное, отталкивающее. Даниэль Дюпон возвращается с лекции. Он поднимается по лестнице тяжелыми шагами, в которых все же угадывается торопливость. Дойдя до второго этажа, он поворачивает налево, к спальне, и толкает дверь, не дав себе труда постучать… Но сзади, на пороге кабинета, вдруг возникает фигура юноши. Раздаются два револьверных выстрела. Дюпон, даже не вскрикнув, падает на ковер в коридоре.
В дверном проеме появляется молодая женщина.
– Я не заставила вас ждать слишком долго? – спрашивает она своим грудным голосом.
– Нет, нет, – отвечает Уоллес, – но теперь мне пора бежать.
Жестом она останавливает его:
– Подождите минутку! Знаете, что он купил? Угадайте!
– Кто «он»?
Покупатель, разумеется. И купил он, конечно же, ластик. Что она находит в этом необычного?
– Покупатель, который только что вышел!
– Не знаю, – говорит Уоллес.
– Почтовую открытку! – восклицает молодая женщина, – Он купил почтовую открытку с фотографией особняка, ту, что вы взяли у меня сегодня утром!
На этот раз гортанный смех длится бесконечно.
Когда она зашла в магазин, там был маленький человечек болезненного вида, бедно одетый, в грязной шляпе и длинном плаще зеленоватого оттенка. Он не сказал сразу, что ему нужно, а только пробормотал сквозь зубы «добрый день». Он обвел глазами помещение и, спустя чуть больше времени, чем на самом деле требуется на это, заметил вертящийся стенд с открытками, которые принялся спокойно разглядывать. Он произнес что-то вроде:
– … выбрать открытку…
– Пожалуйста, – ответила хозяйка магазина.
Ей не нравились манеры посетителя, и она уже собиралась под каким-нибудь предлогом позвать Уоллеса, чтобы показать, что она не одна, но тут он вдруг заинтересовался какой-то открыткой, взял ее в руки и внимательно рассмотрел. Затем, не сказав больше ни слова, положил на прилавок монету (цена открытки была указана на стенде) и ушел со своим трофеем. Это был особняк на улице Землемеров, «дом, в котором было совершено преступление»! Странный покупатель, правда?
Но когда Уоллес смог наконец выйти из магазина, любителя фотографий и след простыл. Улица Виктора Гюго безлюдна как справа, так и слева. Невозможно установить, в какую сторону направился незнакомец.
А потому Уоллес идет в клинику Жюара или, по крайней мере, считает, что идет туда, ведь он не спросил дорогу у молодой женщины, а возвращаться к ней почему-то не хочет.
Только он успевает свернуть на поперечную улицу, как замечает впереди, у ближайшего перекрестка, коротышку в зеленом плаще: тот стоит посреди тротуара, уставившись на почтовую открытку. Уоллес направляется к нему, еще не решив в точности, что делать; но коротышка, очевидно заметив его, трогается с места и вскоре исчезает за поворотом направо. Уоллес ускоряет шаг и через несколько секунд оказывается на перекрестке. Направо тянется длинная, прямая, как стрела* улица, на которой нет ни магазина, ни козырька над дверью, ни одного места, где можно было бы спрятаться. Улица совершенно безлюдна, если не считать мелькнувшую в дальнем конце и сразу исчезнувшую высокую мужскую фигуру в плаще.
Уоллес идет до следующего перекрестка, зорко глядя по сторонам. Никого нет. Коротышка испарился.








