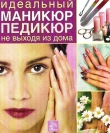Текст книги "Искусство путешествовать"
Автор книги: Ален де Боттон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
VI. О возвышенном
Место: Синайская пустыня
Гиды: Эдмунд Берк, Иов
1
Давний поклонник пустынь, которого всегда манили к себе фотографии американского Запада и не оставляли равнодушными имена, данные людьми великим пустыням – Мохаве, Калахари, Такламакан, Гоби, – я взял билет на чартерный рейс на израильский курорт Эйлат, с тем чтобы побывать в Синайской пустыне. В самолете я беседовал с соседкой – молодой австралийкой, зарабатывавшей на жизнь службой в охране эйлатского «Хилтона», – и читал Паскаля.
«Задумываясь над тем… как мало места в пространстве я занимаю, как мал знакомый мне мир и как легко он теряется в бесконечном множестве миров и пространств, о которых я ничего не знаю и в которых ровным счетом ничего не известно о моем существовании [lʼinfinie inmensite des espaces qui jʼignore et qui mignorent], я пугаюсь и прихожу в изумление от того, что я там, где я есть, а не где-нибудь в другом месте, нет никаких предпосылок к тому, чтобы я был именно там, где я сейчас, этому нет и не было никаких причин. Кто поместил меня именно сюда?» [11]11
Паскаль. Мысли, 68.
[Закрыть]
Вордсворт учил нас тому, как нужно путешествовать, как получать от общения с природой, от созерцания пейзажей эмоции, которые окажут благотворное воздействие на наши души. Я же отправился в пустыню для того, чтобы научиться чувствовать собственную малость.
Обычно чувствовать свою малость и ничтожность бывает не слишком приятно, особенно когда о ней тебе напоминает швейцар в гостинице или же не вовремя проведенное сравнение твоей жизни с тем, чего добиваются и что совершают настоящие герои. Тем не менее есть и другая – гораздо менее унизительная – форма ощущения собственной малости. Некоторое подобие этого состояния можно ощутить, стоя перед такими полотнами, как «Скалистые горы. Пик Лендера» (1863) Альберта Бирштадта, «Лавина в Альпах» (1803) Филиппа Джеймса де Лоутербурга, или же перед «Меловыми скалами на острове Рюген» (1820) Каспара Давида Фридриха. Чем же притягивают, что дают нам эти бескрайние пустынные пространства, чем привлекает дикий пейзаж и пересеченная местность?

Альберт Бирштадт. Скалистые горы, «Пик Лендера», 1863 г.
2
Через два дня после начала путешествия группа из двенадцати туристов, к которой я присоединился, добралась до совершенно безжизненного участка Синайской пустыни – уединенной долины без единого деревца или кустика, без травы, без воды, без животных. Все дно этой долины было усыпано камнями и осколками скал, словно какой-то разгневанный великан сбросил их со склонов окрестных гор. Сами горы напоминали обнаженные Альпы, и нагота позволяла определить их геологическое происхождение, обычно скрытое под покровом почвы и хвойных лесов. Разломы и трещины в склонах свидетельствовали о тяжести прошедших тысячелетий. Геологические разрезы обрывов уходили в непредставимую глубь времен. Тектонические силы, бушевавшие когда-то, порвали гранит, как льняное полотно. Горы уходили вдаль во все стороны, до самого горизонта. Очень нескоро добрались мы до места, где Южносинайское плато переходит в безликое, раскаленное, как сковорода, каменистое пространство, которое бедуины называют Аль Тих – Пустыней Странствий.
3
Не так много эмоций, которые мы испытываем, попадая в разные незнакомые места, можно выразить буквально одним словом. Мы вынуждены нагромождать штабеля слов для того, чтобы выразить всю гамму эмоций, которые вызвало у нас, например, созерцание сгущающихся осенних сумерек или же очаровательного, гладкого, как стекло, озерца на лесной поляне.
Тем не менее примерно с начала восемнадцатого века широкое распространение получило слово, с помощью которого, как оказалось, можно довольно точно передать, что человек испытывает, заглядывая с обрыва в пропасть или взирая на ледник, созерцая ночное небо или глядя на усеянную каменными глыбами пустыню. В таких местах мы испытываем чувство возвышенного и, рассказывая о своих путешествиях, можем рассчитывать на то, что, употребив это слово, будем поняты правильно.
Само это слово было впервые использовано в научном тексте в греческом трактате «О возвышенном», составленном во втором веке нашей эры и приписываемом философу Лонгину. Впрочем, оно достаточно долго прозябало в неизвестности и бесполезности – до тех пор, пока трактат не был заново переведен на английский в 1712 году. Эта публикация вызвала в то время большой интерес у критиков. Разумеется, у авторов разных комментариев встречались различные оценки и версии трактовки термина. Тем не менее в большинстве случаев в главном они сходились, а в отдельных случаях просто слово в слово повторяли размышления друг друга. В итоге было решено выделить особую группу пейзажей и ландшафтов (до того никак не связывавшихся друг с другом), используя в качестве классифицирующего признака их масштабность, опасность, безлюдность и пустынность. Созерцание подобных территорий и пребывание в таких местах объявлялось времяпрепровождением не только приятным, но и полезным для человека с точки зрения его морального самосовершенствования. Таким образом, ценность пейзажа впервые ставилась в зависимость не только от сугубо формальных эстетических критериев (гармоничность цветовой гаммы или же линейная и ритмическая упорядоченность) или от утилитарно-экономических соображений по возможности практического использования того или иного участка, но и с учетом присущей отдельным ландшафтам способности вызывать в человеческой душе тягу к возвышенному.

Филипп Джеймс де Лоутербург. Лавина в Альпах, 1803 г.
В своем «Эссе об удовольствиях, доставляемых воображением», Джозеф Аддисон писал о «восхитительной оторопи и изумлении», которые были им испытаны в момент созерцания «перспективы засеянных полей, бескрайних просторов необработанной земли, необъятных вздыбленных гор, обрывистых скал, ущелий и больших водных пространств». Гильдебранд Джейкоб в работе под названием «О возвышении разума посредством возвышенного» предложил список мест и явлений природы, в наибольшей степени вызывающих у созерцающего их человека столь высоко ценимые эмоции и мысли. С его точки зрения, это в первую очередь океаны (как в штормовую, так и в безветренную погоду), заходящее солнце, ущелья, пещеры и гроты, а также горы в Швейцарии.
Получив теоретическую базу, путешественники стали один за другим совершать поездки за новым типом впечатлений. Так, в 1739 году поэт Томас Грей совершил едва ли не первое путешествие, осознанно организованное как сознательный поиск возвышенного и возвышающего в Альпах. После очередного пешего перехода он писал: «В ходе нашего недолгого путешествия в Гранд-Шартрез я останавливался едва ли не каждые десять шагов и издавал восторженные восклицания. В этих местах нет, пожалуй, ни единого ущелья, ни единой горной реки или же скалы, не преисполненных поэтичности и какого-то почти религиозного величия».

Катар Дэвид Фридрих. Меловые скалы на острове Рюген, ок. 1820 г.
4
Южный Синай на рассвете. Что я здесь чувствую? Как подействует на меня эта пустыня? Ландшафт представляет собой долину, созданную 400 миллионов лет назад и принявшую современный вид в результате длительных эрозионных процессов, воздействовавших на нависающую над ней гранитную гору высотой 2300 метров. Эрозия расчертила склоны горы целым веером узких крутых каньонов. Перед лицом такого величия и создававших его могучих сил природы человек действительно кажется ничтожной пылью. Встреча с возвышенным происходит как бы случайно. Она приятно пьянит – несмотря на то, что человек в этот момент, как никогда прежде, осознает свою слабость и мимолетность своего существования по сравнению с величием и силой природы, с возрастом и размерами вселенной.
В моем рюкзаке – фонарик, походная шляпа от солнца и томик Эдмунда Берка. В двадцать четыре года, закончив изучать юриспруденцию в Лондоне, Берк написал трактат под названием «Философское исследование происхождения наших представлений о возвышенном и прекрасном». Его суждения были весьма категоричны: он заявлял, что чувство возвышенного неразрывно связано с ощущением собственной ничтожности. Многие пейзажи, несомненно, красивы: цветущие по весне луга, речные долины, дубравы, полевые цветы (особенно ромашки и маргаритки). Но они, с точки зрения Берка, не возвышенны. «Идеи прекрасного и возвышенного часто смешиваются, – сетовал он в своей работе, – оба эти понятия зачастую применяются равноценно для описания совершенно различных мест и явлений, порой абсолютно противоположной природы». Нотки недовольства и даже раздражения слышатся в рассуждениях молодого философа, когда он пишет о людях, с восхищением взиравших на Темзу в районе Кью и называвших это зрелище возвышенным. Он уверен, что пейзаж может вызывать возвышенные чувства только в том случае, если в нем скрыта сила, несопоставимая с возможностями человека; сила, пусть не враждебная, но таящая опасность. Возвышенные места бросают вызов нашей воле, пытаются подавить ее. Берк пытается проиллюстрировать свои аргументы, приводя, скажем, аналогию между волом и буйволом: «Домашний бык или, например, вол – животное, безусловно, обладающее большой силой; тем не менее это мирное покорное существо, работящее и абсолютно не опасное, а следовательно, образ вола никак нельзя назвать величественным. Бык же дикий – буйвол – тоже невероятно силен, но его сила совсем другого рода. Она может быть слепой и зачастую разрушительной… Образ буйвола, таким образом, воспринимается как олицетворение чего-то величественного и по-настоящему мощного, неуправляемого. Не зря этот образ часто используется в возвышенных описаниях и метафорах».
Ландшафты тоже бывают разных типов. На те пейзажи, что можно отнести к категории «воловьих», Берк насмотрелся с юности – учился он в интернате Квейкер, расположенном в городке Баллитор в графстве Килдэр в тридцати милях на юго-восток от Дублина. Частную школу окружали фермы, огороды, поля, рассеченные живыми изгородями, и сады. Позднее пришел черед ландшафтов, причисленных Берком к категории «бычьих», или «буйволовых». В своей работе Берк перечисляет их характерные признаки: простор, безлюдность и, быть может, даже безжизненность, часто мрачность и, несомненно, оптическая бесконечность, эффект которой возникает благодаря единообразию и многократному повторению составляющих подобный ландшафт элементов. Синайская пустыня, конечно, входит в число таких мест.
5
Но при чем здесь удовольствие? Зачем искать место, где будешь чувствовать себя подавленным и ничтожным, и как это соотносится с общепринятыми представлениями о приятных прогулках и путешествиях? Зачем, спрашивается, уезжать из комфортного курортного Эйлата, в компании таких же любителей пустынь тащиться пешком по жаре милю за милей с тяжелым рюкзаком за спиной по берегу залива Акаба – и все ради того, чтобы добраться до такого места, где нет ничего, кроме камней и безмолвия, где от солнца приходится прятаться в скудной тени, отбрасываемой огромными валунами? Почему человек может с восторгом, а не с унынием взирать на гигантские гранитные плиты, россыпи раскаленных каменных осколков и застывшие лавовые потоки, уходящие вдаль, к самому горизонту, где суровые вершины окрестных гор сливаются с жестким синим небом?

Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что не все, что оказывается сильнее нас, обязательно является враждебным. То, что бросает вызов нашей воле, то, что ей неподвластно, способно вызывать гнев и отторжение, но может и внушать уважение и почтение. Зависит это от того, проявляет себя могучая сила благородно или же нагло и недостойно. Мы осуждаем хамство швейцара, который бросает нам вызов, но благоговейно относимся к вызову, который бросает путешественнику скрытая в дымке непокоренная вершина. Нас унижает то, что сильно и при этом недобро, но мы восхищенно смиряемся перед тем, что сильно и благородно. Применяя и даже чуть расширяя предложенную Берком аналогию с животными, можно сказать, что буйвол может вызывать ассоциации с возвышенным, а пиранья – нет. Критерий оценки кроется, мне кажется, в поведенческих мотивах: силу пираньи мы воспринимаем как что-то хищное, низкое и коварное, направленное к тому же непосредственно против нас, тогда как бык воспринимается как воплощение силы прямодушной, бесхитростной и обезличенной.
Даже не находясь в пустыне, мы очень часто и порой остро ощущаем собственную малость. Виной тому – и поведение окружающих, И наши собственные промахи и ошибки. Каждый из нас постоянно рискует испытать унижение. Мы часто ощущаем непреодолимое давление на нашу волю, часто страдаем из-за очередного пережитого унижения. При этом возвышенные пейзажи вовсе не пытаются указать на нашу незначительность и несоразмерность их величию. Наоборот – и в этом их главная тайна – пейзажи каким-то образом умеют помочь увидеть нашу привычную слабость по-новому, не так обидно и унизительно, как раньше. Возвышенные ландшафты преподают нам тот же урок, что и повседневная среда обитания, вот только в отличие от обычной жизни, делающей это порой предательски подло и унизительно, им удается продиктовать то же самое высоким слогом, в самых благородных категориях. Они напоминают о том, что мир сильнее нас, что мы слабы, уязвимы и преходящи, что нам остается лишь смириться с ограниченностью своих возможностей, что мы должны отступать перед натиском более могучих сил, чем те, что подвластны нам.
Вот тот урок, что начертан на камнях пустынь и на полярных ледниках. Он начертан столь величественно и прекрасно, что, возвращаясь из таких мест, мы чувствуем себя не подавленными, но вдохновленными – вдохновленными тем, что сильнее нас, тем, что неподвластно нашей воле. Порой это чувство почтительного благоговения даже переходит в желание поклоняться могучим стихиям.
6
Человек не придумал ничего и никого более могучего, чем Бог. Вот почему в пустыне ему зачастую приходят в голову мысли о верховном божестве-создателе. Горы и долины одним фактом своего существования напоминают, что мир был создан не нами – не нашими усилиями и не по нашей воле. Создавали его силы, более могучие, чем те, что подчинили себе мы, создавали давно, задолго до нашего появления на свет. По воле этих сил мир, скорее всего, будет существовать и дальше – несоизмеримо долго по сравнению с нашей жизнью (о чем, по правде говоря, легко забыть, созерцая цветочки или сидя с глубокомысленным видом в придорожном кафе).
Бог, говорят, немало времени провел на Синайском полуострове. Наиболее известен эпизод его пребывания в центральном – пустынном – районе, где он на протяжении двух лет наблюдал за группой весьма вспыльчивых и раздражительных евреев, осмелившихся сетовать на недостаток пищи и даже проявивших слабость и поддавшихся чарам чужеземных богов. «Господь пришел от Синая» (Второзаконие. 33:2), – сказал Моисей незадолго до смерти. «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась», – поясняет Исход (19:18). «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то], народ отступил и стал вдали. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас» (Там же. 20:18–20).
На самом же деле выдержки из библейской истории могут лишь усилить впечатление, которое практически неизбежно возникнет у путника, разбившего лагерь в Синайской пустыне, – ощущение, что к созданию этого величия приложило руку какое-то высшее существо, обладающее свободой воли, упорством и могуществом, несравнимым с тем, что даровано людям. Это «нечто» явно обладает разумом, недоступным «природе» как таковой. Это то самое «нечто», для которого слово «Бог» не выглядит неподходящим – даже для самого секуляризированного сознания. Все утверждения, что создавать красоту дано лишь естественным, а не «сверхъестественным» силам, кажутся не слишком убедительными, когда стоишь ночью в каменистой пустыне, в глубоком ущелье, со дна которого вздымаются к небу глыбы песчаника, образующие гигантский алтарь, а над тобой висит тонкий серебристый серп луны.

Писатели и мыслители, первыми описывавшие понятие возвышенного, так или иначе связывали эту категорию с религией:
Джозеф Аддисон, «Эссе об удовольствиях, доставляемых воображением» (1712):
«Обширное пространство совершенно естественным образом пробуждает во мне мысли о Всемогущем Создателе».
Томас Грей, «Письма» (1739):
«Существуют такие виды и панорамы, которые без каких бы то ни было аргументов могут обратить в веру любого атеиста».
Томас Коул, «Эссе об американских пейзажах» (1835):
«В окружении этих пейзажей, преисполненных чувства одиночества, ландшафтов, созданных природой и не тронутых рукой человека, невольно появляются ассоциации, ведущие к Богу Создателю: эти красоты – несомненно, его творения, и, созерцая их, человеческий разум непроизвольно обращается к мыслям о вечном».
Ральф Уолдо Эмерсон, «Природа» (1836):
«Благороднейшая функция природы состоит в подтверждении собою бытия Бога».
Нет ничего удивительного в том, что увлечение Запада ландшафтами, пробуждающими возвышенные чувства, довольно точно совпало с ослаблением позиций традиционных форм религии и веры в Бога. Величественные безлюдные пейзажи давали путешественникам возможность испытать те трансцендентные ощущения, которые уже не порождали в их душах ни городская суета, ни пригородные антропогенные ландшафты. Возвышенные пейзажи давали им ощущение невидимой связи с некой могучей силой – силой высшего порядка, причем возникало такое ощущение даже у тех, кто с гордостью и с полным на то правом заявлял, что освободил собственный разум от необходимости сверять свои суждения и ценности с библейскими текстами и организованными и формализованными проявлениями религиозного чувства.

7
Связь между Богом и возвышенными ландшафтами лучше всего прослеживается в одной из книг Ветхого Завета. Обстоятельства, в которых раскрывается это взаимодействие, весьма своеобразны: благочестивый и праведный, но глубоко несчастный человек взывает к Богу, вопрошая, почему жизнь его полна мучений и страданий. Бог же в ответ предлагает ему обозреть горы и пустыни, реки и ледники, океаны и небеса. Нечасто доводилось этим величественным пейзажам держать ответ перед человеком, к тому же поставившим свой вопрос столь прямолинейно и четко.
В начале Книги Иова, которую Эдмунд Берк называл самой возвышенной частью Ветхого Завета, мы знакомимся с Иовом – состоятельным и набожным человеком из земли Уз. Было у него семь сыновей, три дочери, семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослов. Все желания его исполнялись, а добродетельность вознаграждалась по заслугам. Но в один прекрасный день на Иова обрушиваются страшные несчастья: сабиняне похищают его волов и ослов, в грозу от молнии погибают отары, халдеи угоняют верблюдов. Налетевший из пустыни ураган разрушает дом старшего сына Иова – мужчина погибает со всей своей семьей. Страшные язвы покрывают все тело Иова с ног до головы. Сидя на развалинах своего дома, Иов пытается соскрести зудящие, болезненные язвы черепком от разбитого сосуда и плачет.
Почему же такие страшные несчастья обрушились на Иова, за что он был так наказан? Его друзьям ситуация представлялась предельно ясной: по их единодушному мнению, Бог покарал их знакомого за грехи. Вилдад Савхеянин заявил, что Бог не убил бы детей Иова, живи они (да и он сам) праведной жизнью. «Видишь, Бог не отвергает непорочного», – заявил Иову Вилдад. Софар же Наамитянин и вовсе «припечатал» пострадавшего, сказав, что следовало бы не роптать, а благодарить Бога за то, что тот так мягко с ним обошелся: «…тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению».
Иов не мог принять такие слова, не мог смириться с такой оценкой своей жизни. Назвав речи друзей «глаголом праха» и «речами глины земной», он обратился с вопросом к самому Богу: почему так получилось, что на него, доброго набожного человека, обрушились несчастья?
Это, пожалуй, один из самых острых и даже неприятных вопросов из всех, что задаются Богу в книгах Ветхого Завета. И вот как разгневанный Бог ответил Иову из глубины налетевшей из пустыни бури:
Глава 38
2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?
3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
24 По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?
25 Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии?
29 Из чьего чрева выходит лед и иней небесный, – кто рождает его?
33 Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?
34 Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?
Глава 40
4 Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?
Глава 39
26 Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень?
Глава 40
20 Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?
Получив запрос Иова насчет того, почему он так страдает несмотря на всю свою праведность, Бог привлекает внимание вопрошающего к величественным и мощным природным явлениям. По мысли Бога, человеку не следует удивляться, что что-то идет не так, как ему хочется, ибо мир сильнее его. Если же даже что-то задуманное или желаемое осуществилось, не нужно пытаться понять, почему произошло именно так, поскольку человеку не дано охватить разумом логику мироздания. Смирись с тем, что больше тебя, прими то, что не в силах постичь. С точки зрения Иова, порядок вещей в мире может казаться алогичным, но это вовсе не означает, что мир нелогичен per se. Жизнь человека вовсе не является мерой всех вещей, а для того чтобы не забывать о человеческой слабости и ничтожности, нужно почаще вспоминать возвышенные места или посещать их.
В этом высказывании содержится и чисто религиозный смысл. Бог заверяет, что Иову всегда найдется место в Его сердце, – даже когда тому кажется, что Создатель забыл о нем, что мир на него ополчился и что происходящее идет ему только во вред. Когда божественная мудрость оказывается непостижимой, праведникам – сколь бы тяжело ни было им преодолеть ограниченность собственного восприятия и немощность разума – надлежит продолжать верить в Бога и в величайшую справедливость его неисповедимых планов по поводу будущего этого мира.
8
Исполненный сугубо религиозного смысла ответ на мольбы Иова ни в коей мере не умаляет значимость изложенного сюжета для атеистически настроенных умов. Посредством собственного величия возвышенные пейзажи неизменно напоминают, что, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями и трудностями, не нужно стенать и сокрушаться по поводу своей слабости, что не все и не всегда человек – даже самый мудрый и опытный – способен понять и объяснить. Ветхозаветный Бог знал, что делал, когда одергивал человечество, возомнившее о себе слишком много, заставляя его вновь и вновь сталкиваться с могучими силами и загадками природы – с горами, с бесконечными далями, с пустынями.
Когда мир оказывается несправедлив по отношению к нам или непостижим для нашего разума, возвышенные места напоминают о том, что удивляться этому, собственно, не приходится. Мы все – игрушки в руках сил, что заполнили водой океаны и вытесали из земной тверди горы. Возвышенные места деликатно подводят нас к пониманию истин, о которых привычная жизнь напоминает порой обидно и жестоко. И дело вовсе не в том, что природа хочет принизить нас и роль нашего существования. Человеческая жизнь действительно важна, прекрасна и разнообразна, а величественные безлюдные пейзажи, которые природа предлагает нам созерцать, являются лишь деликатным, едва воспринимаемым напоминанием обо всем, что сильнее и значительнее нас. Если мы будем чаще бывать в таких местах, то, быть может, сумеем научиться с большим достоинством и смирением принимать непредсказуемые события, которые порой немало осложняют нам жизнь и рано или поздно вновь обратят в прах каждого из нас.