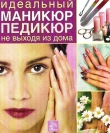Текст книги "Искусство путешествовать"
Автор книги: Ален де Боттон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)

Луи Аг. Шёлковый рынок, Каир. Литография по рисунку Дэйвида Робертса
Эстетические воззрения Флобера не отличались узостью. Он признавал любую, даже самую яркую цветовую гамму – ему нравились и лиловый, и бирюзовый цвета, – вот почему египетская архитектура и ее колористическое решение пришлись ему по душе. В 1833 году вышла в свет книга английского путешественника Эдварда Лейна. Называлась она «Нравы и обычаи современных египтян». Книга имела большой успех и в переработанном автором виде переиздавалась в 1842 году. Вот как Лейн описывает интерьер типичного дома египетского торговца: «Помимо традиционных закрытых мелкой решеткой окон, часть оконных проемов забрана цветным стеклом. Его покрывают узорами или изображениями букетов цветов, павлинов и другими рисунками, пусть и несколько кричащими и безвкусными, но зато всегда радостными и яркими… Стены в комнатах оштукатурены, кое-где прямо по штукатурке довольно примитивно нарисованы условные изображения храма в Мекке, гробницы пророка или все тех же вездесущих цветов. Эти „шедевры“ обычно принадлежат кисти каких-нибудь местных художников-мусульман. Иногда, впрочем, стены по-настоящему красиво украшены цитатами из священных книг и арабских мудрецов, выполненными безупречным каллиграфическим почерком».

Эдвард Уильям Лейн. Частные дома в Каире, эстамп, «Обзор нравов и обычаев современных египтян», 1842 г.
Эта барочная составляющая египетской жизни распространилась буквально на все, включая речь египтян и их манеру выражать свои мысли даже в самых обыкновенных, заурядных жизненных ситуациях. В дневниках Флобер приводит подобные примеры: «Некоторое время назад я стоял в магазине и рассматривал выставленные на прилавке на продажу семена. Женщина, которой я только что дал какую-то мелочь, вдруг разразилась такой тирадой: „да благословит вас Господь, мой почтенный господин. Пусть Бог хранит вас на пути домой, пусть проследит, чтобы вы вернулись в родные края целым и невредимым“»… Когда [Максим дю Камп] спросил у слуги, не устал ли тот, на его вопрос последовал вот какой ответ: «Чтобы не устать, мне достаточно удовольствия предстать перед вашим взором».
Почему же хаос и разнообразие так привлекают Флобера? Все дело в том, что, по его глубочайшему убеждению, жизнь изначально представляет собой хаос, и все попытки как-то структурировать, упорядочить ее (за исключением художественного осмысления действительности) являются следствием искусственного и ханжеского отрицания нашего естества. В письме, адресованном возлюбленной писателя Луизе Коле, написанном во время поездки в Лондон в сентябре 1851 года, буквально через несколько месяцев после возвращения из Египта, Флобер рассказывает: «Мы только что вернулись с прогулки по кладбищу Хайгейт. Я и вообразить не мог, насколько это упадочническое подражание египетской и этрусской архитектуре. Как же все там чистенько и прилизано! Ощущение такое, что люди, похороненные там, даже умирали в белых перчатках. Терпеть не могу эти садики вокруг могил, эти вычищенные, выстриженные клумбочки и высаженные стройными рядами цветочки. Это сопоставление смерти и идеального искусственного порядка всегда казалось мне штампом, вырванным из какого-то бульварного романа. Если уж говорить о кладбищах, то мне больше по душе те, что по каким-то причинам пришли в запустение, те, в оградах которых зияют проломы и дыры, где могилы заросли сорняками и колючими кустами. Гуляя по такому кладбищу, можно ненароком наткнуться на отбившуюся от стада корову, которая забрела туда, чтобы пожевать свежей травы в одиночестве. Согласись, что лучше уж корова, чем стоящий на входе полицейский в форме. Какая же безумная глупость – придуманный людьми порядок!»
II. Экзотичность испражняющихся ослов
«Вчера мы сидели в кафе, считающемся одним из лучших в Каире, – пишет Флобер через несколько месяцев после прибытия в столицу. – При этом в непосредственной близости от нас – в зоне прямой видимости – мы наблюдали гадящего осла и опорожняющего мочевой пузырь мужчину в углу. Никто здесь не находит это странным, никто по этому поводу ничего не говорит». Судя по всему, сам Флобер также находил все это совершенно нормальным.
Краеугольным камнем философии Флобера являлась твердая убежденность в том, что мы являемся не просто духовными созданиями, но и живыми, а следовательно, писающими и какающими существами. С выводами, следующими из этого, может быть, несколько грубоватого и прямолинейно высказанного тезиса, по мнению Флобера, людям надлежит смириться и воспринимать их как должное. «Я не верю, что в нашем теле, состоящем наполовину из грязи и наполовину из дерьма, в теле, наделенном инстинктами, ничуть не более возвышенными, чем те, что свойственны свиньям или лобковым вшам, может быть обнаружено что-либо чистое, возвышенное и нематериальное», – говорил он Эрнесту Шевалье. Сказанное, впрочем, вовсе не означало, что человеку не свойственны какие бы то ни было возвышенные помыслы. Просто ханжество и самодовольство, присущие большей части общества в эпоху Флобера, провоцировали в писателе нестерпимое желание напомнить окружающим о несовершенстве человека и о грязных составляющих его существа. Иногда он даже готов был встать на сторону тех, кто испражняется и мочится прямо в кафе, или даже на сторону маркиза де Сада, апологета содомии, инцеста, насилия и педофилии («Я только что прочитал биографическую статью о де Саде, написанную [известным критиком] Джанином, – сообщает Флобер Шевалье. – Эта статья вызвала у меня отвращение – надеюсь, тебе не следует уточнять, что отвращение я испытал к самому Джанину, который просто сел на своего любимого конька, пустившись в разглагольствования по поводу морали, филантропии и дефлорированных девственниц…»)
В египетской культуре Флобер с величайшим удовлетворением обнаружил готовность признавать дуализм устройства мира и человеческой жизни. Эта оппозиция фиксировалась там, на Востоке, буквально во всем: высоты разума – нечистоты, жизнь – смерть, сексуальность – чистота, безумие – здравый смысл. В ресторанах люди, не стесняясь, рыгали и выворачивали наизнанку желудки. Гуляя по Каиру, Флобер кивнул проходившему мимо мальчику лет шести или семи и услышал в ответ в качестве приветствия такие слова: «да наградит вас Бог всеми богатствами и, главное, длинным членом!» Эдвард Лейн также заметил такой свойственный Востоку дуализм, впрочем, отреагировав на него скорее как Джанин, но не как Флобер: «Жителям Египта, вне зависимости от их социального статуса и, что еще более удивительно – как мужчинам, так и женщинам, свойственна недопустимая в нашем обществе вольность и, я бы даже сказал, бесстыдство в разговорах. Я замечал это качество даже за самыми добродетельными и достойными всяческого уважения женщинами. От высокообразованных людей мне доводилось слышать такие высказывания и суждения, которые, на мой взгляд, скорее могли прозвучать в стенах борделя самого низкого пошиба. Светские и вполне благовоспитанные дамы, не стесняясь присутствия мужчин, порой обсуждают здесь такие темы и называют своими именами такие действия и предметы, упоминать которые в нашей стране постеснялись бы, наверное, даже многие проститутки».
III. Экзотичность верблюдов
«Что меня здесь потрясло и восхитило больше всего, так это верблюды, – писал Флобер из Каира. – Никогда не устаю наблюдать за этими странными животными, с бестолковой, „вразвалочку“, походкой осла и изящно изогнутой, как у лебедя, шеей. Звуки, которые они издают, – это что-то невыразимое. Я потратил немало сил и времени на то, чтобы научиться имитировать крик верблюда, чтобы суметь воспроизвести этот победный рев, когда вернусь домой. Задача оказалась не из легких, придется еще много тренироваться. Сам по себе рев верблюда представляет собой причудливую смесь из какого-то не то треска, не то скрежета под аккомпанемент клекота, похожего на звуки, которые мы издаем при полоскании горла». Через несколько месяцев после возвращения из Египта в письме, адресованном одному из старых друзей семьи, Флобер перечисляет все то, что по-настоящему впечатлило его во время поездки. В список, естественно, вошли и пирамиды, и храмовый комплекс в Карнаке; попали в список и каирские танцовщицы, и некий художник по имени Хасан эль Бильбейс. «Но больше всего меня поразили верблюды (поверьте мне, я не шучу). Никто и ничто не может сравниться по грации с этим спокойным, даже меланхоличным животным. Видели бы вы, как они идут по пустыне – цепочкой, один за другим, ступая след в след друг другу, как солдаты. Их шеи всегда вытянуты, как страусиные, головы подняты, и они идут, идут, идут…»
Почему же Флобер так восхищался верблюдами? Просто он сумел увидеть стоицизм этих животных, сочетающийся с внешней нескладностью и неуклюжестью. Флобера до глубины души тронуло печальное выражение верблюжьих морд и сочетание внешней физической неловкости с невероятным упорством и выносливостью. С точки зрения писателя, жителям Египта были присущи многие черты, свойственные характеру верблюдов, – сила, которую никто не пытается приукрасить громкими и хвастливыми криками, и в то же время покорность, готовность к смирению – столь несвойственные нормандским землякам Флобера и буржуазии вообще, отличающейся в первую очередь надменностью, самоуверенностью и высокомерием.
С подросткового возраста Флобер отвергал бессмысленно оптимистичный взгляд на мир, свойственный французам. Это отрицание он позднее выразил в романе «Мадам Бовари», описывая жестокую и циничную веру в науку наиболее неприятного персонажа фармацевта Оме, – разумеется, в его слова писатель предсказуемо вложил еще более мрачные размышления и наблюдения: «А в конце дня, под вечер, – срать. Произнося это могучее слово, можно смириться с любыми несчастьями, выпавшими как на долю одного отдельно взятого человека, так и всему человечеству. Вот почему я с наслаждением повторяю его – срать, срать». Похоже, что именно эту философию, именно такое отношение к жизни Флобер сумел подсмотреть в печальных, благородных, но в то же время слегка озорных глазах египетских верблюдов.
6
В Амстердаме, на углу улиц Тведа Хельмерса и Эрнста Константина Гюйгенса, я увидел женщину – лет тридцати или около того, – которая вела велосипед рядом с собой по улице, держа за руль. Рыжие волосы убраны в пучок, длинное серое пальто, оранжевый свитер, коричневые туфли на плоской подошве и очки в строгой деловой оправе. Судя по всему, жила женщина где-то неподалеку, может быть, в том же квартале, – шла она уверенно, явно знакомой дорогой, не проявляя особого интереса к окружающему миру. В корзине, закрепленной перед рулем велосипеда, лежали буханка хлеба и картонный пакет с надписью «Goudappeltje». Разумеется, она не находит ничего необычного в том, что на пакете с яблочным соком буквы «t» и «j» стоят одна за другой, а не разделены какой-нибудь гласной. Нет для нее ничего необычного и в том, чтобы ходить в магазин, используя велосипед не то в качестве тележки, не то в качестве сумки на колесиках. Ну и, разумеется, ей столь же привычны окружающие здания с вмурованными в стены над окнами верхних этажей металлическими крюками для подъема мебели.
Интерес и разбуженное желание порождают стремление понять и разобраться, куда она идет, о чем думает, кто ее друзья. Точно так же и Флобер, добиравшийся на пассажирском речном корабле до Марселя, откуда им с дю Кампом предстояло отплыть на пароходе в Александрию, задавал себе точно такие же вопросы по поводу другой женщины. В то время как остальные пассажиры рассеянно обозревали окрестности, Флобер сосредоточенно рассматривал женщину, стоявшую на палубе. В своем путевом дневнике он написал, что она была «молодым и стройным созданием в соломенной шляпке с зеленоватой вуалью. Под шелковым жакетом на ней был короткий сюртук с бархатным воротником и карманами, в которых она постоянно прятала руки. Два ряда пуговиц плотно затягивали сюртук на ее груди, талии и частично обрисовывали линию бедер, от которой веером расходились многочисленные складки платья, облегавшего на ветру ее ноги. Женщина носила черные обтягивающие перчатки и большую часть времени проводила на палубе, облокотившись на перила фальшборта и разглядывая пейзажи по берегам реки… Мне всегда нравилось придумывать истории о тех людях, с которыми мне доводилось случайно встретиться. Неуемное любопытство заставляло спрашивать самого себя, кто они, чем живут, о чем думают, где родились, как их зовут, что им интересно в этот момент, о чем они сожалеют, на что надеются, кого любили, о чем мечтают сейчас… Когда речь заходит о женщинах (особенно молодо выглядящих), это желание становится особенно сильным. Как же быстро – признаемся себе – нам начинает хотеться увидеть незнакомку обнаженной, как нестерпимо сильно хочется нам, чтобы она обнажила перед нами и свою душу. Как же узнать, куда и откуда она едет, почему оказалась здесь, а не где-либо еще? Разглядывая ее с ног до головы, мы представляем себе возможный роман с нею и пытаемся понять, о чем же она думает и к чему стремится в глубине души. Постепенно мы начинаем мысленно рисовать себе ее спальню и еще многое, многое другое… Дело доходит даже до потертых домашних тапочек, в которые она привычно сует ноги, когда встает с кровати».
Красивый, привлекательный человек манит нас к себе. В случае с чужими, незнакомыми странами к их объективной притягательности добавляется и то, что является следствием удаленности той или иной территории и непохожести на страну, к жизни в которой мы привыкли. Если любовь – это действительно поиск в другом человеке тех качеств, которых недостает нам самим, то любовь к человеку, родившемуся и живущему в другой стране, наверное, становится следствием поиска в чужой культуре тех ценностей, которых нам недостает на родине.
В своих марокканских картинах Делакруа словно иллюстрирует предположение, что желание побывать в каком-либо месте разжигает желание по отношению к людям, уже находящимся в этом месте. Глядя на его «Алжирских женщин в их покоях» (1834), зритель может ощутить схожее с флоберовским нестерпимое желание узнать, «как их зовут, о чем они думают в этот момент, о чем сожалеют, на что надеются, кого любили, о чем мечтают…»
Легендарный сексуальный опыт Флобера в Египте был, несомненно, приобретен на коммерческой основе, но от этого не потерял своей искренности и подлинной чувственности. Случилось это в Эсне – маленьком городке на западном берегу Нила, примерно в пятидесяти километрах к югу от Луксора. Флобер и дю Камп задержались в Эсне, чтобы переночевать там, и были представлены известной местной куртизанке, обладавшей к тому же репутацией «альме» – образованной женщины. Слово «проститутка» никак не соответствовало достоинству Кучук Анем и той роли, которую она играла во встрече с французскими гостями. Флобер возжелал ее с первого мгновения знакомства: «Кожа ее имеет какой-то особенный светло-кофейный оттенок; когда она наклоняется, ее плоть сгибается, образуя бронзовые складки; ее глаза темны и огромны, ее брови черны, ноздри широки и распахнуты; у нее широкие тяжелые плечи, полная, в форме яблока грудь… Ее волнистые, непослушные черные волосы расчесаны на прямой пробор и убраны назад… Возможно, ей следовало бы обратить внимание на зубы – ее правый верхний резец явно плох».
Кучук пригласила Флобера в свое скромное жилище. Ночь выдалась на редкость холодной, с ясным небом. В дневнике писатель вспоминает: «Мы проследовали в спальню… Она заснула, держа мою руку в своей. Она храпела, язычок пламени в лампе слегка подрагивал и отбрасывал узкий треугольный луч цвета бледного металла на ее прекрасный лоб. Остальная часть ее лица оставалась в тени. Маленькая собачка хозяйки спала на моем шелковом жакете, брошенном на диван. Кучук жаловалась на кашель, и я набросил свою мантилью поверх ее одеяла… Я погрузился в неспокойный сон, полный видений и еще совсем свежих воспоминаний. Я чувствовал, как ее живот прижимается к моим ягодицам; ее бугорок Венеры – еще более горячий, чем ее живот, – жег меня, как раскаленное железо. Нашими страстными прикосновениями мы смогли многое сказать друг другу. Даже во сне она продолжала сжимать руки и бедра. Делала она это механически, как будто непроизвольно вздрагивала всем телом… Как польстило бы самолюбию любого мужчины, знай он, что, покинув это ложе и этот дом, он оставит о себе хотя бы немного более яркие воспоминания, чем другие, бывавшие здесь до него. Какой честью и наградой была бы для мужчины уверенность в том, что он сумел оставить след в сердце этой женщины».
Воспоминания и мечты о Кучук Анем не покидали Флобера на протяжении всего путешествия по Нилу. На обратном пути из Фив и Асуана они с дю Кампом вновь заехали в Эсну, чтобы заглянуть к поразившей Флобера женщине еще раз. Вторая встреча повергла Флобера в еще большую тоску и уныние, чем первая: «Безграничная грусть… Это конец; я больше никогда ее не увижу, и ее лик постепенно сотрется в моей памяти». Однако этого не случилось.

Эжен Делакруа, Алжирские женщины в своих покоях, 1834 г.
7
Нас всегда учили с подозрением относиться к экзотическим воспоминаниям европейских мужчин, которые во время путешествий по восточным странам проводили ночи с местными красавицами. Было ли восторженное отношение Флобера к Египту чем-то большим, чем просто фантазиями и мечтами об альтернативе родной стране, так настойчиво отвергаемой им? Не был ли его энтузиазм лишь детской идеализацией всего «восточного», не растерянной в юности и плавно распространившейся и на взрослую жизнь писателя?
Какими бы смутными и неполными ни были представления Флобера о Египте в начале путешествия, прожив в этой стране девять месяцев, он мог с уверенностью заявить, что ему удалось понять и почувствовать, что такое Восток. Спустя три дня после прибытия в Александрию он начал изучать язык местных жителей и историю страны. За занятия по мусульманским традициям и обычаям Флобер платил учителю три франка в час – по четыре часа в день. Спустя два месяца он набросал предварительный план книги, которую собирался назвать «Мусульманские традиции» (этот труд так и не был осуществлен). В плане имелись разделы, посвященные ритуалам, связанным с рождением ребенка, с его обрезанием, с институтом брака, с паломничеством в Мекку, с похоронами умершего и с представлениями местных жителей о Страшном суде. Флобер заучивал наизусть отрывки из Корана по «Священным книгам Востока» Гийома Потье и перечитал все основные европейские научные труды, посвященные Египту, среди которых были и «Путешествие в Египет и Сирию» С. Ф. Волни и «Путешествия в Персию и другие страны Востока» Шардена. В Каире он подолгу беседовал с коптским епископом и исходил вдоль и поперек армянские, греческие и суннитские кварталы. Иногда его – смуглого, с бородой и усами, понимающего язык, на котором говорят окружающие, – принимали за местного жителя. Он носил длинную белую хлопчатобумажную нубийскую рубашку, отделанную по подолу красными помпонами, и брил голову наголо, оставляя лишь прядь волос на затылке, ту самую, «за которую Магомет поднимет тебя в день Страшного суда». Он написал матери, что взял себе местное имя. «Египтянам очень трудно произносить французские имена, и они придумывают для нас, „франков“, собственные клички и прозвища. Ты только представь себе: Абу Шанаб, оказывается, означает „отец усов“. Это слово, „абу“, отец, применяется по отношению ко всему, что является важным и значительным в том или ином разговоре. Так, например, торговцев, продающих те или иные товары, здесь зачастую называют, например, „отец обуви“, „отец клейстера“, „отец горчицы“ и так далее».
Подлинное понимание Египта, по мнению Флобера, вовсе не означало безоговорочного признания всех его черт и свойств. К немалому удивлению, писатель обнаружил в этой восточной стране многое из того, что так было похоже на его родной Руан. Случались порой и настоящие разочарования. Если судить о поездке по воспоминаниям, написанным спустя много лет озлобленным и язвительным Максимом дю Кампом – всегда готовым хоть как-то уколоть человека, ставшего более известным писателем, чем он, человека, с которым его так многое связывало в юности и который с годами все больше отдалялся от него, – Флоберу на берегах Нила было так же скучно, как и в опостылевшем Руане: «Флобер абсолютно не разделял моих восторгов по поводу Египта. Он всегда был невозмутим и погружен в себя. Никаких самостоятельных решений, никаких действий он не предпринимал. Путешествовать он бы предпочел – будь это возможно, – не вставая с собственного дивана и не сделав ни единого шага. Ему бы пришлось по душе, если бы пейзажи, руины и города проплывали мимо него как один большой панорамный рисунок с механически раскручивающегося перед ним свитка. С первых дней нашего пребывания в Каире я чувствовал, насколько ему там скучно и неинтересно: путешествие, о котором он так долго мечтал, которое когда-то казалось просто несбыточным, явно не пришлось ему по душе. В какой-то момент я сказал ему прямо: „Если хочешь вернуться во Францию, я готов помочь тебе организовать обратную дорогу и даже отправлю с тобой своего слугу“. На это он мне ответил: „Нет, я все это затеял, и я пройду это испытание до конца. Ты только сделай одолжение, продумывай сам все дальнейшие маршруты. Я не буду принимать в этом участия, но и возражать против чего бы то ни было не стану. Мне в общем-то все равно, куда мы, например, сейчас пойдем – направо или налево“. Все храмы казались ему на одно лицо, мечети и пейзажи были унылы и однообразны. Я далеко не уверен в том, что, созерцая красоты острова Элефантина, он не вздыхал по лугам Сотвилля, а проплывая по Нилу, не мечтал о том, чтобы оказаться на берегах Сены».
Следует отметить, обвинения дю Кампа вовсе не безосновательны. В мгновения уныния, находясь где-то неподалеку от Асуана, Флобер пишет в своем дневнике: «Египетские храмы изрядно мне наскучили. Неужели они станут для меня тем же, что и церкви в Бретани или водопады в Пиренеях? Ох уж мне эта необходимость быть тем, кто ты есть, и вести себя так, как тебе полагается. Как же мне надоело, что я всегда должен вести себя так, как в тех или иных обстоятельствах (вне зависимости от моего настроения в этот момент) подобает молодому человеку, туристу, художнику, хорошему сыну или же гражданину – по ситуации». Через несколько дней, на стоянке под Филами, он продолжает: «Я подавлен, и у меня нет ни малейшего желания сделать хотя бы шаг, чтобы осмотреть достопримечательности острова. Господи, что же это за наказание, почему мне всегда и везде так скучно, почему я всегда всем недоволен… Туника Дейяниры не так крепко приросла к спине Геркулеса, чем тоска и уныние к моей жизни. Скука мало-помалу съедает мою жизнь».
Увы, несмотря на то что Флобер надеялся забыть в Египте о невероятной глупости и самонадеянности, которые он считал отличительными признаками современной ему европейской буржуазии, он был вынужден признать, что эти явления преследуют его повсюду: «Глупость монументальна и непоколебима; бороться с ней и не проиграть поединок невозможно… В Александрии я обнаружил, что некий Томпсон из Сандерленда увековечил свое имя, написав его шестифутовыми в высоту буквами на колонне Помпея. Надпись видна за четверть мили. Увидеть колонну, не увидев фамилии Томпсон, невозможно, а следовательно, невозможно в этот момент не подумать о Томпсоне. Этот кретин стал частью древнего памятника и останется ею навечно. Впрочем, что я говорю: этот человек превзошел древних зодчих и ваятелей тщеславной пышностью гигантского шрифта. Все недоумки мира в какой-то степени являются подобными Томпсонами из Сандерленда. Как же, оказывается, их много, и как часто они, к сожалению, оказываются в самых красивых местах и портят самые прекрасные виды. Путешествуя по миру, встречаешь множество таких людей… Утешает одно: если они в твоей жизни неожиданно появляются, а затем столь же стремительно исчезают, то над ними можно просто посмеяться. В обычной – оседлой – жизни они остаются в моем окружении надолго и вполне способны довести до бешенства».
Тем не менее, все это вовсе не значит, что увлечение Флобера Египтом обернулось разочарованием и непониманием. Просто в его сознании идеализированный до абсурда образ уступил место более реалистичной, но тем не менее по-прежнему прекрасной, достойной восхищения картине. Флоберу удалось не отринуть свою юношескую влюбленность, не забыть о буйстве страстей и желаний, а превратить это безумие в подлинное чувство, в настоящую любовь. Разозленный тем, что дю Камп в своих воспоминаниях вывел его в карикатурном образе скучающего туриста, он написал Альфреду де Пуатвену: «Любой нормальный представитель буржуазии непременно сказал бы по этому поводу: „Если ты едешь куда-то, о чем у, тебя были какие-то собственные представления, то тебя непременно ожидает крушение иллюзий“. По правде сказать, мне в жизни нечасто доводилось переживать крушение иллюзий – по той простой причине, что у меня всегда их было мало. Что за глупость и пошлость – неизменно восхвалять ложь, лгать всем и всегда всю жизнь и при этом утверждать, что поэзия питается иллюзиями, ложными представлениями о жизни!»

Гюстав Флобер в Каире. Фотография Максима дю Кампа, 1850 г.
Рассказывая матери о путешествии, он подробно описывает, что оно ему дало: «Ты спрашиваешь меня, таким ли оказался Восток, каким я его себе представлял? Да, он такой. И более того, он гораздо разнообразнее, интереснее и многограннее, чем я думал раньше. За время поездки мои смутные, не во всем верные представления об этих краях обрели законченные, четко прорисованные очертания».
8
Когда пришло время возвращаться из Египта домой, Флобер был безутешен. «Доведется ли мне когда-нибудь вновь увидеть пальму? Когда еще у меня будет возможность вновь проехать верхом на верблюде?..» – спрашивал он себя всю оставшуюся жизнь и вплоть до последних дней продолжал мысленно возвращаться в эту прекрасную страну. За несколько дней до смерти в 1880 году он говорил племяннице Каролине: «В последние две недели я просто умираю от желания вновь увидеть пальму на фоне ярко-голубого неба и услышать, как аист щелкает клювом на куполе минарета».
Долгий, продолжавшийся всю жизнь роман Флобера с Египтом мы можем воспринимать как приглашение отнестись с большим уважением и пониманием к собственной тяге к тем или иным странам. Начиная с подросткового возраста, Флобер настойчиво доказывал себе и всем окружающим, что он не француз. Его ненависть к собственной стране и ее народу была настолько глубока, что он, издеваясь над собственной национальной принадлежностью, даже придумывал себе пародийный гражданский и социальный статус. Он даже предложил новую методику приписывания человека к той или иной национальности, к тому или иному народу: не в соответствии со страной, где человек родился или гражданами которой являются его родители, но в соответствии с теми странами и территориями, которые он больше всего любит. (Вполне логичным развитием этой концепции, с точки зрения Флобера, было перенесение расширительного принципа идентификации с национальной принадлежности на половую и видовую. В одном случае он ни с того ни с сего заявлял, что, несмотря на все внешние признаки, на самом деле является не мужчиной, а женщиной, а в другом – утверждал, что вообще не относится к роду человеческому, а представляет собой экземпляр медведя или верблюда: «Я собираюсь купить себе медведя посимпатичнее: я имею в виду живописный портрет. Сделаю для него хорошую рамку и повешу в спальне. А внизу аккуратно подпишу: „Портрет Гюстава Флобера“, чтобы сразу обозначить мои моральные принципы и навыки пребывания в социуме».)
Впервые Флобера осеняет, что в душе он не француз, еще в школьные годы, по возвращении с Корсики после очередных каникул: «Я с омерзением возвращаюсь на проклятую родину, где даже солнце в небе можно увидеть не чаще, чем алмаз в свиной заднице. Плевать я хотел на Нормандию и на всю „прекрасную Францию“… Судя по всему, меня каким-то несчастливым ветром пересадили сюда, в эту страну болот и грязи. На самом деле я наверняка родился где-то в другом месте – в моей душе всегда сохранялись какие-то смутные воспоминания или интуитивно угадываемые образы роскошных пляжей и голубого моря. Я был рожден, чтобы стать императором Кохинхина, чтобы курить стофутовые трубки, чтобы иметь 6000 жен и 1400 услаждающих меня мальчиков; моя рука должна была сжимать палаш, которым я срубал бы головы тем, кто не пришелся мне по душе. Мне должны были принадлежать нумидийские кони, выложенные мрамором бассейны…»
Поиск альтернативы «прекрасной Франции» мог показаться затеей бессмысленной и непрактичной, но основной принцип, сформулированный еще в этом почти детском письме, – вера в то, что во Францию его занесло по ошибке, «по прихоти ветров», с годами лишь укреплялась и получила намного более серьезное и трезво сформулированное обоснование в зрелые годы писателя. Вернувшись из Египта, Флобер попытался описать свою теорию национальной идентичности (не касаясь, впрочем, темы половой и видовой принадлежности) Луизе Коле («моему султану»): «Что же касается самой идеи родины, то есть некоего участка земли, который обозначен на карте и отделен от других территорий красной или синей линией, я скажу просто: нет, родина для меня – та страна, которую я люблю, та, о которой я готов мечтать, та, которую вижу во сне, та, в которой мне хорошо. Я в такой же мере китаец, как и француз, и меня вовсе не радуют наши победы над арабами, потому что я скорблю по их поражениям. Я люблю этих суровых, жестких, непокорных людей, последних современных нам дикарей, которые в полдень ложатся на землю в тени под брюхом своих верблюдов и, покуривая любимый чубук, от души потешаются над нашей так называемой цивилизацией, которая, в свою очередь, просто бесится от столь непочтительного к себе отношения…»
Луиза ответила в том духе, что находит абсурдной мысль принимать Флобера за китайца или араба. Неудовлетворенный такой реакцией, через несколько дней он пишет ей очередное письмо, в котором возвращается к теме еще более эмоционально и не без раздражения: «Я в такой же мере древний человек, в какой – ваш современник. Во мне не больше от француза, чем от китайца. Концепция родины, неизменно сводящаяся к императивному требованию жить на клочке земли, отмеченном на карте, допустим, красным или синим цветом, и, несомненно, испытывать жгучую ненависть к тем, кто имеет несчастье жить на зеленых или черных участках, всегда казалась мне чем-то узколобым, зашоренным и невыносимо глупым. Я предпочитаю считать себя братом по духу всему живому на земле, будь то жираф, крокодил или же человек».