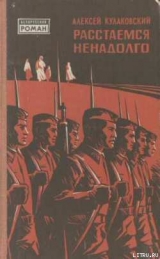
Текст книги "Расстаемся ненадолго"
Автор книги: Алексей Кулаковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Никита Минович! – подхватившись, крикнул Андрей.
– Ты? – без удивления отозвался комиссар. – А кто там? – он махнул пистолетом в сторону бронемашин.
– Зайцев, – ответил Андрей. – И Миша Глинский.
Никита Минович побежал дальше. Двое, что лежали поблизости, живо подхватились и побежали вслед за группой. Теперь Андрей наконец догадался, что это были за люди.
К Сокольному подбежал проводник.
– Товарищ командир, – взволнованно попросил он, – дайте хоть одну гранату! Одну!..
– А вы… – Андрей неуверенно посмотрел на него.
– Не бойтесь, бросал!
Чуть не выхватив из рук Андрея гранату, проводник во весь рост помчался за группой Никиты Миновича.
Когда Андрей подошел к подбитым бронемашинам, Трутиков, разгоряченный боем, стоял возле Марии и Вари и тихо, но властно спрашивал:
– Вам кто разрешил сюда идти? Где было ваше место? Вы что, дисциплины не понимаете?
Мария молчала, а Варя все порывалась что-то сказать, верно, оправдаться, но комиссар не позволял ей. Наконец она перебила Никиту Миновича:
– Минутки не прошло, как мы сюда прибежали!.. Все время там были, около саней!
Вдруг заметила Андрея, запнулась.
– Знаю, где вы были! – строго, но не так уж сердито остановил ее Никита Минович. – А за обман старого человека ты у меня еще поплатишься!
Где-то поблизости грохнул раскатистый хохот Кондрата Ладутьки, и все повернулись в ту сторону.
– Я их, сволочей, знаешь!.. – кричал кому-то Кондрат. – Я их мигом заставил замолчать!.. Связку гранат ка-ак фуганул! Один, в рот ему дышло, прямо за-а… ха-ха!.. прямо задом хотел выбраться из люка… Не выбрался!
Кондрат показался из-за крайнего дома, и в уже поредевших сумерках Андрей заметил: рядом с Ладутькой идут двое партизан, а сам он, опершись на их плечи, прыгал на одной ноге.
Мария и Варя бросились к нему.
– И ты здесь? – Ладутька с напускной строгостью посмотрел на дочь. – Может, обошлись бы хоть раз без тебя?
– Ты ранен, папа? – испуганно спросила Варя и нагнулась, чтоб осмотреть ногу. Рядом с ней присела на снег Мария.
– Где у вас рана?
– По голени, в рот ему дышло, саданул, когда я крался к гусеницам. Да чепуха! Молодец Вержбицкий – как ангел-спаситель явился, перевязал. Боевой хлопец! Я ему говорю: по твоему характеру тебе бы в подрывниках ходить, а не в докторах. А он смеется…
Увидев Никиту Миновича, Ладутька снял правую руку с плеча партизана, небрежно козырнул:
– Задание выполнено.
– Хорошо, – глухо проговорил Никита Минович. – Только как же?.. Тяжелая рана? Кости хоть целы? Что сказал Вержбицкий?
– Кость цела! – опять засмеялся Ладутька. – Черта с два им пробить мою кость. Непробиваемая!
Никита Минович тепло улыбнулся:
– Ну, ладно, ладно, иди, Кондрат, на сани, не форси больно-то. – И повернулся к Марии: – Сбегайте к Вержбицкому, помогите ему. Возможно, там еще есть раненые бойцы.
Попозже Андрей узнал о необходимости этого боя. Под вечер того дня, когда Сокольный был в своей деревне, разведчики донесли Никите Миновичу, что по направлению к временной стоянке их отряда движутся фашистские каратели с танками и бронемашинами. Комиссар решил боя тут не принимать, по тревоге поднял отряд и отвел в лес. Ночью, посоветовавшись с Климом Филипповичем, он начал готовиться к налету. Наметили сделать это перед самым рассветом, когда немцев особенно морит сон. Соседние отряды тоже заняли позиции, изготовились к бою.
Отряд справился с задачей, считай, в одиночку, другим отрядам достались только те гады, которым было удалось улизнуть.
Когда Никита Минович рассказывал Андрею о некоторых перипетиях боя, к ним подошел Миша Глинский. Он доложил, что в деревне враги намеревались провести злостную расправу над местными жителями, что обнаружено несколько избитых до потери сознания женщин и детей. Сказал Миша и о том, что наведался в хату проводника. Два внука его, невестка и жена-старуха лежали на полу без чувств, окровавленные. Окна в хате высажены, повсюду битое стекло, постели и одежду фашисты растрясли, что получше – унесли.
Андрей приказал послать в деревню Марию, Вержбицкого и группу партизан, а потом и сам отправился вслед. Высокий, сутулый проводник как бы стоял перед его глазами – с добрым лицом, длинными, до колен руками. Спокойно топтался на лесной стежке, ожидая возвращения Андрея… Теперь-то можно было представить, что творилось у него на душе, чего стоили ему это спокойствие, необыкновенная выдержка.
Андрею захотелось как можно скорее встретиться с этим человеком, разделить его тяжкое горе.
IV
Весна сорок второго года пришла в Красное Озеро с запозданием. В редкие разрывы низких, почти неподвижных туч время от времени проглядывало солнце, бросало несмелые лучи на мокрые крыши, на мутную в половодье речку и снова пряталось, будто убедившись, что светить сюда нет никакого смысла. С севера и запада дул знобкий ветер, часто нагоняя к рассвету заморозки. И все же пора брала свое: земля оттаяла, в низинах пробивалась трава, на школьных тополях набухали почки. Но все это словно не по своей воле.
Под окнами домика в котором когда-то жила Вера, стояла все та же скамеечка. Почернела за этот год, скособочилась, но, как и прежде, в погожие вечера приходили сюда на посиделки, поделиться новостями посплетничать, Евдокия и жена Жарского.
В школе теперь жили полицаи, несколько немцев. Пройдет по двору Юстик Балыбчик, еще кто-нибудь из полицаев – женщины проводят коротким, равнодушным взглядом. Немец пройдет – соседки долго его провожают глазами, а Евдокия чего-то даже и вздохнет. И не понять, что означает этот вздох: то ли грусть по прошлой жизни, так не похожей на теперешнюю, то ли, вроде бы, симпатию к немцу.
Последние два-три дня Евдокия не показывалась на школьном дворе. Не видно было ее и на огороде, где многие хозяйки уже гнули спины с лопатами, мотыгами. Директорша под большим секретом шепнула мужу, что соседку за что-то отшомполовали немцы, а за что, Евдокия и сама не знает. Директор в ответ, еще под большим секретом, шепнул жене, что били Евдокию вовсе не немцы, и предупредил еще: если жена и дальше будет дружбу водить с соседкой, то, может статься, не миновать шомполов и ей.
Надя рассердилась на мужа и долго ходила надувшись, хмыкая тонким, веснушчатым по весне носом. Уже не в первый раз она слышит подобные предупреждения! Слышала и упреки. А за что? Никогда она так не уважала мужа, не заботилась о нем, как в этот год войны, а он все недоволен, раздражен, чего-то боится. С тех пор как поселились здесь незваные соседи, пз квартиры ни разу не вышел: все ему мерещится, что придут немцы или полицаи и начнут приставать к его жене.
Позже директорша дозналась: перепало Евдокии от Кондрата Ладутьки. Давно уже до него доходили слухи, что она путается с немцами, гонит для полицаев самогон, торгует чем придется. Сначала рейд мешал ему приструнить ее, потом рана на время вывела из строя. Теперь Ладутька через верных людей узнал, что какой-то унтер чуть не каждую ночь захаживает к Евдокии по доброму ее согласию. И такая злость взяла Кондрата, что решил он пойти на риск, даже на новое нарушение дисциплины, а негодницу проучить.
Как-то в полночь разбудил он Павла Шведа, потихоньку отвел в кусты, подал узелок с немецким обмундированием.
– Переодевайся! – приказал хлопцу. – Пойдешь со мной!
Сам тоже снял и спрятал свою одежду, надел форму немецкого офицера.
Во мраке, по протоптанным Ладутькой тропкам они без помех добрались до квартиры Евдокии. Швед встал за углом караулить, а Ладутька тихонько постучался в окно.
– Это ты, Курт? – послышалось из комнаты.
– Я-а, – шепотом ответил Ладутька.
Женщина открыла дверь, горячо обняла «немца», как только тот переступил порог, и вдруг отшатнулась: не та фигура, запах одежки не тот!
– Я тебе дам «Курт»! – не помня себя от злости, зашипел Ладутька и начал угощать ее шомполом.
После этого случая директорша стала побаиваться водить дружбу с Евдокией, а у Юрия Павловича появилась страшная бессонница. Партизаны, мерещилось по ночам, придут и к нему. Придут и спросят: «А какую пользу ты принес Советской власти?» Он слышал, отряд Сокольного вернулся из дальних мест, да еще и не один. И если за спиной у Ильи Ильича Жарский, особенно в последнее время, не очень боялся оккупантов, то партизаны начали представляться ему прямо-таки беспощадными. Даже некогда близкий, привязанный к нему Андрей казался теперь суровым, страшным. Вот заходит он в комнату, садится к столу, ничего не говорит, ни о чем не спрашивает. А Жарскому хочется говорить, высказать Андрею очень многое. И о собственном слабоволии рассказать, и о том, что он всегда интересуется партизанскими делами, даже знает, что во время рейда было разгромлено около трех десятков вражеских гарнизонов, наконец, о большом авторитете Ильи Ильича и необычных условиях своего существования.
Кажется, все от души говорит, а командир отряда не подымает головы, лицо его не смягчается. И жутко становится от мысли, что все это не то, совсем не то! Слушает Сокольный, слушает, а потом и говорит: «Изменили вы, Юрий Павлович. Забыли о Родине».
А разве это так?..
Жизнь бывшего директора школы в самом деле сложилась неладно. И если для жены его это проявлялось в том, что подчас нечего было на стол подать, то для самого Жарского – все-все в ином свете. Бестолковость своей жизни он начал ощущать с того самого дня, когда пришел со встречи с Никитой Миновичем. Не раз задумывался он в этот год: а прежде была в его жизни такая вот пустота или нет? И с болью в сердце признавался себе: пусть не совсем такая, но была. Когда-то, еще подростком, покинул в беде своего товарища-конопаса. Сговорились они, повели коней на чужой выгон. Заметив, что идут сторожа, вскочил на коня и ускакал, а товарища поймали, избили до полусмерти.
Скребло на сердце и после того, как с помощью отцовского кармана убедил кое-кого из медицинской комиссии в своей недолеченной тугоухости, добившись таким образом отсрочки от призыва в Красную Армию. Но тогда хоть так долго не переживалось, а теперь – ни днем ни ночью покоя нет. На какое-то время вернул ему душевное равновесие Илья Ильич Переход. Появилась цель, какое-то оправдание своего положения. Жарский подбеливал, проветривал школу, вел переговоры с некоторыми учителями, что жили поблизости, с отцами первоклассников. Но пришли из района немцы и заняли школу под казарму.
Ходил Юрий Павлович к Илье Ильичу, жаловался. Ничто не помогло. У того у самого не очень-то клеилось со школьными делами. Путешествовал он много, уговаривал людей, убеждал, но открыть школу в прошлую зиму удалось только в районном центре. Учащихся в ней было ее густо, да и учителей – раз-два и обчелся. Редко кто соглашался идти в такую школу, и далеко не каждого Илья Ильич брал на работу.
Еще зимой, когда пошел было слух, что и в Красном Озере откроется школа, подала Жарскому заявление Евдокия. Сколько жила в Красном Озере, никогда в школе не работала, никто ее и за учительницу не считал. А теперь раскопала справку, что когда-то сколько-то училась и столько же учительствовала в первом классе. Это было первое заявление, пожалуй, во всем районе! Жарский готов был ухватиться за него, но когда дело дошло до Ильи Ильича, тот решительно отклонил кандидатуру. Ходила тогда Евдокия сама к Илье Ильичу, носила еще какие-то характеристики, какие-то рекомендации. И все напрасно: Илья Ильич сказал, что при теперешнем кризисе в народном образовании он, пожалуй, мог бы допустить Евдокию в школу даже с такими документами, но…
– Что – но?.. – растерялась Евдокия.
– Самогонку вы гоните? – напрямик спросил Илья Ильич. – Самогоном торгуете? Какая же вы учительница для наших детей?!.
В школе Ильи Ильича работали только те учителя, которых он хорошо знал, на которых мог положиться. Все они прежде преподавали в советских школах, пользовались авторитетом, а теперь всеми силами старались держаться подальше от всякой политики, от оккупационных властей. Такую линию Илья Ильич считал единственно жизненной, правильной.
Но однажды в школу заявились гестаповцы. Без какого бы то ни было разрешения отдела народного образования. Средь урока вошли в класс, спросили у учительницы фамилию одной девочки. Учительница показала на нее глазами, девочка встала. Гестаповец схватил ее за руку и увел…
Узнав об этом, в школу прибежал Илья Ильич. Глаза его горели бешеным огнем, побледневшие щеки, обвисший подбородок тряслись, будто лихорадка его одолела. В директорский кабинет были созваны все учителя.
– Почему пустили гадов в класс? – гневно набросился он на заведующего учебной частью. – Вы бессовестный человек, трус, вы – предатель!..
– Они у меня не спрашивали разрешения, – тихо оправдывался завуч, – я даже не видел, как они вошли в школу.
– Чей был урок? – спросил Илья Ильич.
– Мой, – повинилась учительница.
– И вы показали на эту девочку?
– Что же мне было делать?
– Негодница-а! – схватившись за голову, закричал Илья Ильич и выбежал из кабинета.
Через час в школе висел приказ о снятии с работы заведующего учебной частью и учительницы, которая выдала гестаповцам девочку.
В тот же день Илья Ильич направился в комендатуру. В приемной дежурили два жандарма, и, когда он объяснил им, с чем пришел, один из них кивнул на глухой угол комнаты, велев стать туда. Илья Ильич встал в этом углу – сесть тут не на что было – и принялся рассматривать приемную. Не раз бывал он здесь. Прежде на окнах, теперь зарешеченных, висели гладкие белые шторы, стол меж окон накрывался красным сукном. Обои на стенах были всегда свежие, без единого пятнышка… А вот тут, в углу, где сейчас его ноги, стояла проволочная корзина. Люди бросали сюда окурки, всякий мусор. Когда, бывало, Илья Ильич заходил сюда по какому-нибудь делу, секретарша сразу докладывала о нем. Председатель райисполкома принимал заслуженного учителя с почтением, а потом провожал его чуть не до самого выхода. Так было… А теперь тут жандармы сидят, возле решеток, о чем-то рассуждают между собой.
Из кабинета коменданта вышел маленький остроносый офицерик. Жандармы вскочили, лица их вытянулись, стали еще более постными, тупыми. Потом один из них зашел в кабинет, скоро вышел и снова сел у решетки, даже не глянув на Илью Ильича.
Переход издавна привык уроки проводить стоя, никогда не чувствовал усталости. Тут же простоял совсем недолго, а в коленях появилась какая-то неприятная слабость, ноги будто оловянные…
Попробовал было пройтись по комнате, размяться, но жандарм выставил руки, категорически преградив ему путь.
С вынужденной покорностью Илья Ильич вернулся на свое место, подумал: если через несколько минут не пригласят его, то придется оставить этих жандармов, а коменданту написать письмо.
Но вот за дверью послышался резкий выкрик. Один из жандармов ошалело ринулся в кабинет. Оттуда вышел не спеша, подал разрешающий знак посетителю.
Комендант поднялся Илье Ильичу навстречу, пригласил сесть, сам сел лишь тогда, когда посетитель принял приглашение, склонил голову в ожидании начала разговора. Небольшого роста, тучный, коротконогий. Голова гладко выбрита, хоть и брить-то было нечего. На плоских щеках, раздвоенном подбородке, если приглядеться, торчала реденькая и, верно, жесткая рыжеватая щетинка.
– Я прошу сделать мне извинение, – заговорил он по-русски, – что не мог принять вас раз-раз… Чем могу служить?
Илья Ильич изложил суть дела и потребовал, чтобы школьница была сейчас же освобождена. Комендант потрогал пальцем подбородок, потом оберские нашивки на воротнике кителя, сделал вид, что весьма озабочен делом, о котором только что услышал.
– Мне очень, очень жалею, – подняв безбровое лицо, заговорил он. – Я пришел тут, чтобы делать русские люди добро. Мой фатер это… отец, долго жил в России… Он фермер, в прошлую войну попал в русский плен. Русские он долго вспоминал, научил меня говорить, как вы. Я очень, очень жалко и буду постарайся сделать все, что будет есть. Только гестапо не раз-раз слушать меня, у них свой глаз, ухо, нос. Я ваш служба, – заключил он и протянул Илье Ильичу руку.
Проходя мимо жандармов в приемной, Переход посмотрел на них с презрением. Он уже не очень сожалел, что пришлось так долго простоять на том месте, где когда-то стояла мусорница. Он был уверен, что девочку скоро освободят, она вернется в школу, и все встанет на круги своя.
Он только на минуту заглянул в свое ведомство, чтобы передать кое-какие распоряжения заместителю, и сразу направился в школу. Надо было восстановить порядок, провести несколько уроков вместо сорванных.
Однако едва Илья Ильич вошел в школу, как все его надежды рухнули: в школе – ни души, лишь уборщица понуро слонялась по пустым классам с длинной метлой в руках.
Всю ночь Илья Ильич не спал. Встал он чуть свет, поспешил на улицу: не терпелось посмотреть, начнут ли собираться ученики. А если кто-либо не придет, надо будет зайти к директору школы, посоветоваться, что делать. Может, послать учителей к родителям, да и самому сходить, поговорить с людьми, убедить их, что школа будет работать без помех.
Предвесенний рассвет робко, как бы нехотя, но все больше и больше уступал место знобкому слякотному утру. На улице черным-черно, хоть небо сыпало что-то похожее на снег. Первый месяц весны, а подмораживало… Холод в эту пору сильней донимает человека, чем даже в разгар зимы. Илья Ильич поднял воротник своего надежного в подобных случаях пальто, однако все равно холодило, дрожь так и пробирала все тело.
Он быстро пошел по улице к школе. Озноб по оставлял его, под ногами хлюпало. Чтоб не ввалиться впотьмах в какую-нибудь яму, Переход все время смотрел под ноги.
…На дороге стоял столб, какого раньше здесь не было, и Илья Ильич чуть не стукнулся об него лбом. Столб мокрый и, верно, до неприятности холодный…
Илья Ильич удивленно поднял голову и – отшатнулся, словно чем-то острым ударили его в грудь: на перекладине вверху что-то висело… Озноб сковал ноги и руки, страх вдавил голову в воротник, и уж не поднять глаз, чтобы рассмотреть…
Он бросился бежать. Бежал, не разбирая дороги, брызги грязи разлетались из-под ног. И не знал Илья Ильич в ту минуту, почему он бежал: то ли спасался от жуткого зрелища, доселе невиданного, то ли за помощью к людям, то ли просто хотел убежать из местечка, чтоб никогда больше не видеть ни этой школы, ни учителей, которые пустили в класс фашистов, ни семьи своей, которая вот уже скоро год не дает ему жизни…
Не заметил, как добежал до квартиры директора. Остановился под окном на улицу, постучал. По лбу, щекам, за шею текло что-то холодное, и не понять, пот это или снежная пороша, сыпавшаяся с хмурного неба.
– Одевайтесь! – закричал Илья Ильич своему коллеге. – Скорей одевайтесь, бежим!
Директор выскочил с пальто в руках.
– Что такое, Илья Ильич, что случилось?
– Бежим!
Илья Ильич побежал к школе. Директор едва поспевал за ним, надевая на ходу пальто.
Неподалеку от школы Переход остановился, подождал директора.
– Видели? – спросил он, показывая на виселицу. – Когда они это сделали?
– Не знаю, Илья Ильич, – растерянно, плаксиво, испуганно ответил директор. – Вчера я здесь почти не был…
Плечом к плечу, словно держась за руки, они приблизились к столбу. Илья Ильич глянул на перекладину и задрожал еще больше: он узнал девочку, которую день назад увели из школы гестаповцы. Скорбно понурил голову, снял шапку и долго стоял, глядя лишь на мокрый комель столба. Небо все сыпало и сыпало порошу с дождем, воротник пальто обвис, ледяные струйки стекали по седым волосам, за шею. Но он не чувствовал этого, он думал о девочке. И представлялось ему – девочка и сейчас дома с отцом и матерью. Только не такая, как тут, а маленькая, с беленькими и мягкими, как шелк, волосенками, с сине-голубыми глазами. Когда-то Илья Ильич носил ее на руках. Отец ее тоже учитель. Работали они в одной школе, дружили, хоть тот был помоложе. В первые дни войны много спорили, даже ссорились. Сейчас он в партизанах… А мать, верно, и не знает… Или знает, да не может прийти, или уже нет в живых…
– Наденьте шапку, – сказал директор, дрожа от холода, комкая в руках кепку с подшитыми наушниками. – Голову застудите.
Он не так жалел эту голову, как сам хотел скорее надеть кепку: появилось ощущение, будто волосы, брови начали смерзаться.
Илья Ильич молчал. Директор заглянул ему в лицо и отвернулся, вздохнул глубоко: теперь только заметил, что его давний друг горько плачет.
Жарский оставил мысль о школе, переживал, мучился и совсем не знал, куда кинуться, куда податься, к кому обратиться за советом, у кого просить помощи. Илья Ильич к концу лета возобновил свои хождения по деревням. Он пришел к убеждению, что, если бы не комендант, не его чудовищное вероломство, школы могли бы работать в местечке. Вся беда, гарнизон здесь большой, комендант попался никудышный, с черной душой. Там, где нет гарнизонов или поменьше они, не будет подобных помех.
И пошел Илья Ильич с этой убежденностью по школам, квартирам учителей. В неустанных скитаниях своих попал он и в хату лесника, где жил Генька Мухов.
Был уже вечер. Над хатой тихо шептался осинник, изредка сбрасывая на обросшую мохом крышу желтый лист. Поодаль тускло отсвечивал густой ольшаник, а еще дальше поднимался, закрывая горизонт с запада, молодой ельничек. Возле хаты ни души, хоть явно хозяйка где-то здесь: на огороде, что тянется в глубь леса, стоит корзина с молодой картошкой, рядом лежит лопата. Из хаты доносится капризный плач ребенка.
Илья Ильич толкнул дверь, но она оказалась на засове. Побренчал щеколдой, и детский плач утих. Но никто к двери не подошел. Может, в окно смотрели на пришельца? Илья Ильич постучал еще раз и хотел уже повернуть назад, как вдруг к ногам шмыгнула, поднялась на задние лапы огромная, с доброго волка, собака.
– Гол, гол! – закричал кто-то из леса, и собака присела, виновато высунув язык.
Илья Ильич обернулся. Из сосняка вышел с корзиной на локте молодой, до черноты загорелый человек в военной гимнастерке и в черных штатских брюках, забранных в сапоги. Головки сапог были влажны от росы.
– Неужели такой урожай на грибы? – удивился Илья Ильич, заглянув в корзину, словно человек этот знаком ему давным-давно.
– Грибов-то много, да собирать некому, – ответил Генька. – А вы к леснику?
– Нет… – Илья Ильич замялся. – Я, видите ли… Давайте сразу познакомимся, – он протянул полусогнутую руку, будто хотел что-то взять. – Я Переход, заслуженный учитель.
– Мухов, – назвался Генька.
– Товарищ Муха?
– Мухов, – повторил Генька.
– Ага, извините, тогда я, пожалуй, к вам.
– Лёдя! – крикнул парень в окно, и в тот же миг дверь в сенцы отворилась.
В хате Лёдя боязливо уставилась на незнакомца, но, узнав, что это не полицейский и не партизан, успокоилась. В белом легоньком сарафанчике, босая, смугленькая от загара, она чуточку напоминала куклу. Возле кровати висела люлька, прикрытая тонкой домотканой постилкой.
– Старики наши где-то загостились, – улыбаясь, сказал Генька, – вот мы и остались вдвоем.
– Втроем, – поправил Илья Ильич. – Это же ваша? – с умилением глянул он на люльку.
– Мой наследник, – с гордостью ответил Генька, а молоденькая мама свесила косички над люлькой, засмеялась, счастливая.
– У меня к вам чисто профессиональное дело, – начал Илья Ильич.
Генька слушал, чувствуя себя неловко: никогда никаким учителем себя не считал, хоть проучился три года в физкультурном институте.
– Будете преподавать физкультуру, – говорил ему Илья Ильич, а он понятия не имел, как это преподавать ее: учить детей играть в футбол или объяснять им, что такое спорт и для чего он нужен?
– Если не физкультуру, то военное дело, – продолжал Переход. – Теперь таких людей поискать…
Военное дело было Геньке больше по душе, только обидно даже думать, что придется детьми командовать.
Разговор, пожалуй, затянулся бы, но в хату вошел полицай, напился воды, кивнул хозяину, чтоб вышел.
– Это что за тип? – спросил он в сенях так, что и Илья Ильич услышал.
– Заведующий отделом народного образования, – ответил Мухов, – заслуженный учитель школы.
– Наплевать, что он заслуженный! – прохрипел полицай. – Документы проверял?
– Я и так ему верю! – раздраженно проговорил Генька. – Он мой гость.
– Смотри, а то голова в петлю гостить пойдет! – пригрозил полицай и грохнул дверью. В окно было видно, как хозяйская собака завиляла хвостом перед ним, не брехнула, не преградила дорогу, как обычно, когда кто-то из чужих выходил из хаты.
Генька вернулся растерянный, глянул на гостя смущенно. Лёдя сделала вид, что перепеленывает ребенка, ни на что не обращая внимания.
– Что ему надо? – брезгливым тоном спросил Илья Ильич.
– А черт его, извините, знает! – ответил Генька. – Шныряют тут то одни, то другие. Минуты спокойной нет: сегодня полицаи, завтра партизаны. Дверь не закрывается, даром что место считается тихим, неприметным.
– И партизаны бывают? – заинтересовался Илья Ильич.
– Бывают, – продолжал Генька, – тут их лагерь неподалеку. Они и зимой наведывались. Командир отряда заезжал. Посидели, поговорили…
– Может, Сокольный? – глаза Ильи Ильича засветились любопытством.
– А? Что?.. – Генька будто язык прикусил. – Вы знаете Сокольного? Знакомы? Так?
– Наш учитель, – довольно и даже с оттенком гордости объяснил Переход. – В Красном Озере преподавал язык и литературу.
– Ах, вот как… Значит, он и заезжал. Мы с ним когда-то учились в одном городе, хотя и не были знакомы. Так? Потом встретились в воинской части в первые дни войны…
Мухов замолчал, как-то болезненно скорчился на табуретке, исподлобья посматривая на Лёдю.
– Меня весьма и весьма интересует этот человек, – доверительно заговорил Илья Ильич. – Был бы рад встретиться с ним. Некогда я посылал ему письмо, но ответ получил от райкома. Правда, не так скоро, но получил… Девочка одна передала…
И тоже замолчал, грустно-потерянно понурившись. И, наверное, уже в тысячный раз пред ним замаячила виселица возле школы, девочка, светлая, худенькая, та, которую когда-то носил на руках…
– Неприятным для меня было то письмо, – снова заговорил Илья Ильич, – весьма неприятным. Хотел даже отыскать райком, объясниться… Меня бы пропустили, меня тут все знают. Понимаете, обозвали авантюристом, чуть не провокатором! А разве это так? Я хочу добра людям, отдаю все, что у меня есть, а они говорят – партизанских детей учи, если хочешь заниматься педагогической деятельностью. Но какая разница?..
Начинало смеркаться. Во дворе кто-то прошмыгнул мимо окон – один раз, второй… Илья Ильич настороженно приподнялся, а Генька подошел к окну, уставился в полумрак. Долго смотрел.
– Нечистый их тут носит! – зло проговорил он и неуверенно вернулся на свою табуретку. Лёдя побледнела, дрожащими руками принялась укутывать ребенка.
– Кто там? – как мог спокойнее спросил Илья Ильич.
– Полицаи, сволочи!
– Что же они, каждый день тут?..
– Да не сказал бы, что каждый. Раньше побаивались лазить, если и приходил который, то тайными тропками, да и то на минуту. А сегодня что-то много их, давно торчат.
– Много? – Илья Ильич забеспокоился.
– Целая свора! – возмущенно продолжал Генька. – Залегли в кустарнике. Шел я сюда – останавливали. Осмелели, сволочи, так? Верно, что-то чуют… Вы оттуда? Правда ли, что идет большая сила на этот лес?
– Какая сила?
– Ну, немецкая, какая же еще!
– Не знаю, не слышал. – Илья Ильич хмуро поскреб подбородок. – Мне об этом не говорят, и я такими вещами не интересуюсь. Понимаете?
Мухов понурил голову.
– И я не очень-то интересуюсь, – вздохнув, пробормотал он. – Однако же куда денешься? На небо не прыгнешь на это время. Так? Лёдечка! – подошел к жене. – Ты обуйся на всякий случай и маленького одень.
– Значит, у них здесь засада, так я понимаю? – начал догадываться Илья Ильич. – На кого же?.. Ага, понятно, на кого… Товарищ Муха… Мухов! Может, нам не следует сидеть сложа руки? Может, мы должны… А? Товарищ Мухов!
– Что должны? – Генька судорожно поглаживал одной рукой косы жены, а другой помогал ей закутывать ребенка. – Что мы или, к примеру, вы должны?
– Ну, вы же сами… вы же сами говорили… – растерянно продолжал Илья Ильич. – Тут недалеко наши. На ваших и на моих глазах готовится что-то страшное… А как же мы?..
– Вы считаете, что нужно сбегать к партизанам? – вдруг мягче и теплее спросил Генька. – Так?
– Надо, товарищ Мухов, надо!
– В самом деле, – согласился Генька. – Только как это сделать? Эти сволочи, что тут сидят, наверняка следят за нами. Но перехитрить их можно… У меня тут есть одна норка на всякий случай. Знаете, беда всему научит: выкопал в свободное время. По ней можно проползти до самого ельника, а там – тропинкой – в глубь леса.
– Вот и ладно! – одобрил Илья Ильич. – На дворе стемнело, никакой бандит не заметит. Надо так и сделать, товарищ Мухов. И немедленно! Это, знаете, наш долг. Может, все это и зря, полицейские псы отойдут отсюда не солоно хлебавши, но партизаны должны знать, где роется для них яма. Раз мы с вами вот теперь знаем, то и они должны узнать.
– Тихо, не плачь, – шепнул Генька жене, прижимавшейся к его руке щекой. И повернулся к Илье Ильичу: – Вы сказали то, о чем и я думал. Так? Мы советские люди. Что до меня, то я готов на все. Успокойся, Лёдя!.. Я покажу вам свой подземный ход, выведу в лес, к тропинке на их заставу. Тут недалеко…
– Позвольте, – удивленно забормотал Илья Ильич. – Вы человек, так сказать, местный, знаете здесь все… Да и моложе меня… Как же так? Я никогда здесь не ходил, могу заблудиться. Какая же помощь будет от меня?..
– Да тут и ребенок не заблудится! – заспорил Генька. – Я бы и сам пошел, но войдите в мое положение… Разве могу я покинуть их в такую минуту? Так? Лёдя, да успокойся ты, ребенка разбудишь! Были бы вы на моем месте… Семья у меня, понимаете? Семья!..
Илья Ильич задумался. Была и у него когда-то семья, хорошая, дружная. Любили его, уважали… А теперь нет никого… И дома все, на месте, и – нет семьи, нет прежней теплоты, безграничного доверия.
Потерев подбородок, он наконец сказал:
– В крайнем случае, проводите меня хотя бы до половины дороги, а дальше я сам доберусь. Вернетесь сразу домой.
Генька решительно поднялся и, видимо, резко отнял от Лёди свою руку, потому что она в отчаянии упала на кровать и начала громко, безудержно рыдать. Хлопец подошел к окну, с минуту всматривался во мрак, потом повернулся к Илье Ильичу, неприветливо сказал:
– Пошли, выведу вас в чащу!
Переход тяжело встал, а Генька еще долго что-то искал в потемках, собираясь.
Когда они вышли в сени, в лесу прогремели первые выстрелы. Генька тотчас прыгнул назад в хату. Лёдя с ребенком на руках панически заметалась по комнате.
– Сюда! – крикнул ей Генька и ловко откинул широкую половицу.








