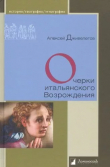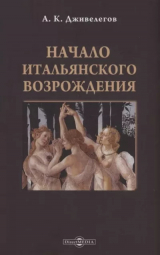
Текст книги "Начало итальянского Возрождения"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Настроение, созданное светской культурой в городах, как уже было замечено, распространилось и на те слои общества, которые не принадлежали к городскому классу. Уже в XII веке мы встречаем течения, коренным образом противоположные церковной точке зрения, враждебные или аскетическому, или теократическому началу, или обоим им вместе. Протест против аскетизма при этом разветвляется: он направляется то против самой идеи аскетизма, то против ее носителей, то есть против монашества.
Аскетизм проповедует порабощение чувства. Новые течения прославляют самое могучее и самое ненавистное аскетам чувство – любовь. Рыцарская лирика служит первым ярким выражением этого течения. Любовь рыцарской лирики не носит того полумистического идеального характера, которым проникнуто служение даме в рыцарском эпосе. Здесь любовь – настоящее человеческое чувство, знойное, как солнце юга, порой реальное до грубости, и опять-таки нет случайности в том, что родиной любовной рыцарской лирики был торговый Прованс. Песни провансальских трубадуров, все эти альбы, серенады, канцоны, благодаря своему понятному всюду бодрому, жизнерадостному настроению, проникали во все страны культурной Европы, далеко выходили за пределы рыцарских кругов и всюду вытесняли аскетическое мировоззрение.
Другое течение, протестовавшее против аскетизма, шло не из рыцарской, а, как это ни странно, из духовной среды и тоже родилось в XII веке. Представителями его были бродячие школьники, ваганты или голиарды, как их называли тогда. Это были обыкновенно великовозрастные юноши, очень способные ценить жизненные блага, но обучающиеся в церковных и монастырских школах, где им внушали, что все земное – тлен. До XII века они спокойно сидели на своих скамьях, степенно оканчивали свое учение, превращались в степенных священников, обзаводились домоправительницами[7] и проживали век среди своего прихода. Но когда в воздухе повеяло новыми настроениями и общество стало сниматься с насиженных мест, кто на войну, кто на торговлю, кто в поиски за новыми местами для поселения, не вытерпела и голия. Голиарды стали переходить из города в город, добывая себе пропитание пением церковных псалмов, а иногда и обыкновенной милостыней. Их очень любили жены горожан, всегда готовые накормить, напоить и дать ночлег веселым бурсакам; сами бюргеры смотрели на них довольно косо, хорошо зная их донжуанские повадки. В этих странствованиях, в постоянном соприкосновении с горожанами, из голиардов постепенно выдохся весь церковный дух и явилось совершенно мирское мировоззрение. В их латинских песнях появляются мотивы, заимствованные, во всяком случае, не из обычного круга школьного преподавания[8]. Они прославляют красоты природы, прелести женщин, наслаждения любви, вино, игру в кости и прочие удовольствия. Лира их очень богата, оттенки необыкновенно разнообразны, они довольно хорошо знают классиков. Если прибавить, что голиарды, как и провансальские трубадуры в своих сирвентах, громят духовенство и папу, часто делают вылазки против религии, то будет ясно, что протест против средневековой культуры становится уже более или менее сознательным.
Настроение, которым проникнуты песни трубадуров и вирши голиардов, создалось, как указано, в городах, но не сами горожане были его первыми выразителями. Это объясняется очень просто. Горожане были практики, и им особенно в первое время было не до сочинительства, но, когда благодаря политическим условиям положение буржуазии упрочилось, стали появляться признаки мирского мировоззрения и у них. Это относится уже к XIII веку. Правда, мировоззрение буржуазии в идейном отношении было удивительно скудно, никаких общих принципов оно не проводило и направлялось главным образом интересами повседневной жизни. Поэтому литература, выросшая в городах, – прежде всего бытовая литература. Она всего охотнее занимается людьми, и мы всего лучше узнаем из нее именно отношение горожан к людям. Произведения этой повествовательной литературы – итальянские новеллы, французские фаблио, немецкие швенки – имеют одну цель: забавлять горожанина в часы его досуга. Соответственно культурному развитию горожан в разных странах меняется содержание рассказов. В новеллах сюжеты богаче и разнообразнее, в фаблио все сюжеты одного сорта – смехотворные. Поучительно в них то, как эти рассказы относятся к людям других сословий. Рыцаря и виллана эта литература недолюбливает и охотно вышучивает того и другого, иногда зло, иногда добродушно. Зато по отношению к монахам и другим духовным особам в ней нет двух взглядов. Большинство фаблио и швенков и многие новеллы посвящены описанию всевозможных проделок монахов всех орденов и званий. Тут изображается их шарлатанство, их мнимые чудеса, их чревоугодие и попрошайничество, их корыстолюбие и больше всего их распутство. Фигура получается необыкновенно яркая и отталкивающая. То же отношение к духовным особам, но уже осложненное заметным принципиальным протестом, проникает и в другой вид литературы, возникшей в городах, – цикл романов Лисе.
Таким образом, из городов, откуда шла свобода от крепостного права, шла и свобода от тисков церковной культуры. Конечно, в XII и XIII веках было достигнуто очень мало, но это были очень определенные предвестники того, что должно было явиться в следующие столетия. Ошибиться в диагнозе тут совершенно невозможно, и, по мере того как выясняется вполне хозяйственный переворот, первые признаки которого мы описали, назревает понемногу и переворот культурный. Их связь между собой понятна, ибо и экономические факты оказывают свое влияние, проходя через психическую среду, то есть ту среду, которая является лабораторией всех вообще общественных и культурных явлений. Хозяйственный переворот не получил в науке особого названия. Культурный переворот зовется [Возрождением].
II
Италия – колыбель Возрождения
Возрождение – это культурный переворот, стоящий в тесной связи с переворотом хозяйственным, выражающийся в росте индивидуализма и мирской точки зрения, в упадке церковной идеи и в усилении интереса к древности. Если вдуматься в эту формулу и принять во внимание общественный строй Европы в XIII-XIV веках, то сделается ясно, что этот переворот впервые мог сказаться в ярких и несомненных фактах только в Италии. Это объясняется двумя группами причин. Во-первых, Италия никогда не видела такого блестящего расцвета различных сторон средневековой культуры, как заальпийская Европа, и раньше создала условия, разлагавшие эту культуру; во-вторых, в заальпийской Европе не сохранились и не могли сохраниться такие переживания античной культуры, какие сохранились в Италии.
Феодализм привился в Италии слабо. Там целые области, как Равенский экзархат и Романия с марками на севере, как значительная часть юга, никогда не подпадали под продолжительное и прочное господство германских завоевателей. Но даже и в остальных ее частях, где господство германцев – тут речь идет, главным образом, о лангобардах – длилось долго и было организованно, феодальный строй по многим причинам установился лишь отчасти. Поэтому он оказался более податливым и не мог, как на севере, оказать такого сопротивления, когда явились разлагающие его условия. А они, вдобавок, явились раньше, чем на севере.
По своему географическому положению Италия прежде, чем другие страны Европы, вступила в тесные торговые связи с Востоком (с Левантом, как говорили тогда) и прежде других воспользовалась выгодами этих связей. Особенно быстро пошло ее торговое развитие со времени крестовых походов. Крестоносцы перевозились на Восток в галерах итальянских городов; те же города – во главе других Венеция, Генуя и Пиза – пользовались случаем, чтобы основаться в завоеванных у мусульман сирийских портах, получали на месте чуть не даром лучшие продукты Востока, которые втридорога продавали в Европе. Их обороты росли, возбуждали аппетиты других городов, и мало-помалу главные приморские и многие неприморские города Италии обзавелись конторами в важнейших левантских портах. Торговля с Левантом оказывала влияние даже на те города, которые прямого участия в торговле не принимали[9].
Все социальные и культурные последствия торгового развития, описанные выше, явились в Италии раньше, чем в Северной Европе. Купцы богатели, научались видеть в богатстве общественную силу, добывали себе тем или иным путем свободу от власти помещика. В городах появлялся вкус к комфорту, к реальным земным удобствам и благам; в городах люди привыкали жить не по указке, а так, как нравится им самим, привыкали управляться, думать и верить по-своему. В городах мало-помалу выросла свободная, цельная, сознающая себя личность.
Труден был процесс этого роста, а в Италии он был труднее, чем где бы то ни было. Страна, где были слабы центростремительные политические силы, столь энергично действовавшие в Англии и во Франции, давно успела разбиться на целый ряд раздельных политических существований. Развитию этих раздельных существований не мешали никакие сколько-нибудь значительные силы, как это было в Германии, где княжеская власть всегда зорко сторожила за самостоятельным городом и проглатывала его при первой представившейся возможности. Поэтому в итальянских городах-государствах, предоставленных самим себе, раньше, чем где-нибудь в новой Европе, начался процесс зарождения твердого государственного начала: феодальная дробность стала уступать место принципу политического единства. Единство власти сначала в форме республики, затем в форме абсолютизма мелких тиранов мало-помалу покончило с режимом мелких соединений наполовину корпоративного, наполовину политического характера, которые стояли между индивидуумом и государственным началом. Личность, освобожденная от групповых пут, оказалась предоставленной самой себе. То был факт, благоприятный для ее культурного роста, но рост личности благодаря тому же факту часто принимал уродливые формы.
Личность уже не находит опору и защиту в группе, к которой она раньше принадлежала и которая теперь доведена до полного упадка. Человек должен на собственный риск и страх вести борьбу за существование. Нет ничего удивительного, что в нем вспыхивают и разгораются страсти, которых раньше не было заметно, что учащаются преступления и насилия, что сила становится главным божеством, а успех – моментом, все оправдывающим. Понятия о нравственности и добродетели сильно изменяются. Люди, подобные Эццелино да Романо, вызывают скорее страх и ужас, чем осуждение.
То была другая сторона роста личного начала, столь же необходимая. Она только лишний раз подтверждает, что рост личности был основным фактом итальянского развития в эту эпоху, очень определенно окрашивавшим всю современную культуру.
В том же направлении действовали и другие моменты общественного развития.
Теократическая идея и все ее последствия господствовали над сознанием итальянцев далеко не в такой сильной степени, как в других европейских странах, хотя естественно было бы ожидать, что у подножия папского трона она будет властвовать, как нигде. Это и понятно. Для остальной Европы папа был понятием более или менее отвлеченным: в нем чтили святого, преемника апостола Петра, главу христианской церкви, облеченного властью разрешать от грехов и доставлять вечное блаженство. Словом, для Европы папа – идея, раз навсегда определенная и привычно импонирующая религиозному сознанию. Не то было по эту сторону Альп. Для итальянцев папа – свой. Они видели на близком расстоянии человека вполне реального, которого они помнили кардиналом часто и раньше; им трудно было связывать с ним отвлеченную идею; они знали по именам его любовниц, меню его пиров, все его слабости и недостатки. Фокусы, которые далекой Европе казались чудесами, были им видны очень хорошо и давно перестали их обманывать; ведь они жили за кулисами великого католического балагана.
К религии итальянец, рано воспитанный городской жизнью, относился также иначе, чем немец или северный француз. Те почти всегда удовлетворялись той религией, которую давала им церковь, а церковь, занятая мировыми вопросами, ревниво оберегающая свою территорию от всяческих враждебных поползновений, совсем позабыла о том, что у людей могут быть религиозные потребности, не предусмотренные церковными статутами. Те застывшие формы богопочитания, которые церковь предлагала верующим, перестали их удовлетворять, ибо верующие не видели Бога, заслоненного от них церковью. А религиозная потребность была, только прежние люди не умели ее выражать. Когда в городах человек стал относиться более сознательно к жизни, он ясно формулировал себе потребность личного общения с Богом. Церковь ему в этом отказывала; он стал добиваться его собственными силами и обратился к Евангелию. Так возникли ереси. Они возникли в городах, потому что в городах люди стали развитее, лучше понимали и лучше умели выражать свои стремления. В середине XI века в Милане появилась ересь патаренов; в начале XII века в Тоскане проповедовала какая-то секта эпикурейцев, о которой позднее историк Виллани говорил очень неодобрительно; в первой четверти XII века возникла в ломбардских городах ересь катаров, не прекращавшаяся в течение всего столетия; в середине XII века Арнольд Брешианский привез из Франции новую ересь, которая свила гнездо под самой кровлей Ватикана, в Риме; во второй половине XII века тоже из Франции было занесено вальденское движение, в начале XIII века возникло иоахимитство. Церковь была занята и преследовала эти ереси очень снисходительно. Только в тех случаях, когда ересь порождала политическую и общественную смуту, за нее принимались вплотную.
Все эти ереси отличались двумя особенностями. Или они старались осуществить заветы Евангелия о нравственной жизни, либо были сплошь проникнуты мистицизмом, который пользовался популярностью потому, что уничтожал грозное, устрашающее величие Божества, сообщал ему чувствительную, сострадательную душу и приближал его к человеку. Оба эти элемента слились в самой популярной ереси XIII века, которую папство, понявшее наконец, что ереси трудно искоренить, так как они вызваны общественными потребностями, догадалось просто-напросто узаконить. Это было францисканство[10]. Оно вышло так же, как и предыдущие, из города: святой Франциск был горожанин. Основанный им монашеский орден спас церковь от внутреннего разложения тем, что дал людям ту религию, которую они хотели. Франциск приблизил Бога к человеку, приблизил монашество к обществу, превратил веру в любовь, чувство более близкое и понятное народу. Он не отказался и от аскетизма, но его аскетизм уже иной. То аскетизм перерожденный, смягченный, умеющий понимать человеческую природу и уступать ей, когда нужно; в нем нет ни насилия, ни педантизма; в нем чувствуется, что его породила ересь, а не ортодоксальная католическая догма.
Так, итальянская буржуазия создала себе религию. Она создала себе и литературу, создала и искусство, но, чтобы создать литературу и искусство, недостаточно было тех элементов, которыми люди воспользовались, чтобы реформировать свою религию: нужны были другие, которыми нельзя было воспользоваться при реформе религии, ибо они не только противоречили католической догме, но были враждебны христианству. Это – античная культура. Она не умерла на Западе после крушения западной империи, ее следы остались во многих других крупных переживаниях, но ни одна страна не находилась в этом отношении в таких благоприятных условиях, как Италия.
Римская традиция сохранилась прежде всего в фактах языка. Латинский язык вообще отличается большой устойчивостью, и, как более развитой язык, он всегда успешно боролся с другими, с которыми ему приходилось сталкиваться благодаря случайностям политической истории. А в Италии условия борьбы для него были особенно благоприятны в том отношении, что другие элементы не были сильны. И латинский язык умел всегда побороть другие. Тут нужно различать два течения. Как литературный, книжный язык, латинский в Италии не имел соперников; пущенный в народный разговорный оборот, он видоизменялся под влиянием других элементов, пока не сделался итальянским. И мы знаем, что в первое, наиболее критическое время литература не только жила латинским языком, но в значительной степени усвоила с ним вместе и классические предания. Такие поэты, как Альфан и Гуайфер, очевидно, питаются из классического источника; писатель начала X века, который известен под именем панегириста Беренгара, жалуется, что стихи, которые он пишет, не удивляют никого и никем не ценятся, так как всякий может писать такие же. Мало того, классические образцы перестали быть исключительно достоянием школы уже к началу того же X века. До нас дошел любопытный образец этого рода – песня моденских стражников (904 г.), характерная в том отношении, что обнаруживает начало перехода античной традиции из школы на улицу. Для XI века у нас есть такой надежный свидетель, как придворный поэт императора Генриха III, Виппон, который уверяет, что в Италии латинский язык широко распространен и что им хорошо владеют все итальянцы. В начале XIII века св. Антоний Падуанский проповедует по-латыни и народ, который говорит уже на volgare, его еще понимает. Теперь трудно проследить средние стадии того процесса, исходный пункт и завершение которого нам так хорошо известны, те стадии, когда латинский язык постепенно сделался вполне народным и мало-помалу перешел в итальянский. Конечно, как книжный язык, латинский все время держался независимо от этой эволюции, и, когда он пропал из народного обихода, претворившись в итальянский, и постепенно сделался чужд широким слоям общества, он продолжал культивироваться исключительно в школах и монастырях.
В Италии никогда вполне не умирал даже греческий язык. В южных провинциях, в особенности в Калабрии и на острове Сицилии, благодаря продолжительному византийскому господству, знание греческого языка держалось без перерыва; греческий язык был там господствующим языком. Его знают также и купцы, имеющие дела в Константинополе и вообще в восточной империи. Помнят его изредка и монахи; так, про одного минорита XIV века рассказывали, что он получил греческий язык в качестве особой милости от Бога. Но этот греческий язык был язык разговорный, не литературный, и не всякий калабрийский грек понимал греческих классиков. Сколько хлопот причинил Боккаччо и Петрарке добытый ими именно в Калабрии "грязная скотина" Леонтий Пилат, перевиравший Гомера в пьяном состоянии! Но, вообще говоря, "звуки божественной эллинской речи" в Италии умолкли гораздо основательнее, чем звуки речи латинской.
Фактами языка переживание античной традиции, конечно, не ограничивается. Другая непрерывная нить от древности идет в школьном преподавании. Светские школы средневековой Италии восходят к римским школам императорской эпохи. Заведуют ими обыкновенно ученые грамматики, которые продолжают заниматься своей незаметной, неблагодарной, но крайне важной культурной работой и при остготах, и при лангобардах, и под владычеством каролингов. Фактов, указывающих на деятельность светских школ, сохранилось очень мало, но мы все-таки имеем возможность проследить ее непрерывно от VII века до XI, прежде чем мы сделаемся свидетелями их превращения в итальянские университеты.
В деловой традиции, преимущественно в нотариальной практике, продолжают все время господствовать постановления римского положительного права, урезанные, правда, согласно скудным потребностям общества, но заимствованные несомненно из практической части Юстинианова Corpus’а, из Кодекса. Теоретическая часть Corpus’а – Дигесты или Пандекты – находилась в совершенном забвении, о них вспомнили, когда явилась необходимость серьезного изучения права. Тогда их стали изучать и комментировать глоссаторы Болонского университета.
Некоторые из деятелей римской литературы все время продолжали пользоваться популярностью в Италии, и, разумеется, никто не пользовался большей популярностью, чем Вергилий. В V и VI веках его усердно изучают в школах, в нем дивятся не столько мягкости стиха и совершенству формы, сколько умению воспеть величие Рима. Он слывет мудрецом за то, что он вместил в своих произведениях мысль античного Рима; его считают пророком, предсказавшим появление Христа, за то, что в одной из его эклог имеется довольно темный стих о каком-то младенце. В конце концов, римский поэт стал в сознании широких народных кругов каким-то полуфантастическим волшебником, и в первых иллюстрированных изданиях поэмы Данте[11] изображается со всеми атрибутами настоящего чародея, в необыкновенной шапке, в длинной мантии, с большой бородой.
Популярные в римском художественном обиходе представления аттелан, то есть народного театра, не пропали после падения империи. Они продолжали жить, сделавшись достоянием скоморохов (saltimbanchi), у которых они мало-помалу приняли национальный итальянский облик; позднее типы ателлан мы встретим в фигурах Commedia dell’arte, где персонал сделается богаче и разнообразнее, когда центром его станет Петрушка, Pulcinello.
Не исчезли даже архитектурные формы. Не только в самом Риме ряд зданий VI-XI веков построен в античном стиле, флорентийский баптистерий, восходящий, по преданию, к VII веку, своими внешними контурами, своим куполом, своей внутренней архитектурной отделкой выдает свое преемство от римского Пантеона.
Мы бы никогда не кончили, если бы стали припоминать дальше переживания римской культуры в культуре средневековой Италии. Их было много и не могло не быть много. Ведь когда в Италии античная культура осложнилась элементами христианскими и потом германскими, их взаимодействие привело к иным результатам, чем на севере. В Италии германские элементы были представлены слабо, а христианские не могли подавить античных. Под формально христианской оболочкой там жили античные, римские жизненные привычки, которые претворили в себе национальные особенности германцев.
Но присутствие античных элементов в средневековой итальянской культуре было далеко не так ясно современникам, как ясно в настоящее время нам. Больше того, современники совершенно не ощущали их, ибо старое было очень хорошо переработано в новом. Общество определяло свою культуру не по содержанию, которого не видело, а по форме, которая бросалась в глаза. Форма была церковная; официальную церковь общество в своих передовых, городских кругах уже отвергало, начало отвергать оно и культуру, на которой держался церковный ярлык. А между тем таившиеся в этой культуре античные элементы продолжали жить и, со своей стороны, облегчали переход ее в новую культуру.
Таким образом, в одном результате сошлись обе нити, каждую из которых мы рассматривали отдельно. Это тот результат, что в Италии и социально-экономические, и идейные элементы в одинаковой степени способствовали тому, что культурный переворот начался раньше, чем в Северной Европе. Его первые признаки, стадию бессознательного коллективного творчества мы уже видели. Теперь нам предстоит изучить деятельность двух людей, у которых старое нашло свое лучшее выражение, а новое впервые сказалось с полной силой. То Данте, мыслитель-поэт, и Джотто, художник.
III
Данте
Однажды на улице Вероны, как передает старая легенда, две женщины очень внимательно вглядывались в проходившего мимо них высокого, худого человека. Он был весь в красном; верхняя часть его лица была закрыта красным капюшоном. «Смотри-ка, – воскликнула одна, – ведь это тот самый, который спускается в ад и выходит оттуда, когда захочет, и здесь, на земле, рассказывает про тех, кого там видел!» – «Должно быть, ты говоришь правду, – ответила другая. – Как закурчавились у него волосы, как он загорел от адского жара и почернел от копоти!» Тот, про кого разговаривали веронские дамы, был Данте Алигьери, творец величественной поэмы, которую он назвал «Комедией» и которую потомство нарекло «Божественной». В Вероне он жил довольно долго, пользуясь гостеприимством местного тирана Кана Гранде делла Скала.
Уже при жизни Данте народ создавал легенды о нем, и это показывает, какое глубокое впечатление производила на современников его поэма. Но современники восторгались в ней совсем не тем, чем восторгаемся мы. Они ценили в ней две веши. Для одних "Божественная Комедия" была действительно божественной книгой, и они находили в ней то живое личное отношение к Божеству, которого искали в мистических учениях ересей и во францисканской религии любви. Для других, более образованных, Данте, как показывает заметка в хронике Дж. Виллани, был прежде всего ученый, вместивший в себе огромное количество всевозможных "моральных, естественно-научных, астрологических, философских и богословских" знаний.
Когда в истории литературы приходится наблюдать такое могучее влияние писателя на общество, то это всегда имеет одно значение: писатель сумел уловить и выразить настроение и мировоззрение общества с такой полнотой, что каждый – от поденщика до ученого – найдет у него волнующую его думу, осаждающую его сознание идею. Относительно Данте это более верно, чем относительно кого-нибудь другого. И вот почему. До Данте у итальянского общества не было ни одного поэта, который в своих творениях давал бы ему нечто целостное, формулировал бы ему целую систему миропонимания. "Божественная Комедия" была первым синтезом средневекового мировоззрения; в ней, как прекрасно сказано, заговорили в первый раз десять немых столетий. И все, что было создано положительного и прочного в сфере идей за эти столетия, все это есть у Данте, выраженное в величественных образах и – что гораздо важнее – переведенное на народный язык. Его религия – католичество, его философия – богословие, его наука – схоластика, орудие его поэзии – аллегория; все – средневековая мудрость.
Но, чтобы иметь такой успех у итальянцев начала Треченто, одних средневековых элементов было мало. Нужны были и другие элементы, не средневековые, новые. И в творениях Данте появляются эти новые элементы. Чтобы понять их, нужно припомнить главные факты биографии Данте.
Великий поэт был флорентиец родом. Его семья принадлежала к городской знати и всегда играла выдающуюся роль в жизни богатой всяческими треволнениями Флоренции. Время, когда родился Данте (1265), было особенно тревожное: то был разгар борьбы между гибеллинами и гвельфами, сторонниками императора и сторонниками папы; то был также разгар борьбы между аристократией и буржуазией. Семья Данте принадлежала к гвельфам и не отставала от других: его предки боролись, побеждали, терпели поражение, и как раз в то время, когда родился Данте, отец его или только что вернулся из изгнания, или еще скитался на чужбине. Данте вырос под впечатлениями политической борьбы и до конца жизни не мог отделаться от того представления, что две такие силы, как империя и папство, должны так или иначе разграничить сферу влияния. Сначала он считал правильной точку зрения гвельфов и думал, что папству должна принадлежать и светская власть, но он изменил свой взгляд, когда эту точку зрения стал проводить папа Бонифаций VIII, не жалевший ничего, чтобы утолить жажду власти, цинично отрекавшийся от своих духовных задач, чтобы увеличить церковную территорию. Не один Данте стал разочаровываться в папстве. Среди гвельфов, которые довольно долго наслаждались победой, образовалась умеренная группа; она перестала смотреть на притязания императора как на нечто беззаконное и отказалась безусловно одобрять захваты папской власти. Принципиальное разногласие мало-помалу перешло в открытый раскол. Среди гвельфов возникли две партии, умеренные стали называться "белыми", крайние сторонники папы – "черными". В это время (1300) Данте занимал уже видную должность в городе и был в первых рядах борцов. "Белые" победили, "черные" были изгнаны, бежали к Бонифацию, и тот отправил в наказание возмутившемуся против него городу французского принца Карла Валуа "для умиротворения". Вслед за принцем пришли "черные", и началась месть. Данте, бывший в это время в отлучке, вместе с другими был присужден к изгнанию (начало 1302 г.) и уже больше не возвращался в "прекрасную овчарню, где спал ягненком" и куда всю жизнь он стремился, изнывая от тоски.
Началась скитальческая жизнь, полная лишений. Гордый дух человека, не всегда "снисходившего до разговора с мирянами", познал, как "горек бывает чужой хлеб и как тяжело подниматься и спускаться по чужим лестницам". Но в великом изгнаннике таились неисчерпаемые силы духа. Он странствовал по свету, учился и творил. Кроме "Молодой жизни" и части "Пира", все его произведения написаны в изгнании. Напряженная работа наполняла его существование, в нее он вкладывает все – и воспоминание прошлого, и впечатления настоящего, и чаяния будущего. По мере того как складывалось его мировоззрение, шла вперед и его поэма. Когда она была закончена, у него уже не оставалось ни надежд, ни иллюзий. Уныло бродил он под величественными византийскими базиликами своего последнего убежища, Равенны, пока смерть не дала ему того, чего он тщетно искал при жизни – мира.
Как всякий гениальный человек, Данте весь соткан из страстей. Но он первый из средневековых людей не испугался своих страстей, не стал их подавлять в себе, скрывать от других, а сделал их в поучение миру, "живущему в скверне", всеобщим достоянием. Его первая страсть – любовь.
Однажды, когда Данте было всего девять лет, его отец был приглашен к своему соседу и приятелю Фолько Портинари; он пошел, взяв с собою сына. Тут в толпе детей мальчик увидел восьмилетнюю девочку, дочь Портинари – Беатриче, или Биче. Она была одета в пурпур, "благороднейший цвет"; оживленная и нарядная, она показалась Данте ангелом, хотя не сказала с ним ни слова. Девять лет он не встречался с нею более, потом случайно увидел ее на улице, когда она, вся в белом, шла с двумя дамами. Беатриче узнала Данте и "в своей неизреченной милости" поклонилась ему так ласково, что юноша почувствовал себя наверху блаженства. С этого дня любовь, зародившаяся в детстве, крепнет, и Данте становится поэтом. На другой день после встречи он написал свой первый сонет A ciascun’alma presa...
Всем, чья душа в плену, чье сердце благородно,
Кто эту песнь прочтет и даст мне свой ответ,
Всем, чье суждение ко мне придет свободно.
Во имя их царя, Amore, шлю привет[12].
Потом Беатриче вышла замуж и спустя некоторое время умерла на двадцать четвертом году жизни. Данте так и не пришлось перемолвиться с нею ни единым словом. Он, впрочем, этого и не добивался. Его любовь – целомудренная страсть, которая ищет взгляда, улыбки, приветствия; в ней совершенно нет чувственного влечения. В пересыпанной стихами книжке «Молодая жизнь» (Vita nuova), где Данте описал свою любовь, он следует заветам новой флорентийской лирики Гвидо Гвиницелли и Гвидо Кавальканти, у которых провансальские традиции осложнялись философским элементом и которые смотрели на чувство сквозь призму мистики. Любовь – чувство платоническое, а не земное; она вызывает трепет таинственной радости, не чувственное влечение; природа ее всего лучше выражается в аллегорических образах. Последовательным развитием этой точки зрения у Данте, которого смерть Беатриче поразила в самое сердце, была эволюция образа его возлюбленной в «Божественной Комедии», где в ее лице воплощается богословие. Ведь для самого Данте его поэма была памятником Беатриче.