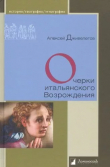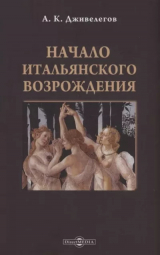
Текст книги "Начало итальянского Возрождения"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
При таком характере нельзя было разбогатеть, и действительно под старость художник остался бы совсем без средств, если бы ему не помогали Медичи. Козимо, умирая, поручил заботы о художнике своему сыну Пьеро, и тот, исполняя волю отца, подарил ему имение. Старик был сначала бесконечно рад, но год спустя возня с имением ему так надоела, что он стал просить Пьеро освободить его от хлопот. То крестьяне приходят с жалобами, то ветром сорвет крышу с голубятни, то буря разорит виноградники и фруктовые сады, то сборщики угонят скот за недоимки. "Я предпочитаю, – говорил он Пьеро, – умереть с голоду, чем думать зараз о стольких вещах". Пьеро много смеялся над простотой художника и, принявши от него имение, назначил ему еженедельную пенсию, которую художник без хлопот получал в конторе Медичи.
В последние часы пришли к нему родственники и стали упрашивать, чтобы он оставил им свое другое именьице, клочок земли в окрестностях Прато. Донателло выслушал их и сказал: "Милые родственники, этого удовольствия я не могу вам доставить. Я собираюсь – и это будет, кажется, более справедливо – оставить свой участок крестьянину, который над ним работал в поте лица. Вы же ничего там не сделали, а хотите, чтобы я подарил его вам в благодарность за посещение. Идите себе с Богом. Даю вам свое благословение".
Донато скоро умер, и его похоронили с большой пышностью в церкви Сан-Лоренцо. Там и лежат они теперь рядом: Козимо, построивший церковь, и Донателло, ее украсивший.
Этот простой человек, так радостно смотревший на мир, так любивший людей, так умевший подмечать в них хорошие стороны и находить своеобразную красоту и в силе, и в энергии, и даже в безобразии, совмещал в себе все данные, чтобы сделаться; отцом новой скульптуры. Для него индивидуальное не сливалось более в условные общие шаблоны, оно имело самостоятельную ценность и уже служило материалом для типичного. Учителем его была природа, и классики лишь помогали ему понимать ее уроки так же, как они помогали гуманистам схватывать отдельные черты нового миросозерцания. Как и гуманисты, как и Брунеллеско, Донателло создан исключительно общественной эволюцией, поставившей горожанина перед природой и приказавшей ему понимать ее.
Уже в первом крупном произведении Донателло сказались особенности его манеры. В церкви Santa Croce стоит пожелтевший уже большой алтарный рельеф, изображающий Благовещение. Он весь живой. Ангел склонился перед Девой, его появление несколько испугало ее; она приветствует его с таким видом, как будто готова бежать, но ее останавливают слова небесного посланца; на ее прекрасном лице одновременно выражаются и смущение и радость. Она с трудом может поверить в свое счастье. Табернакул (алтарная сень) выдержан весь в новом стиле. По бокам колонны с группами масок вместо капителей (их восемь и все разные – характерный признак века индивидуализма), карниз – из своеобразного орнамента, гриф выведен полукругом и украшен тремя кругами. На двух верхних углах по два ангелочка, родоначальники многочисленного роя putti, который должен был посыпаться из-под резца скульпторов Возрождения. Это не прежние условные, стилизованные амуры, а настоящие живые дети со всеми особенностями своего возраста – веселые, беззаботные, жизнерадостные шалуны, готовые петь, плясать и смеяться без конца.
Все особенности таланта Донателло, оказавшиеся здесь, выразились с полной ясностью в группе статуй, сделанных для украшения церкви Or San Michele, собора и колокольни. Лучшие из них – св. Иоанн Евангелист в соборе, св. Марк и св. Георгий в нишах на Or San Michele[34], Иеремия и Zuccone на колокольне.
Св. Иоанн сидит в спокойной позе, взор его устремлен вдаль, одна рука опирается на книгу, другая свободно покоится на коленях. Туника падает необыкновенно богатыми складками на ноги. Во всей фигуре нет ничего утрированного, беспокойного, но она вся живет: глаза блестят, лоб, слегка нахмуренный, выдает тяжелые думы, в позе видна суровая решимость. Микеланджело имел его перед глазами, когда создавал Моисея. Св. Марк еще лучше. Фигура несколько изогнута; художник воспользовался этой особенностью готической скульптуры, которая в смягченном виде отлично передает непринужденность позы. Чудесные складки туники как бы оживляют все тело. Голова овального типа, в глазах – глубокое убеждение. Энергия сквозит во всем. Микеланджело говорил, что, глядя на св. Марка, легко веришь, что люди не могли устоять против его проповеди. Св. Георгий – едва ли не лучшее произведение Донателло. Юный христианский воин со щитом у ног стоит в позе, которая выражает непреклонную решительность. Могучее, гибкое тело обрисовывается сквозь мягкую кожу панциря, голова, сидящая на длинной флорентийской шее, обличает уверенность, правая рука, откинувшая плащ, готова подняться на защиту поруганных, из-под нахмуренных бровей мечут молнии прекрасные глаза. Эта несколько мрачная решительность, terribilita, как стали называть ее потом, когда она стала господствующей чертой творчества Микеланджело, проникает насквозь облик св. Георгия. Донателло удалось передать так много мощи, жизни и движения при помощи самых скромных, почти скудных средств. Фигура не раскинулась во все стороны, в ней нет кричащих эффектов. Но зритель убежден, что апостол Марк способен глаголом жечь сердца людей, что св. Георгий может сейчас же ринуться на самую злую сечу, чтобы вступиться за свои идеалы. Даже и тогда, когда Донателло изображает настоящее движение, как в двух статуях св. Иоанна Крестителя во Флоренции (в casa Martelli и в Барджелло), он ограничивается самым скромным. В обоих случаях св. Иоанн представлен идущим, и все до последнего пальца на ноге участвует в этом движении. У природы была вырвана новая тайна.
Благородство, простота, сдержанность внешних приемов, глубина и сила внутренней характеристики – таковы отличительные особенности этой группы произведений Донателло. Здесь христианские традиции, господствующие в искусстве, еще сказываются в творчестве художника в том, что он допускает некоторую идеализацию натуры. Лица всех перечисленных статуй несомненно флорентийские, и в некоторых случаях сохранены даже те или иные подробности оригиналов, но это не портреты. Традиции заставляют художника сглаживать индивидуальное, но нигде он не приносит в жертву этим традициям верность натуре.
Донателло сам, по-видимому, не был вполне удовлетворен этими своими работами. Его молодой бурный темперамент стремится уйти подальше от гнета условной идеализации и отдаться свободному творчеству, он жаждет с головой погрузиться в натуру. И вот, когда ему выпадает на долю задача, очень близко напоминающая первую, он берется за нее совсем иначе.
В наружных нишах колокольни Флорентийского собора стоит несколько статуй Донателло, изображающих библейских персонажей. Их моют дожди, засыпает их пыль, горячее южное солнце жжет их мрамор, а между тем среди этих статуй находится знаменитый Zuccone. Только Флоренция может позволить себе такую расточительность. Донателло попробовал в этой группе статуй дать настоящие этюды. Это решение отвечало, по-видимому, тому беззаветному увлечению натурой, которое охватило художника в этот период. Сохранился очень характерный анекдот, показывающий, до какой силы доходило это увлечение.
Однажды Донателло сделал деревянное распятие и пригласил своего лучшего друга Брунеллеско посмотреть на него и сказать о нем свое мнение. Филиппо был человек прямой и сказал ему, что его Христос не Христос, а простой мужик, посаженный на крест. Донателло совершенно пренебрег задачею изобразить Спасителя, а точно скопировал нагое тело – это худой, но сильный и мускулистый человек с очень обыкновенным, некрасивым лицом. Какая поразительная разница с распятием Брунеллеско, который, не жертвуя верностью природе, сумел передать божественную одухотворенность и лица и тела так неподражаемо хорошо, что Донателло должен был признать себя побежденным.
История возникновения распятия Брунеллеско такова. Когда он произнес свой резкий приговор над распятием друга, тот несколько обиделся и сердито проворчал, что если ему не нравится, то пусть попробует сделать лучше. Филиппо смолчал, принялся за работу, а когда его распятие было готово, он зашел к Донателло и просто пригласил его позавтракать. Оба друга вместе пошли на рынок, где Филиппо купил сыру, яиц, орехов и другой снеди, положил все это в рабочий фартук ничего не подозревавшего Донателло и велел ему идти к себе, обещая догнать по дороге. Но Филиппо нарочно его не догнал, и когда он пришел домой, то застал такую картину. Донателло как очарованный стоит перед распятием, руки его, державшие концы фартука, машинально опустились, яйца и все прочее лежало на полу...
Филиппо был очень доволен признанием друга, но перед лицом истории одержал победу не он, а Донателло. В распятии Брунеллеско красоту придает именно то, чего старался избежать Донателло и чему он все-таки отдал дань в св. Марке, в св. Георгии, – традиционная, полуготическая идеализация. Распятие Брунеллеско смотрит назад, распятие Донателло – вперед. Без него не был бы возможен Христос в Pieta Микеланджело. И Донателло, несомненно, был прав, не пожелавши идти по этому пути за Филиппо.
Его статуи-портреты на кампаниле и многочисленные бюсты – лучшее его оправдание. Из статуй на колокольне собора лучшая – так называемый Zuccone, Тыква. Донателло был особенно им доволен и любил говорить при случае: "Клянусь моим Zuccone". Это – портрет.
Во Флоренции был такой обыватель, знаменитый своим безобразием, – Джованни Керикини, прозванный Тыквой. Донателло взялся его изобразить. Задача увлекала его, он работал запоем, мрамор оживал под его руками, и, глядя, как вырисовываются знакомые черты, Донателло совсем приходил в азарт. "Говори же, говори, чтоб тебя поносом растрясло!" – кричал он, и каменные брызги летели из-под его резца. Получился действительно шедевр. Худое старческое тело. Длинные руки висят как плети и не находят себе места, под складками туники чувствуются кривые ноги. Голова с огромным, почти совершенно лысым черепом, лицо – в морщинах, длинный мясистый нос, нависший над губой, рот до ушей, общипанный подбородок, десяток волосков вокруг рта, виновато-пришибленное выражение, – вот Zuccone! Пророк Иеремия и раскрашенный терракотовый бюст знаменитого Никколо да Удзано, дальнейшие опыты Донателло в портретном стиле одинаково удачные. Тут для художника, по-видимому[35], была полоса страстного увлечения натурой.
Это увлечение, как видно из перечисленных произведений, имело одну особенность. Художника особенно занимала передача человеческого лица, человеческих дум и чувств, причем для него с точки зрения художественной проблемы совершенно безразлично, что это за человек. Для него все люди имеют одинаковое право на внимание художника: будь то жалкий Zuccone, с грустной иронией относящийся к собственному убожеству, или блестящий вельможа Никколо да Удзано, политик, ворочающий всей партией Альбицци и самими Альбицци.
Но Донателло не мог остановиться на чистом натурализме. Его порывистая артистическая натура требовала все нового и нового. Быть может, вторая поездка в Рим (1432) повлияла на него в этом направлении; во всяком случае, погоня за натурализмом во что бы то ни стало сменилась жизнерадостным поклонением красоте внешних форм. Бронзовый Давид в Барджелло, проповедническая трибуна на фасаде собора в Прато и трибуна для певческого хора во Флорентийском соборе (теперь в соборном музее) – лучшие выражения нового поворота в художнике.
Давид прекрасен. На голове простая шляпа поселянина, обвитая лавром, на ногах какая-то особенная обувь, в правой руке – меч, в левой – камень от пращи, ноги топчут только что отрубленную голову Голиафа. На лице написано спокойное торжество, но сквозь улыбку радости сквозит какая-то задумчивость, облагораживающая весь образ. Во всем блеске своего нагого, не вполне сформировавшегося тела стоит он перед зрителем, открытый со всех сторон, не скованный ни нишей, ни карнизом, ни табернакулом. Давид не только сокрушил Голиафа. Он освободил от векового рабства скульптуру. Теперь она более не служанка архитектуры: перед ней открылся широкий свободный путь.
Если в Давиде поражает античная чистота и красота линий, то в барельефах, изображающих хороводы putti, – языческий дух беззаботного веселья. Этот пухлый, здоровый маленький народец родился только что. Родители его добрые католики, которые и в церковь ходят, и в Бога верят, и в грехах исповедуются, но которые давно утратили старую горячую веру горожан, борьбою добывавших своего Бога у застывшей в догматах церкви. Не Донателло виною в том, что красота заняла такое место в мировоззрении его современников. Он только что напрягал все силы своего гения на доказательство того, что в самой безобразной натуре можно найти красоту. Теперь он стал искать в натуре главным образом прекрасное и населил храмы своими крылатыми и бескрылыми шалунами, которые нимало не смущаются святостью места, поют, играют, пляшут, и, глядя на них, упиваясь их красотой, люди приходят в молитвенное настроение. У всякого времени своя вера. Люди XV века, чтобы верить, требовали красоты. Но они еще верили.
Донателло пережил еще один кризис. Под старость, когда руки уже потеряли прежнюю твердость, а глаз не мог более следить за тончайшими извилинами формы, художник должен был отказаться от копирования натуры и от таких созданий, как бронзовый Давид. Близость конца настраивала его на торжественный лад, и он отдался весь возвышенным сюжетам. Рельефы из жизни св. Антония в падуанской церкви имени святого, рельефы из жизни Христа в той же церкви, в Сан-Лоренцо и другие, частью разбросанные по галереям Европы, некоторые мадонны, отдельные статуи – вот главные произведения этого времени. Переход составляет садуанская конная статуя кондотьера Гаттамелаты – группа, носящая более яркий отпечаток увлечения классицизмом, чем какое-нибудь произведение художника.
Гаттамелата – первая конная статуя в новом искусстве, и это, быть может, объясняет, почему Донателло поддался влиянию классиков. Дух антиков особенно бросается в глаза в формах коня, массивных, неестественно тяжелых даже для боевого коня, несколько даже стилизованных. Но Донателло, очевидно, рассчитывал, что для памятника такая монументальность не повредит. Зато фигура самого Гаттамелаты, уверенно сидящего в седле, спокойно, почти небрежно поднимающего жезл, его сухощавое тело, выражение его лица – все это обличает мастера, создавшего св. Георгия.
Мадонны, страсти Христовы и чудеса св. Антония дают удивительные образцы трагического в искусстве. Художник отлично владеет техникой перспективы, хорошо вгляделся в приемы классиков, и его образы с необыкновенной силой бьют по сердцам, вызывая в зрителе отголоски той психологической драмы, которую, несомненно, переживал художник в это время и единственным памятником которой остались бронзы и мраморы, выплаканные им. То же впечатление производят статуи Иоанна Крестителя в Сиене и Венеции, св. Магдалина во флорентийском баптистерии. Знание натуры сослужило художнику своеобразную службу. Оно дало ему материал для беспощадно-тонкого изображения изможденной плоти. Тут безобразие не естественное, как у Zuccone, а искусственное. Художник рассчитывал на особенный эффект.
Мы перечислили лишь главные произведения Донателло. Чтобы подробно говорить обо всем, что выходило из его рук в течение его долгой жизни, нужен большой том. Еще больше, чем своими произведениями, Донателло действовал примером. Лучшие скульпторы следующего поколения: Бернардо Росселино, Дезидерио да Сеттиньяно, Мино да Фьезоле, Бенедетто да Майано – вышли из его мастерской или воспитались на его вещах. Особняком стоит семья делла Роббиа, которая довела до художественного совершенства старую отрасль тосканского ремесла – производство из глазированной глины. Во Флоренции и в музеях и на улицах очень часто можно видеть белые на синем фоне горельефы и бюсты. Несколько мадонн, находящихся теперь в Барджелло, необыкновенно изящны и отличаются той красотой, которую умели придавать своим произведениям мастера Треченто. На фронтоне Воспитательного дома множество медальонов, изображающих спеленутых младенцев, милы и привлекательны до бесконечности. Старший из делла Роббиа, Лука, оставил, впрочем, и одно гениальное мраморное произведение. Это певческая трибуна для собора, pendant к такой же трибуне Донателло (теперь тоже в соборном музее). Рельефы поющих детей на поперечных стенках ее бесподобны по жизненности, красоте и массе движения.
Делла Роббиа, как и Гиберти, действует на зрителя главным образом непосредственной красотой своих произведений. Они пользуются всем, что добыто до них, но их искусство по существу своему консервативно. Им не хватает той мощи, которая дает толчки, которая надолго определяет развитие искусства, которая есть признак титана. Таким титаном был в XVI веке Микеланджело. В XV веке им был Донателло. Про него сказали, что он открыл тот мир, который Микеланджело завоевал, и вообще не раз указывали на их близкое родство. Один современник Микеланджело, сопоставляя его рисунки с рисунками Донателло, говорил: или Буонарроти донатизирует, или Донато буонаротизирует.
Микеланджело и доведет до конца работу Донателло.
XV
Мазаччо
В тихом Ольтрарно на небольшой площади, затерявшейся в сети узких улиц и закоулков, стоит старая церковь, бывшая раньше кармелитским монастырем, Santa Maria del Carmine. В 1717 году она горела, но, к счастью, сгорела не совсем, и до сих пор хранит в своих стенах одно из самых поразительных сокровищ искусства.
С первой четверти XV века целые толпы народа приходили в Carmine, отыскивали полутемную капеллу рода Бранкаччи и часами и днями простаивали перед фресками, украшающими ее стены. В XV и XVI веках капелла Бранкаччи была своего рода высшей школою для художников. Они там собирались, беседовали, спорили, ссорились, учились, снимали копии. Здесь Микеланджело получил от Торреджьяно удар по носу, обезобразивший его на всю жизнь. Здесь юный Рафаэль, восхищенный, набрасывает копии, питавшие его потом в Риме.
Чем же притягивали к себе фрески капеллы Бранкаччи? Они и сейчас целы. Местами они потрескались, местами наполовину стерлись и покрылись темными пятнами, и не всякий сразу поймет, за что так превозносит их молва.
Но молва права, ибо в капелле Бранкаччи совершилось великое таинство. Там родилась новая живопись.
В 1423 году на подмостках только что обведенной стенами капеллы появились два художника: учитель и ученик. Оба носили имя Томазо, но в кругах художнической богемы у каждого была своя кличка. Старшего называли Мазолино, то есть Томазо Маленький, а младшего – Мазаччо, Томазо Чудной. Оба художника горячо принялись за дело. Учитель начал расписывать потолок, ученику достались стены. Старик писал, строго придерживаясь господствующей манеры школы Джотто. Юноша творил по-новому. Так как Мазолино скоро отозвали, то Мазаччо остался один и почти закончил шесть фресок, две из которых изображают грехопадение и изгнание из рая, а четыре – историю апостола Петра. Ему был 21 год, когда он начал, и едва исполнилось 27, когда он умер. Смерть его была столь внезапной, что многим приходила в голову мысль об яде[36].
Среди представителей художественной богемы во Флоренции Мазаччо был чем-то вроде белой вороны.
Нескладный, рассеянный, вечно о чем-то задумывающийся, способный целыми минутами оставаться без движения, с полуоткрытыми губами и устремленным в пространство взглядом синих глаз, Мазаччо недаром получил прозвище Чудного. Жизнь совершенно не задевала его своей практической стороной. Жил он уединенно с братом и со старухой матерью, в веселых пирушках товарищей участия не принимал; любовных приключений никто за ним не знал. Так как художника, хотя бы самого гениального, в то время мало отличали от маляра, то зарабатывал он всего шесть сольди в день. Вечно без денег, он был частым гостем ссудной кассы. Он никогда не помнил, кто брал у него в долг, кому он должен сам, нередко вынужден бывал являться в суд за неплатеж долгов и все-таки только в крайней нужде обращался к заказчикам за гонораром.
Современников приводил в недоумение этот юноша, который казался им не от мира сего. Между тем никто не умел так наблюдать и так проникнуть взором в окружающий мир, как Мазаччо. Это он своими синими глазами впервые разглядел изгибы гор, линии складок одежды, живые рельефы нагого тела. Это ему природа и люди впервые предстали не сквозь призму условностей стилизации, а в своем естественном виде.
Если его фрески в капелле Бранкаччи не производят большого впечатления, то это потому, что Мазаччо понятен, ибо мало отличается от последующих художников. Он находился уже по сю сторону.
И оценить его по-настоящему можно, только сопоставляя его с тем, что было до него.
Джотто развязал человека, освободил его от целого ряда условностей византийской манеры. Джотто пустил в картину природу, пейзаж, животных. Джотто научил рассказывать красками на стене эпизод. Это были гигантские толчки, и их перерабатывали последователи Джотто в течение целого века. Вперед они не пошли, новых горизонтов не открыли, и это, быть может, служит показателем всей огромности дела, сделанного Джотто. Среди учеников и последователей Джотто были крупные художники: Гадди, Орканья, творцы фресок в Пизанском Camposanto и испанской капелле монастыря Santa Maria Novella. Но то, что они сделали, было непосредственным продолжением дела Джотто. Они разрабатывали его манеру передавать настроения при помощи группировки фигур и трактовки движения.
Отношение к природе осталось то же. Ни воздух, ни перспектива, ни пейзаж, ни рисунок не стали совершеннее. Господствовал интерес к душевной жизни, к внутренним переживаниям человека. Новым был только присущий некоторым аллегоризм, тормозивший прогресс.
Таково было положение дела, когда стал работать Мазаччо. Он начал там, где кончил Джотто, и, когда он умер, живопись была подвинута так далеко, что принципы, брошенные Мазаччо, пришлось разрабатывать еще продолжительнее, чем принципы Джотто.
И чем больше наука углубляется в изучение дела Мазаччо, тем более крупные размеры принимает его фигура. Даже спокойные немецкие историки искусства говорят о быстро сгоревшем юноше как о каком-то чуде, ниспосланном небесами.
Живопись до Мазаччо и живопись после Мазаччо – две совершенно различные вещи, две разные эпохи.
Джотто открыл тайну передачи ощущений человека и толпы. Мазаччо научил изображать человека и природу.
Человеческое тело, нагое и одетое, сразу приблизилось к жизни. Посмотрите на тела Адама и Евы в сцене изгнания из рая или вглядитесь в нагие фигуры на фреске, изображающей крещение язычников ап. Петром! Исчезли сухие линии, стали чувствоваться выпуклости, под кожей обозначилась живая игра мускулов – словом, родился анатомически верный этюд. Адам, согнувшийся от скорби, судорожно прижавший руки к лицу; полная отчаяния Ева, в порыве вдруг родившейся стыдливости пытающаяся прикрыть свою наготу; юноша, ожидающий очереди, дрожа от холода, – все это шедевры, немедленно обратившие внимание чуткой к прекрасному флорентийской толпы.
Позы, выражения лиц, широкие натуральные складки одежды, сияния в виде легкого кружка над головою святого, свободно следующие за всеми его движениями, тщательная характеристика даже физиологических изменений (у присевшего, чтобы поймать рыбу, Петра кровь бросилась в лицо, сразу заблестели глаза у больного, вылеченного прикосновением тени) – все это впервые по-настоящему приблизилось к природе.
А пейзаж! Он совсем освободился от стилизации. Горы уже не заостренные, уступчатые голыши, а настоящие горы. Они то принимают мягкие очертания отрогов Апеннин, окружающих Флоренцию, как в "Чуде с дидрахмой", либо складываются в суровый скалистый пейзаж, как в сцене крещения. Земля, на которой стоят люди, – настоящая плоскость, на которой действительно можно стоять и которую глаз может проследить до заднего фона. Деревья и вообще растительность – уже не бутафория, то стилизованная, то просто выдуманная, а сама природа. Здания не выводятся затейливо сверху донизу; часто видна только нижняя половина их, но зато, если люди, фигурирующие на картине, вздумают войти в дома, от этого не произойдет никаких неудобств: крыши они головами не прошибут, стен плечами не развалят. А у Джотто и его последователей, у которых доминирует интерес декоративного эффекта, такая опасность грозит сплошь и рядом. Чем же был произведен этот чудесный переворот в живописи? Средства были простые, но Мазаччо первый стал применять их удачно. То были рисунок, перспектива и светотень. До Мазаччо мы не встречали такого твердого, легко и верно передающего естественные линии рисунка. Мазаччо стал смотреть, как все происходит в действительности. Тогда сами собою отпали и условные позы, и неестественные факты, и выдуманный пейзаж. При точной передаче фигуры и группы освободились от связанности в движении, явилась вольная группировка, которая не стесняет взора, не тяготит его противоречием с природою.
Перспектива сделала то, что на картинах Мазаччо стало чувствоваться пространство. У его предшественников был фон. Византийцы делали его золотом, итальянцы отступили от этой манеры, но фон не перестал быть фоном оттого, что гладкое золото сменилось пейзажем и архитектурным задним планом. В их картинах не хватало воздуха. Мазаччо сотворил воздух для живописи. В "Чуде с дидрахмой" глаз зрителя охватывает сразу огромное пространство: зеленые холмы на заднем плане стоят далеко, по разбросанным в разных местах между ними и группой деревьям видно очень хорошо, как велико пространство, разделяющее оба плана картины. В "Чуде с тенью" перед вами настоящая улица, по которой идет группа людей. Эта группа, с ап. Петром впереди, на ваших глазах прошла уже несколько домов, и вы ясно видите пространство, ею пройденное.
То же и с искусством светотени. Светотень служит у Мазаччо двум целям. Она, во-первых, дополняет рисунок, сообщая ему рельеф, а во-вторых, позволяет дать картине то освещение, которое лучше всего отвечает замыслу художника.
Усовершенствования в области рисунка, перспективы и светотени представляют прежде всего интерес с точки зрения истории искусства. Но все это тесно связано с рядом других вопросов, более широких, освещающих крупные проблемы истории культуры.
В деле Мазаччо нужно различать то, что является продуктом времени и продуктом его личной исключительной одаренности. Время было таково, что природу изучали со всех сторон. Она интересовала с разных точек зрения самых разнообразных людей. Общественный деятель, ведущий борьбу с церковью, проклинающей природу; гуманист, которому древние греки и римляне открыли глаза на красоты природы; поэт, воспевающий теперь эти красоты; обыватель, начинающий находить наслаждение в созерцании волшебного пейзажа Фьезоле, Поджо а Кайано, Валломброзы; художник, пытающийся схватить глазом и передать кистью то, что его окружает, – все сходились в одном – в стремлении приблизиться к пониманию природы.
Художнику эта задача должна была быть особенно близкой. Недаром Брунеллеско отдал столько времени, чтобы найти теоретические законы перспективы. Но от теории до практики было довольно далеко. Брунеллеско выучил тому, что знал, своих друзей-художников – Паоло Учелло и Мазаччо. Паоло просиживал целые ночи напролет над решением перспективных задач и, когда жена звала его спать, только и восклицал: "Какая прекрасная вещь эта перспектива!" Но бессонные ночи мало помогли ему. В его картинах перспектива еще сильно хромает.
И художники искали не только перспективы. Начиная с одного из гениальнейших последователей Джотто, Андреа Орканья, они пытаются отметить рельеф с помощью светотени. И ищут и бьются в бесплодных усилиях.
Задачи, которые разрешил Мазаччо, носились в воздухе. Они назрели давно, но не было гения, способного схватить и выразить их. Явился Мазаччо и сделал то, чего не могли сделать другие. Задачи, им решенные, были выдвинуты общественной эволюцией, но для того, чтобы решить их, нужны исключительные дарования и совершенно сверхъестественная способность воспользоваться всем, что было сделано в искусстве раньше. И не только в живописи. Ведь когда Мазаччо начинал, он имел возможность не только пользоваться указаниями своего старшего друга Брунеллеско по теории перспективы. Он уже видел, как пользуется перспективой в своих рельефах Гиберти, как моделирует человеческое тело его другой гениальный друг – Донателло. Живопись шла по следам пластики, ее опередившей. Отдельные ветви искусства помогали одна другой, и все вместе впитывали в себя идеи, которыми жило общество.
Одна из самых любопытных черт художественного развития Мазаччо заключается в том, что оно было совершенно свободно от влияния антиков. В его время уже можно было заимствовать многое, и он имел возможность сделать это, но, кроме нескольких архитектурных мотивов, он не взял ничего. Подобно Донателло и Джотто, он учился от природы и от тех, кто раньше его постиг тайну воспроизведения природы.
Такова была роль Мазаччо. Если бы не пришел он со своим взором, умевшим все схватить, со своей рукой, умевшей все изобразить, в моменты грез наяву похищавший у природы одну ее тайну за другою, пришел бы другой гений, который выполнил бы ту же задачу. "Чудо" появления Мазаччо заключается в том, что гений был ниспослан именно тогда, когда он был более всего нужен.
Сев, брошенный им в художественную ниву, взошел и принес обильные плоды. Два самых выдающихся его сверстника – Паоло Учелло и Андреа дель Кастаньо – признали его своим учителем. И если первый не в силах был еще освободиться совершенно от старой манеры, то второй использовал заветы Мазаччо до конца.
Необузданный, буйный, всегда готовый схватиться за кинжал, Кастаньо особенно увлекался одной задачей: изобразить на лице человека его душу, его характер. Портреты-фрески Кастаньо, ныне собранные во флорентийской Sant" Apollonia, по экспрессии превосходят все, что дала до него итальянская живопись.
Как живые стоят Данте и воспетый им Фарината, благородный патриот, спаситель Флоренции. Дикой мощью, беспощадной свирепостью веет от фигуры кондотьера Пиппо Спано. Он стоит закованный в сталь, с ухарски раздвинутыми ногами, словно вросшими в землю, и крепко сжимает в обеих руках тяжелый меч, готовый бросить вызов небу и аду. Видно, что художник выписывал с особенной любовью родную ему натуру. Но даже в картинах духовного содержания, в Pieta, в "Тайной вечери" Кастаньо не покидает стремление придавать жестокую выразительность лицам своих фигур. Он не боится уродства, наоборот, ищет его в природе и, как Донателло в мраморе, заносит его на стену или на полотно.