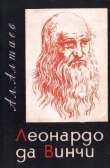Текст книги "Леонардо да Винчи"
Автор книги: Алексей Гастев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
Леонардо да Винчи
Не удивляйся, Сократ, если мы, рассматривая во многих отношениях много вещей, таких, как боги и рождение вселенной, не достигнем в наших рассуждениях полной точности и непротиворечивости. Напротив, мы должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и притом помнить, что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя большего.
Платон. Тимей, 28
МИЛАН. Июль – декабрь 1493
1
Начинай свою Анатомию с совершенного человека, затем сделай его стариком и менее мускулистым; затем продолжай, обдирая, его постепенно вплоть до костей. А младенца ты сделаешь потом, вместе с изображением матки.
Насколько в давно прошедшие времена, старинные в сравнении с временами Леонардо да Винчи, высоко ставили краткость, видно из следующего диалога, хотя бы и вымышленного:
– Что такое буква? – спрашивает благородный принц Пипин знаменитого Алкуина, беседуя с ним в присутствии императора Карла, своего отца.[1]1
Карл Великий – король франков с 768 года, император римский с 800-го по 814-й. Пипин – один из его сыновей, рано умерший. Алкуин (735–804) – ученый и деятель просвещения, наставник Карла Великого, учитель его детей; происходил из знатного англосаксонского рода.
[Закрыть]
– Страж истории, – отвечает этот Алкуин, выступающий под именем Альбина в латинском трактате, написанном им самим в восьмом столетии от рождества Христова для целей преподавания.
– Что такое слово?
– Предатель духа.
– Что такое язык?
– Бич воздуха.
Если пределом краткости служит молчание, то для подробности и многословия пределом можно назвать бесконечность; согласившись же с определением языка как бич воздуха, приходится удивляться разнообразию звучаний, которыми неутомимый пастух заполняет окружающее его пространство, так что, когда бы не придумали беззвучную речь в виде письменности, от беспрерывного бичевания воздуха никто не смог бы укрыться, как если бы во всю мочь звонили колокола. Шестьсот лет спустя после императора Карла из-за наступившего бурного развития науки это становится очевидным, тем более что изумительная старинная краткость и полное научное описание несовместимы.
Ни один орган не нуждается в таком большом количестве мускулов, как язык; из них известно 24, не считая остальных, которые я открыл; и из всех членов, которые движутся произвольным движением, язык превосходит остальные по числу движений. Обрати особое внимание на то, каким образом посредством движения языка и при помощи губ и зубов произношение всех названий предметов нам становится привычно, и слова, простые и сложные, какого-либо наречия доходят до нашего слуха посредством этого инструмента. Каковые слова, если бы все явления природы имели бы название, достигли бы бесконечности наравне с бесконечным количеством вещей, существующих в действительности и находящихся под властью природы. И они были бы выражены не на одном каком-то наречии, но на очень многих, которые тоже достигли бы бесконечности, потому что они всегда меняются из века в век по отдельным странам вследствие смешения народов, которое происходит в результате войн и других катастроф. Эти наречия подвержены забвению и умирают, как и все остальные создания, и, если мы согласны, что наш мир вечен, мы скажем, что эти наречия будут бесконечно разнообразны в бесконечности веков, входящих в бесконечное время.
Куцый султанчик плывет над полем листа, кренясь наподобие паруса; в тишине ночи касания пера о бумагу слышны отчетливо, будто бы птица клювом подбирает рассыпанное зерно. Хотя по течению времени звуки распределяются неравномерно, но соответственно протяжению слов и сложению каждой буквы в отдельности, этот скрипучий шорох или царапание на постороннего слушателя действовали бы умиротворяюще, а зрение приятно довольствовалось бы видом ровных отчетливых строк. Однако затем на месте приятности и удовольствия возникли бы томление и тревога, что бывает во сне, когда являющиеся образы определенно известны сновидцу, но отождествить их с кем-либо из знакомых ему людей не удается. Так же и здесь: при отчетливости изображения и очевидном сходстве с обычными буквами ни одна не узнается как именно та или другая, хотя спустя время становится возможным сообразить, что буквы все перевернуты, как если отражаются в зеркале, и что Леонардо не только пишет левой рукой, но и справа налево, как турки.
Еще ты опишешь и изобразишь, каким образом функция изменения и артикуляции и модуляции голоса при пении есть простая функция колец трахеи, движимых возвратными нервами, и в этом случае язык ни в какой части не применяется. Это остается доказанным тем, что я сперва доказал, как трубы органа не звучат ни выше, ни ниже благодаря изменению фистулы, если сделать ее шире или уже, но единственно благодаря изменению трубы в широкую или узкую или в длинную или короткую, так это видно при растяжении и втягивании тромбона.
Он поднялся со стула, узкая спинка которого сделана не вполне по его фигуре, и, с силою разводя руками и разминаясь, прошелся по помещению, притом подбитый куньим мехом оливковый плащ отчасти распахивался и были видны обтянутые красными чулками превосходной формы колени и основания бедер. Только обладая совершенным телосложением, возможно в будние дни без крайней необходимости надевать дорогие вещи, как этот плащ, поскольку у людей кривобоких, сутулых, или чрезмерно худых, или толстых, одежда протирается на лопатках и засаливается на животах и быстро приходит в негодность. Но Мастер одежду мало изнашивает, и она только ветшает от времени.
Леонардо сиял с гвоздя изготовленную им флейту, уселся, широко расставив ноги и сгорбившись, поднес инструмент к губам.
Эта флейта меняет свой звук не скачкообразно, как большинство духовых инструментов, а подобно человеческому голосу. Это достигается скольжением руки вверх и вниз, как при игре на кулисных инструментах. И вы можете получить одну восьмую или одну шестнадцатую тона и любую часть тона, какую вам угодно.
Наставник и льстец римского императора Домициана,[2]2
Домициан – римский император из дома Флавиев (81–96); Стаций Публий Папиний (род. ок. 40 г., ум. после 95 г.), римский поэт.
[Закрыть] поэт Папиний Стаций называет флейту ревущим рогом, чье свойство, как он выражается, манить эфирные души усопших. Применительно к инструменту хитроумного флорентийца подобное вычурное сравнение отчасти оправдывается: ожидая звука нежного и тонкого, предполагаемый слушатель был бы, напротив, ошеломлен низким звучанием, способным – поскольку вдоль ствола флейты вместо обычных отверстий проделана щель, поверх которой играющий скользит кончиками пальцев, – подниматься до наибольшей высоты глиссандо, скользя. Тут можно напомнить, что, изучая причину плавного изменения голоса, Леонардо анатомировал горло быка, так как у человека, задохшегося в петле – именно при таких обстоятельствах другой раз достается мертвое тело, – этот орган бывает полностью искалечен и при его вскрытии невозможно вообразить, как он действует.
Доказано, что все гласные произносятся крайней частью подвижного нёба, которое покрывает надгортанник; и еще такое произнесение зависит от положения губ, которыми дается проход выдыхаемому воздуху, несущему с собой созданный звук. Но хотя бы и губы были закрыты, этот звук выдыхается через ноздри, однако никогда при таком проходе он не станет показателем какой-нибудь из букв. Отсюда можно заключить, что не трахея создает какой-либо звук гласных букв, но ее функция простирается только на создание вышеупомянутого голоса, и особенно при произнесении А, О, И.
Расположившийся посредине листа рисунок, где Леонардо с помощью зеркала изобразил свой язык, окружен столбцами параграфов наподобие того, как живописцы окружают изображение какого-нибудь святого клеймами, последовательно представляющими всю его деятельность; за горящей свечой на столе приспособлено другое, вогнутое зеркало, лучи которого падают таким образом, что на бумаге оказывается ярчайшее белое пятно. Тут-то и помещается рисунок органа, связывающего механические акции тела с духовными и среди других обладающего наибольшею гибкостью и разнообразием движений.
И его главных движений семь, а именно: вытяжение, сокращение и притяжение, утолщение, укорачивание, расширение и утоньшение; из этих семи движений три сложных, ибо не может породиться одно, чтобы не породилось другое, с которым первое соединено по необходимости, чтобы язык сам собой вытягивался и сокращался, ибо ты не можешь растянуть растяжимую материю без того, чтобы она не сократилась и не утоньшилась по всем своим сторонам.
Леонардо время от времени снимал щипцами свечной нагар, и тогда свет ударял в глазницы, и зрачки в изжелта-прозрачной радужной оболочке уменьшались до размеров просяного зерна, а если снова погружались в тень, снова и увеличивались. Отклонясь от стола, он опускал уставшую руку, и тыльная сторона кисти оплеталась венами, своей мощью подобными корабельным канатам; эдакая рука прилична ветхозаветному Моисею, как и борода, при свете огарка отливающая золотом, хотя невозможно сразу определить цвет, присущий ей от природы, равно как и возраст ее обладателя.
Скрипнув ставнею, двинулся ветер; издалека донеслось пение петуха, и ему отозвались петухи ближайших приходов; заскрипел ворот, и заплескалась вода в ведре; послышалось шарканье; кто-то закашлялся спросонья – и тут самым низким контральто запел петух Корте Веккио. Рассвет проник в нишу окна, свеча вспыхнула и погасла; фитиль зашипел, распространяя дым и смрад, и Мастер, придавив щипцами, накрыл его металлическим колпачком. Настал день 16 июля 1493-го; инженер, живописец и скульптор, состоящий на миланской службе флорентиец Леонардо да Винчи прожил к этому времени сорок один год и три месяца.
2
Великие труды вознаградятся голодом и жаждой, тяготами, и ударами, и уколами, и ругательствами, и великими подлостями.
Конюх, отдуваясь, принес из погреба кувшины с вином; кухарка поставила кастрюлю посреди стола и, отерши покрытый испариною лоб и скрестив руки под фартуком, стала поодаль.
Тем временем некоторые присутствовавшие, окончательно не освободившись от сна, вели себя так, как если бы не могли опомниться после какого-нибудь ужасного происшествия, и с выразительными жестами, громкими голосами объясняли свои сновидения. Раздраженный шумом и отсутствием какой бы ни было чинности, Мастер сказал:
– В Тоскане подпорки кроватей делают из тростника и этим обозначают, что здесь снятся пустые сны и пропадает без пользы утреннее время, когда ум свежий и отдохнувший, а тело способно взяться за новые труды.
Тут все умолкли, поскольку аудитория была самая впечатлительная; подумав, Леонардо добавил:
– Сон есть подобие смерти; поэтому можно сказать, что лентяи умирают преждевременно и многократно.
Однако не все так бесчинствовали, чтобы их удерживать: немцы, служившие у Мастера по найму, выполняя слесарные и механические работы, отличались степенностью и, держась прямо и важно, помалкивали. Когда Леонардо с таким остроумием и находчивостью осадил соотечественников, немцы заулыбались довольно злорадно, хотя, может, ни слова не поняли из того, что тот произнес быстрым фальцетом. Поскольку же все они были научены одному ремеслу и другого не знали, то, имея в виду как бы осуществившееся вторично в Милане смешение языков, можно было подумать, что таким образом оправдывается замечательная догадка Данте: этот предположил, что, когда при строительстве Вавилонской башни произошло первое смешение и люди, до тех пор объяснявшиеся на одном языке, перестали понимать друг друга, общий язык удержался только у занимавшихся одним каким-нибудь делом. «И сколько было различных обособленных занятий для замышленного дела, – сказано у Данте в трактате „О народном красноречии“, – на столько языков разделяется с тех пор род человеческий». Живописцы, со своей стороны, эту догадку опровергали: происходя из разных областей Италии, хотя и назывались все итальянцами, они слабо понимали один другого, восполняя такой недостаток усиленной жестикуляцией. Впрочем, их вместе с Мастером только условно можно считать соотечественниками, но скорее тосканцами, ломбардцами или жителями Комо в зависимости от того, кто где родился.
Желая показать разнообразие и численность итальянских наречий, Данте так говорит: «По-иному говорят падуанцы и по-иному пизанцы; даже близкие соседи различаются по речи, например, миланцы и веронцы, римляне и флорентийцы, да и сходные по роду и племени, как, например, неаполитанцы и гаэтанцы, равеннцы и фаэнтинцы; и что еще удивительнее – граждане одного и того же города, как болонцы предместья святого Феликса и болонцы с Большой улицы». То же относится и к Милану, если проживающие близко от Замка вынуждены объясняться с уроженцем квартала Патари, старьевщиков, как с глухонемым или с человеком, имеющим врожденный, препятствующий пониманию недостаток речи, настолько велика разница в произношении.
Будучи наиболее людным перекрестком Европы, Милан представляет собой полигон для исследователя, замечающего беспрерывные повседневные изменения живых языков, которые, как он говорит, меняются из века в век по отдельным странам вследствие смешения народов и придают большую вероятность предположению, что наречия окажутся бесконечно разнообразны в бесконечности веков, входящих в бесконечное время. Что касается разместившихся на полуострове государств, их почти столько, сколько наречий, хотя разделяющие их границы более четкие и определенные, тогда как наречия, соприкасаясь, проникают друг в друга сфумато, рассеянно. Италия к тому времени стала уже забывать, как императоры Священной Римской империи германской нации[3]3
Священная Римская империя германской нации – просуществовавшее девять веков (962-1806 гг.) политическое учреждение, основанное Оттоном I.
[Закрыть] насильно объединяли ее своей властью. Подобные рано развившимся детям, отдельные области, когда добивались самостоятельности, ее достигали, однако же полностью распоряжаться судьбой были в состоянии только наиболее могущественные и богатые, как Милан, а из республик Флоренция или Венеция. Да и то флорентийцы полагали своим сувереном французского короля, а Милан императора и, большею частью действуя самостоятельно, по крайней мере делали вид, что ищут их одобрения.
Для значительного большинства населения флорентиец в Милане является как иностранец, личность отчасти загадочная и странная, и от него можно ожидать неприятностей; трудности взаимного понимания вместе с этим не следует преувеличивать, а недолгая практика, соединившись с необходимостью, полностью их устраняет. С другой стороны, звание иностранца обладает еще и таинственной притягательной силой, которою, если ею умело воспользоваться, можно добиться преимущества перед местными жителями, что, понятное дело, распространяется на все условия существования и деятельности артистов, как Леонардо. Его мастерская разместилась в помещениях ветхого дворца дель Арена, или, как называют миланцы все это сооружение в целом, Старого двора, Корте Веккио, возведенного на развалинах цирка, где во время римского владычества устраивали бои гладиаторов и другие дикие развлечения. Когда в древнем Медиолане появились исповедующие веру в Иисуса, здесь по приговору префекта их отдавали на съедение зверям, которых содержали в подвалах под ареною, откуда через трещины и пазы в каменной кладке доносилось рычание и распространялся запах мочи, не рассеявшийся и при Аццоне, четвертом миланском синьоре из дома Висконти.[4]4
Висконти – итальянский аристократический род, представители которого правили Миланом с XIII по XV столетие.
[Закрыть] Этот ради удовольствия и любопытства приспособил внутри ограды дворца загоны для медведей, тигров и обезьян и еще кого ему удавалось добыть – в особенности Аццоне гордился страусом и другими редкими птицами. Конечно, селившихся в пустых, заброшенных помещениях летучих мышей нельзя – вместе с курами, которых клирики церкви святого Готтарда, бывшей когда-то дворцовою, откармливали на продажу, – отнести к редким птицам, запах внутри Корте Веккио оставался как в древности. Тем более, помимо принадлежавших Мастеру двух лошадей и осла, здесь находились собаки – их он велел кормить и защищал от нападения учеников, как многие молодые люди, отличавшихся бессмысленной жестокостью.
– Монахи святого ордена доминиканцев не стыдятся называть себя псами господними, – говорил Леонардо ученикам, – тогда как вы, имея сравнительно с собаками немногие преимущества, поскольку слух, обоняние и зрение животного лучше человеческих, а в отношении ума они мало уступают, гоните и преследуете их, как бы имея в виду уничтожить собачий род и перевести его на земле.
Работавшие по найму немцы, при большом высокомерии и важности, домашних животных не обижали и еще похвалялись, что на их родине наносимый собаке или же лошади вред наказывается церковным покаянием. На это один из учеников живописцев, находивший разнообразные причины для неудовольствия, отвечал, имея в виду не одних немцев, но косвенно Мастера:
– Кто обращается с животными, как должно обходиться с людьми, тот будет обходиться с людьми, как с животными.
Для различных работ мастерская в Корте Веккио имела раздельные помещения. Одно, сразу при входе, возле караульной, хотя на полках вдоль степ мерцали стеклянные сосуды причудливой формы, скорее пригодные алхимику, походило на деревенскую кузню: в земляном углублении посредине печь для литья, горн, мехи и колода с наковальней, возле которых находились изделия, покрытые свежей окалиной и как бы назначенные для великанов. В действительности же громадного размера засовы, щеколды, скобы и петли необходимы для переделки устройств, регулирующих воду в каналах и пропускающих корабли: смотрителя водных путей флорентийца Леонардо да Винчи ничто придуманное прежде без его участия не удовлетворяет, и в каждую вещь он вносит какое-нибудь усовершенствование. Освещение здесь небогатое, и углы пропадают в неразличимости, в которой, возможно, скрываются еще многие вещи, ожидающие переделки.
В помещении живописцев, напротив, господствует свет, хотя и рассеиваемый нарочно растянутой в окнах редкою тканью, из-за чего красивые разнообразные складки материи, накрывающей плетенный из прутьев манекен, приобретают в тенях прелестную мягкость. На случай вечерних занятий и дурной зимней погоды помост с манекеном обставлен масляными светильниками, а к потолку прикреплен обруч, и там с помощью блока удерживается стеклянный налитый водою шар, способный перемещаться по кругу. Когда в этом есть необходимость, луженные оловом отражатели совместно направляют лучи многих светильников к стеклянному шару, внутри которого лучи перекрещиваются и, многократно усиленные, освещают манекен, как удобно рисующим. Таким образом, возможно по произволу изменять положение искусственного малого солнца и как бы распоряжаться временем суток.
За одним из мольбертов – а их в помещении несколько – по-видимому, работает Мастер. На это указывает совершенство укрепленного на доске рисунка и направление штрихов, подобных относимым ветром в правую сторону струям дождя, если они прикреплены сверху к облаку, а внизу остаются свободными: такое направление удобно левше, который ведь и голову человека рисует по преимуществу повернутой в правую сторону. Косой дождь отклоняется вправо и на развешанных по стенам образцах для учащихся, при этом, увеличивая силу и частоту падения или, наоборот, ослабевая и едва морося и даже совсем прекращаясь, повинуется рельефу изображаемой вещи, чудесно его проясняя. На другом мольберте, как можно догадываться, скрытая занавесью, поместилась сравнительно большого размера доска, очертаниями подобная окну, ограниченному сверху полукруглою аркой.
Разве не видим мы, пап могущественнейшие цари Востока выступают в покрывалах и закрытые, думая, что слава их уменьшится от оглашения и обнародования их присутствия? Разве не видим мы, что картины, изображающие божества, постоянно держатся сокрытыми под покровами величайшей ценности?
Каждому ясно, что скрытое драгоценным покровом так же ценно и дорого; если решиться и отодвинуть плотную занавесь, отсюда хлынет другое изумительное излучение, которое и в светлое время не прекращается, поскольку эта таинственная скрытая вещь не что иное, как широко прославившаяся впоследствии «Мадонна в скалах»: из-за несогласия и тяжбы с заказчиком, францисканцами братства св. Непорочного Зачатия, картина длительное время оставалась в мастерской.
3
С особым старанием следует рассматривать границы каждого тела и их способ извиваться; об этих извивах следует составить суждение, причастны ли их повороты кривизне окружности или угловатой вогнутости.
Как музыкальный инструмент настраивают в зависимости от лада, в котором он должен звучать при исполнении данной пьесы, так же и глаз настраивается различными способами, которых наличие возможно обнаружить, даже и не следя за возникновением на листе бумаги рельефа вещей и глубины расположения их в пространстве, но только любуясь видом самого рисовальщика и его движениями. Иной раз этот рисующий откидывается на сиденье и так остается некоторое время – выпрямившись или, что называется, проглотивши аршин: смежив ресницы и как бы нарочно подалее отстранившись, он действует прямой вытянутой рукою, и грифель или другой рисующий инструмент служит ее продолжением. Другой же раз, наклонясь близко к листу, оп то и дело с обеих сторон из-за него выглядывает, будто находится в засаде, опасаясь быть замеченным неприятелем; и тут он раскрывает глаза возможно шире и, впиваясь в модель отдельными стремительными уколами, пронизывает ее насквозь и осязает. О различных между собою способах рисования свидетельствуют и высказывания тех, кому приходилось служить моделью живописцам или скульпторам: они говорят, что другой раз внезапно испытывают как бы приятнейшее почесывание, – это, по-видимому, если рисовальщик впивается взглядом и проникает натуру насквозь. Если же глаз – наиболее совершенный инструмент рисовальщика – настроен на сопоставление силы света, или тени, или размеров вещей, или пропорций фигуры, или еще чего бы то ни было, это требует удаления, и взгляда со стороны, и даже прищуривания, когда смеженные ресницы смазывают подробности, так что здание мира и его части видны и сравниваются в их божественной цельности как бы сквозь сетку дождя.
Однако, хотя Леонардо настаивает, что ни определенных границ, ни тем более явственной линии природа по обнаруживает, пожалуй, именно линия оказывается важнейшей в рисунке, и ею можно достичь глубины и объема не меньших, чем разработкою света и тени, когда она исчезает и тонет в их бесконечных градациях или в сфумато, рассеянии. И хотя указанное сфумато, или рассеяние света и тени, является важнейшим изобретением Мастера, что касается искусства рисунка, тут живая разнообразная практика подсказывает ему и разнообразные способы. Так, скажем, мышцы не покрывают костей сплошною нерасчлененною массою, но, охлестывая их, как бы крутясь и образуя спираль, сходны с канатом, сплетенным из тонких веревок, когда одна заслоняет другую или показывается из-за другой. И там, где мышцы проложены рядом в одном направлении, получается некоторое ущелье: чтобы показать его глубину, будет достаточно линии, проведенной с большим нажимом. Это и есть угловатая вогнутость, о чем говорится в начале главы. Но вот подобная протекающему в горной расселине ручью линия, далеко углубившись, готова исчезнуть – тотчас этому препятствует как из-под земли возникающая другая мышца, которая раздвигает две упомянутые и заполняет собою ущелье. Линия восходит наверх и, как выражается Мастер, становится причастной кривизне окружности, причем давление грифеля ослабевает. Таким образом, можно добиться дивной округлости, не черня напрасно бумагу: превосходное искусство рисования держится не так на воспроизведении видимого во всей полноте, как на отказе и выборе, когда губкою или мягким хлебом рисовальщик устраняет малейший след прикосновения своего инструмента. И это уместно будет сравнить с музыкальною пьесой, где выразительность паузы не уступает красоте звучания.
Нет такой вещи, относительно которой Мастер не имел бы что сообщить с научной точки зрения.
По природе каждый предмет жаждет удержаться в своей сущности. Материя, будучи одинаковой плотности и частоты как с лицевой стороны, так и с обратной, жаждет расположиться ровно. Когда какая-нибудь складка или оборка вынуждена покинуть эту ровность, она подчиняется природе этой силы в той части, где она наиболее сжата, а та часть, которая наиболее удалена от этого сжатия, возвращается к своей природе, то есть к растянутому и широкому состоянию.
Имея в виду, что самое сложное Мастер излагает с большим красноречием и такою же убедительностью, возможно вообразить, какова польза, которую получают ученики, когда в утренние часы его голос раздается без перерыву. И ведь не было другого человека, настолько заботящегося о форме выражения, не считая поэтов, ночь напролет перемарывающих какой-нибудь сонет, чтобы утром вновь найти его непригодным. Странно, что находятся люди, недовольные подобной старательностью.
– Мы живописцы, а не ткачи; зачем отягощать себя излишними сведениями? – ворчал ученик, которого недовольство скорее объясняется его скверным характером. Другой, безоговорочно преданный Мастеру, протестовал:
– Ты был бы прав, если бы умение Мастера уступало его познаниям. Но посмотри на драпировку, нарисованную за самое короткое время с одного разу и с таким совершенством, что другому недостанет педели для этого. Однако, скажу тебе, – добавлял он, огорчаясь, – я не всегда могу видеть связь между божественной легкостью выполнения и всей этой премудростью.
Третий ученик тем временем помалкивал и улыбался; этому не больше четырнадцати или пятнадцати лет, и он миловиден, как ангел.
Когда, круто изменив ход рассуждения, Мастер, подобно лютому зверю, набросился на живописцев, одевающих фигуры в одежды своего века, хотя бы действие происходило при наших праотцах, трудно сообразить, была ли тому какая причина или никакой причины, а чистый произвол, игра воображения с памятью. Так или иначе, если он принимался уничтожать и высмеивать какую-нибудь вещь, или обычай, или дурную привычку, то как собака, которая, когда треплет старую обувь или другой хлам, приходит в наибольшую ярость и распаляется от того, что воображаемый ее противник не сопротивляется и молчит, Мастер до тех пор не прекращал издевательства, покуда вещь эта не оказывалась полностью уничтоженной или обстоятельства не вынуждали его умолкнуть внезапно.
– Я теперь вспоминаю, что в дни моего детства видел людей, у которых края одежд от головы до пят и по бокам изрезаны зубцами. И это казалось такой прекрасной выдумкой, что изрезывали зубцами и эти зубцы, и носили такого рода капюшоны, и башмаки, и изрезанные зубцами петушиные гребни, выступающие из швов. В другое время начали разрастаться рукава, и они были так велики, что каждый оказывался больше всего костюма; потом начали обнажать шею до такой степени, что материя не могла поддерживаться плечами; потом стали так удлинять одежды, что руки были все время нагружены материей, чтобы не наступить на нее ногами. Потом одежды стали такими короткими, что покрывали фигуру только до бедер и локтей, и были столь узки, что причиняли огромные мучения и некоторые из них лопались, а ступни ног были так затянуты, что пальцы ложились один на другой и покрывались мозолями.
Тут надо сказать, что, как нередко бывает, Мастер сам отличается странностями, которые жестоко высмеивает, находя у других. Недаром оборачиваются прохожие, с удивлением смотря ему вслед, когда он путешествует в сильно укороченном платье красного цвета, тогда как в Милане предпочитают длинные темные одежды, приличные городу с развитою промышленностью и торговлей. Впрочем, если в Милане принято также белье черного цвета, для стирки удобнейшее, а в Тоскане, напротив, принято белое, – как доказать, что пристойнее? К тому же все, что касается приличия и пристойности, относится исключительно к горожанам, но не к обитателям и служащим Замка, где придерживаются другого обычая и не стесняются причудливости покроя или какого бы ни было цвета платья.
Плавная речь Мастера внезапно была прервана появлением в дверях мастерской человека с алебардою, вставшего на пороге широко и твердо, едва помещаясь под притолокою, и все увидели его башмаки, настолько же длинные и узкие, как обувь, которую высмеивал Мастер; и рукава камзола у этого с алебардою казались надутыми воздухом, подобно хлопушкам, произрастающим в поле как бы нарочно ради детской забавы, а штаны были скроены из кусков коричневой, синей и желтой материи. Сверх того, одежда пришельца во многих местах была взамен пуговиц перевязана тесемками, что придавало ей сходство с наволочкою; невозможно было удержаться от смеха, увидав подобное чучело.
Человек с алебардою внезапно громко вскричал, сообщая, что флорентиец Леонардо тотчас с ним вместе отправится в Замок для аудиенции.