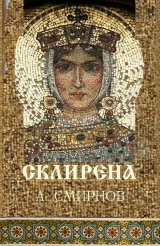
Текст книги "Склирена"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Однажды, рано по утру, Склирена сидела за чтением псалтири, когда ей пришли сказать, что приехал протостратор Василий Склир.
Драгоценная, украшенная миниатюрами рукопись, в переплете из барельефов по слоновой кости, выпала из рук ее; она быстро поднялась с места и пошла навстречу брату, который входил в комнату, опираясь на плечо шедшего перед ним слуги.
Василий Склир был высокого роста моложавый мужчина, лет сорока двух. Черная борода окаймляла его тонкое лицо, схожее с лицом сестры. Только веки, бессильно опущенные над пустыми глазными впадинами, придавали ему странное и грустное выражение. Он гордо держал свою голову с густыми черными волосами; уверенность и сознание достоинства сквозили в его движениях, – это был достойный внук знаменитого Варды Склира.
Он приказал слуге удалиться и подал руку сестре; она довела его до кресла, бережно усадила слепого, подвинула табурет и села у самых ног брата.
– Сестра, сестра, – говорил он, обнимая ее, – зачем ты покинула нас?
Пальцы его торопливо коснулись ее лица, и недоумение отразилось в чертах слепого.
– Что с тобою? Ты больна? – быстро спросил он.
– Нет, – ответила она, – я похудела лишь от непривычки к строгой монастырской жизни.
– Так стало быть это правда! – с горечью воскликнул Склир. – Ты хочешь отказаться от мира?
И его пальцы пробежали по голове сестры, по ее плечу, с тайною боязнью найти на ней монашеское покрывало.
– Бог поможет мне в этом, – тихо и твердо сказала Склирена.
– Но это невозможно, – горячо возразил Василий, – ведь я приехал за тобою, император сильно болен и хочет видеть тебя. Ты не можешь отказать ему…
Если бы Склир мог видеть волнение, которое охватило лицо его сестры, он понял бы, каким гнетом ложится на нее борьба с вновь набегающею волной жизни; но он почувствовал лишь, как дрогнула ее рука, и понял, что еще не все потеряно.
– У Мономаха опять тяжелый припадок подагры. Ты не должна отказывать ему в свидании. Кто внушил тебе такие странные мысли? Царь боготворит тебя; ты имеешь влияние на дела, ты окружена почетом и блеском… Старуха недолго проживет… может быть, мне суждено сделаться братом императрицы…
– Меня не прельщает это, – сказала Склирена, – вспомни 9 марта; народ не любит меня.
– Народ наш – ребенок. Он любит всех, кто дает ему хлеба и денег. Посмотри, он привязан даже к этой беспутной старухе, – а за что ее любить? Во всю жизнь она ни о чем, кроме своих удовольствий, не думала.
– Василий, не будем говорить об этом. Только здесь, на свободе, я поняла вполне, в какой тюрьме я жила.
– Проси теперь, чего хочешь. Мономах предоставит тебе полную свободу, он сделает все, что тебе вздумается; он так уверен, что одно твое присутствие приносит ему здоровье и счастье. И потом, сестра, ты еще так молода; тебе жизнь сулит столько радостей.
Ближе сдвинулись ее черные брови, мрачнее стало ее чело.
– Брат, – решительно сказала она, – я жила двадцать пять лет и много грешила. Пора уйти от всего этого.
Склир внезапно приподнялся со своего кресла и опустился перед сестрой на колени.
– Я умоляю тебя, – проговорил он, прижимаясь головой к ее руке, – вернись… Если не для себя, то для того имени, которое ты носишь, или хоть для твоего бедного слепого брата. Прошли те времена, когда наш дед боролся из-за престола… сломили нас. Теперь при дворе я силен лишь тобою; уйди ты – и меня постигнет немилость, может быть ссылка, потеря имущества… Все рады будут повредить Склирам. Пожалей твоих племянников; судьба лишила их матери, не отнимай же у них отца. Молю тебя, августейшая!..
В сильном волнении поднялась Склирена с места.
– Зачем ты мучишь меня? – с глубокою горестью произнесла она.
– Вернись, – повторял Склир, – завтра, на заре я увезу тебя.
Она молчала.
– Завтра, перед своим отъездом, ты узнаешь мое решение, – молвила она наконец. – Прошу тебя, оставь меня; теперь я должна прочесть молитвы.
Протостратор кликнул своего раба и удалился, оставя сестру над книгой, в глубокой задумчивости.
Но она не могла читать; в ее утомленной голове, где, как ей казалось, уже начинал просыпаться восторг и понимание сладости молитвы, – снова, как волны, забродили думы о мире, о земном счастии…
Она начала творить земные поклоны, но думы назойливо преследовали ее. Ясное солнечное утро заглядывало в маленькие окна; природа веяла спокойствием и свежестью; она словно манила к себе, словно хотела заставить забыть человеческое горе. Как бы повинуясь ее призыву, Склирена оставила священную книгу, спустилась во двор монастыря и вышла за его ограду.
Море было в нескольких шагах от ворот. Она приблизилась к самому берегу и пошла по песчаной отмели, внемля ласковому шуму лениво подбегавшей к ее ногам волны. Скоро монастырь скрылся за выступом берега. Воздух, пропитанный смолистым ароматом сосен, дышал утренней прохладой; длинные тени ложились еще от прибрежных скал и низкорослых сосен. Кругом было полное безлюдье, только трещали кузнечики и птицы чирикали в кустах. В глубине залива, вытащив лодку на отмель, какой-то человек вычерпывал из нее воду.
Склирена подвигалась к нему, огибая залив, и он несколько раз поднимал голову, вглядываясь в приближавшуюся женщину.
– Доброго утра! – сказал он ей, когда она подошла ближе.
Она уже узнала его по белокурым кудрям, по взгляду серо-голубых глаз: это был Глеб – молодой рыбак, встреченный ею по пути на Принкипо.
– Здравствуй, – вымолвила она.
– Я издали узнал тебя, – говорил рыбак. Он наклонился, зачерпнул воды и далеко выплеснул ее в море; мелкие брызги сморщили на минуту зеркальную поверхность. – Разве ты здесь живешь? Я думал, ты из городских… – продолжал он, переставая черпать и поднимая на нее взгляд. – Но что с тобою, ты изменилась… ты нездорова?
– Нет, я здорова, – ответила она и прибавила, помолчав: – А ты как сюда попал?
– Я привез своего хозяина. Он отсюда родом и ежегодно в этот день приезжает к обедне вон в тот монастырь, что белеет на горе, – он указал на белевшие на вершине стены мужского монастыря. – Сегодня день святого Георгия.
– Давно ли ты служишь этому хозяину? – сама не зная зачем, спросила она.
– Давно. Уже два года… с тех пор, как я стал рабом.
– Каким образом очутился ты в Византии?
Он бросил свою черпалку и облокотился на борт лодки.
– Мы сами пришли. Мы приплыли по Черному морю со своим князем Владимиром Ярославичем и с воеводой Вышатой. Мы хотели взять ваш Царь-град.
Она вспомнила о смелом набеге россов и о кровавой битве на берегах Босфора.
– Ты был взят в плен во время битвы? – тихо спросила она, и ласка, и глубокое участие звучали в ее словах.
Он утвердительно кивнул головой, и при этом воспоминании глаза его сверкнули и губы дрогнули. Отгоняя навязчивые думы, он тряхнул золотистыми кудрями и выпрямился. Так молодой орел расправляет крылья, собираясь лететь вдаль.
– Я уйду… я уже пробовал, но хозяин поймал меня и посадил в темницу. Да это ничего… Дай время – я опять уйду…
Непоколебимою уверенностью звучали слова его. Он говорил торопливо, словно спешил оправдаться; точно от одного ласкового взгляда этой прекрасной женщины в нем снова проснулась безотчетная жажда жизни и свободы, жгучий стыд за свое позорное рабство…
И она поняла это, и таким близким показалось ей вдруг горе его, что у гордой дочери Склиров сочувственно дрогнуло сердце, когда она поймала доверчивый и благодарный взгляд простого пленного рыбака.
Они стояли молча; кругом говорило за них ясное апрельское утро, со всем обаянием просыпающейся весенней жизни.
Но Глеб вдруг словно очнулся от сна.
– Товарищи сказывали, – уже совсем другим голосом сказал он, – что ты очень знатна и богата.
– Разве они меня знают? – живо спросила она.
– Нет. Но у тебя была такая красивая лодка, твой раб доставал столько золота и сама ты была вся в золоте, как царица.
– Ты каждый день выезжаешь за рыбой?
– Каждый день. На заре мы оставляем город. Мы живем у самого Мраморного моря; моего хозяина Алипия все знают в Византии.
– Мне сдается, что мы еще увидимся с тобою… я буду теперь чаще кататься по морю. Ну, а пока прощай, Глеб.
– До свидания, ведь мы еще увидимся, – поправил он.
Она пошла по тропинке среди сосен, и рыбак с его лодкой, ярко освещенные солнцем, казались ей все меньше и меньше по мере того, как она поднималась по склону горы.
III
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде…
М. Ю. Лермонтов («Демон»)
Возвратясь из города в монастырь, две монахини привезли к вечеру известие, что царь сильно болен. Хотя весть эта была лишь подтверждением того, что говорил Склир, но тем не менее она произвела на недавнюю гостью обители самое тяжелое впечатление. Вернувшись с прогулки, Склирена осталась у себя в келье. Два раза присылал Склир спросить, не может ли он видеть августейшую, но она упорно отказывала брату в свидании и отвечала ему только, что завтра утром, перед его отъездом, она сообщит ему, поедет ли с ним.
Она сидела за своими священными книгами и с ужасом замечала, что лишь глаза ее следят за крупными буквами рукописи, а мысли витают далеко. Она вставала на молитву, клала земные поклоны и вдруг останавливалась в глубокой задумчивости… все впечатления этого дня, словно нарочно, стремились оторвать ее от тихого созерцательного настроения, в которое, ей казалось, она начинала погружаться.
«Император расстроен моим отъездом… я виной его болезни…» – думалось ей, и в душе ее пробуждалась жалость к больному старику.
Ей вспоминалось, как в детстве она проснулась однажды ночью, тою страшною ночью, когда скончался Роман III. В окнах мелькали огни, по коридорам проходили какие-то люди. «Император кончается…» – шепотом раздавалось во всех углах дворца. Что-то зловещее и таинственное чудилось в этом ночном оживлении…
Неужели и теперь во дворце такое же смятение?.. Склирена силится оторваться от тяжелых дум, от разных воспоминаний; она переворачивает листы священных книг, она хочет забыться в чтении, но назойливые мысли преследуют ее и дразнят, и манят куда-то…
* * *
После заката Склирена вышла за ограду и села на мраморной скамье у стены обители. Глубокая тишина стояла кругом. Солнце уже село; розовые дали меркли. Только черные кипарисы рисовались на погасавшем зареве заката. С востока надвигалась ночь, предметы теряли свои очертания; побледневшее море спокойною гладью лежало вокруг. Южные сумерки быстро сгущались; все окружающее сливалось в одну темную массу.
Раздались шаги. Склирена разглядела приближавшуюся к ней монахиню. Молча подошла она и села с нею рядом на скамье.
– Какой тихий вечер посылает Господь, – сказала она вполголоса и долго вглядывалась в сумрак наступающей ночи. Потом она подняла глаза на Склирену, видимо пытаясь рассмотреть ее.
– Я приняла тебя за одну из сестер, – вымолвила она, наконец узнав ее. – Меня удивило, что так поздно сидят за оградой… Сейчас будут запирать ворота. Но для тебя привратница, конечно, подождет; ведь ты, говорят, родственница вельможи, приехавшего утром.
Звезды загорались на небе; сумрак ночи, как дымкой, окутывал окрестности.
– Тишь какая, – помолчав, продолжала монахиня, – не то, что у вас в городе. Ведь ты живешь в самом городе?
– Да, – ответила Склирена и сейчас же прибавила: – Но не совсем в городе; я живу во дворце.
– Во дворце?.. Впрочем, сразу можно догадаться, что ты из придворных. Теперь я понимаю, почему ты удалилась оттуда, от этого разврата, от этой грязи, – непритворное озлобление послышалось в голосе монахини. – Я не говорю про царя; он, как слышно, святой человек; вон какой выстроил монастырь в Манганах. Но он окружен дурными людьми, алчностью, интригами, угождением низким страстям, распутством и лестью…
Склирена вздрогнула; каждое слово неизвестной казалось ей упреком и оскорблением.
– О, Панагия, Пресвятая Дева! Все это прах и суета. Ты сотворила благо, уйдя от зла… Здесь в тишине ты помолишься за всех жертв этих честолюбцев: за ослепленных, разоренных и изувеченных, за гниющих в страшных темницах… Здесь ты забудешь суету жизни, здесь ты спасешь свою душу.
– Я не решила еще, останусь ли я в монастыре, – робко молвила Склирена.
– Ты хочешь вернуться в мир?.. – с неподдельным ужасом воскликнула монахиня. – Ты не знаешь, спасти ли тебе свою душу или погубить?.. О, слепая, слепая…
Склирене становилось жутко.
– Я не знаю, как зовут тебя, – с жаром продолжала неизвестная, – но ты знатна, ты богата. Знай же, что и я была, может быть, не хуже тебя, что и мне жизнь сулила лишь веселье да радости. Но меня силой оторвали от мира, и, поверь мне, я теперь благословляю эту минуту. Здесь спасение, а там – нечестие и разврат… Я ненавижу твой мир…
Лихорадочная дрожь все сильнее охватывала Склирену; глаза ее собеседницы горели негодованием из-под нависшего черного покрывала, голос резко и беспощадно нарушал ночное безмолвие.
– Я ненавижу твой мир… если бы одним ударом ноги я могла раздавить его, я не помедлила бы ни мгновения. Проклятие, анафема его нечистым радостям. Иди туда, безумная, губи себя… или вечные терзания и муки тебе не страшны? Или ты думаешь, что ты уйдешь от смерти, благо ты молода и красива? Напрасно: придет и твой смертный час, сгниет тело, которому ты угождаешь, – могильные черви съедят его; истлеет твоя красота, погибнет душа в адских мучениях…
Холод пробежал по спине Склирены: она боялась смерти, ей хотелось бежать от страшного черного призрака и от его речей.
Вдруг в дремлющем воздухе неожиданно и резко раздался удар в било (металлическую доску), возвещавший начало всенощного бдения. Испуганная, вскочила Склирена с места. Монахиня медленно поднялась и взяла ее за руку.
– Одумайся, безумная, – сказала она ей, – еще есть время. Брось тлен, прах и суету; прими чин ангельский… Я пойду молиться, чтоб ты прозрела…
Она двинулась к воротам обители; вышедший из мрака призрак бесследно исчез во мраке. Дрожа от волнения, провожала его глазами Склирена. Мысли, как испуганные птицы, неслись одна за другою; сердце неровно билось…
Мало-помалу ее успокоила тишина ночи и яркие звезды, рассыпанные по темному куполу небес. Свежий морской воздух доносил порой запах весны – зелени и цветов; казалось, засыпающее море чуть слышно шептало что-то у берега. Природа не спала под темным покровом – она лишь дремала, и сквозь чуткую дремоту слышалось могучие биение жизни, набегала волна упоения южной весны.
Разве о смерти, разве об отречении от счастья и радостей шептала эта весенняя ночь?
* * *
Позже всех пришла Склирена в церковь. Она встала в свою стасидию[6]6
Стасидия – место для сидения, с откидною на петлях доскою, с высокими ручками и спинкой. Стасидии или формы, сохранившиеся в России лишь в некоторых старинных монастырях, уцелели повсюду на Востоке и особенно в храмах Св. Афонской горы. На Афоне, согласно византийскому обычаю, употребляется также для созывания молящихся било, а не колокол.
[Закрыть], у левого клироса, близ открытого окна.
Душно было в церкви; восковые свечи у икон тускло мерцали под невысокими сводами, покрытыми потемневшею живописью. Вдоль стен, неподвижные в своих стасидиях, стояли черные бесстрастные тени в монашеских одеяниях. Но напрасно было бы искать среди них ту, которая так горячо говорила сейчас за воротами обители; ни движением, ни взглядом не выдавала она себя.
Долго и горячо молилась Склирена, но мало-помалу усталость начала овладевать ею. Дремота туманила ей глаза, и тщетно напрягала она силы, стараясь следить за ходом бесконечной монастырской службы.
Склирене невольно думается о том, что происходит теперь во дворце; ей вспоминаются подробности ее прежней жизни… Она оглядывается вокруг. Как странно все окружающее ее: огни в дыму кадил; черные, неподвижные тени монахинь вдоль стен… и снова дремота туманит ее мысли. Но она делает усилие и отгоняет налетающий сон – она достоит службу до конца. Бодрее облокотясь на потемневшее дерево резных ручек стасидии, она опять следит за священнодействием. Свежий ночной воздух врывается в окно и колеблет пламя свечей.
Вот уже гасят свечи и светильники; храм погружается в полумрак. Слышен шум опускаемых в стасидиях сидений; Склирена тоже садится. Чтица выходит на середину храма, и начинается чтение из Жития Святых. Долго тянется рассказ о жизни святого… Наконец, снова зажигаются свечи. Торжественный возглас: «Слава Тебе, показавшему нам свет» и пение: «Слава в вышних Богу…» радостно встречает рождающуюся зарю.
Но Склирена уже не слушает службы… она глядит в окно. Там ярко горит небосклон и просыпающееся море трепещет отливами перламутра Сердце ее усиленно бьется, и высоко вздымается ее грудь… ей чудится – она видит ласковый и доверчивый взгляд серо-голубых глаз, и молодой голос, звучащий безысходною грустью, тихо говорит ей:
– Теперь рыбак, я раб…
* * *
Уже совсем рассвело, когда Склирена, утомленная и разбитая, возвратилась в свою келью. Ей хотелось спать, и в то же время ее тревожила мысль, что Склир скоро пришлет к ней за ответом. Склонясь на ручку кресла, в которое она села возвратясь из церкви, она уснула, и странный сон приснился ей.
Она была в лесу в ненастную, дождливую ночь; черные стволы деревьев, точно какие-то чудовища, стояли вокруг; ветер стонал в их ветвях, обрывая пожелтевшие листья. Холодный дождь резал лицо Склирены; ползучие растения и терновник растрепали в лохмотья ее одежду, исцарапали ей тело. Ей страшно было одной среди завывании бури, треска стволов и шума дождя. Она пригляделась к темноте, ей казалось, что впереди видно просвет, что она сейчас выйдет на открытое место. Иззябшая и измокшая, почти без сил пробиралась она сквозь кустарник, но просвета не было: деревья тянулись бесконечными вереницами; казалось – нет конца этому страшному лесу. В отчаянии, изнемогая, она все шла дальше и дальше. Вдруг ей показалось, что кто-то пошел рядом с нею, и она не испугалась странного спутника, хотя и не могла разглядеть его в темноте. Между тем путь становился все затруднительнее: повалившиеся деревья, камни и рытвины мешали пройти. Ноги Склирены подкашивались от усталости. Наконец, она поскользнулась и упала на колени.
– Что мне делать? – с отчаянием воскликнула она.
Неведомый спутник ее остановился и с участием помог ей встать.
– Вернись домой, – тихо сказал он ей, и звук его старческого, решительного голоса глубоко проник в душу Склирены. – Не уходи от людей, как бы тебе ни было тяжело. Тебе ли, слабой женщине, бродить одной в лесу? В людях ищи подпоры, помощи и сочувствия; пользуйся жизнью и верь, что иногда один миг истинного счастья искупает годы страданий. Когда будет тебе тяжело, когда постигнут тебя испытания – я снова приду и подкреплю и научу тебя…
С доверием опираясь на руку неизвестного старца, смелее пошла она вперед: чем-то таким знакомым и приветным веяло от слов ее спутника; сердце так охотно верило, что она больше не одна, что в трудную минуту он опять явится ей на помощь. А из-за кустов мелькнули огни, – она узнала дворец, и мысль, что она сейчас очутится среди света, тепла и уютной обстановки своей Жемчужины, наполнила ее душу искренней радостью.
* * *
Взошедшее солнце заглядывало в окна, когда Евфимия разбудила свою повелительницу.
– Августейшая, протостратор ждет твоего ответа, – говорила она.
В ушах Склирены еще раздавался тихий голос старика.
– Скорее объяви брату, что я еду вместе с ним, – решительно сказала она.
IV
Покорны ей земные боги,
Полны чудес ее чертоги.
В златых кадилах вечно там
Сирийский дышит фимиам…
А. С. Пушкин («Египетские ночи»)
Солнце высоко стояло на небе и сильно пекло, когда лодка, в которой плыла Склирена с братом, приближалась к городу. На голубом небе, над голубым морем все ярче и шире развертывался перед ними царственный город с его беломраморными дворцами.
Быстро, как птица, летела лодка; только вода пенилась под смелыми ударами весел. Они обогнали рыбачий челн; два рыбака возвращались на нем с рыбной ловли.
Склирена узнала челн, узнала двух товарищей Глеба и заметила, что его не было с ними. Она почувствовала, как румянец вспыхнул на ее щеках, и ей стало досадно на себя, и от этой досады ярче и ярче разгоралось ее лицо…
Она сделала гребцам знак остановиться.
– Мы встретили рыбаков, которые прошлый раз забрасывали сети на мое счастье, – сказала она брату, в объяснение остановки, и крикнула, обращаясь к старому рыболову: – Ну, что, старик, каков был улов?
Он узнал ее и приветливо улыбнулся.
– Спасибо, дорогая госпожа; сегодня много поймали… вот везем домой.
– А где же ваш иноземный товарищ? – как бы вскользь спросила она.
– С ним случилось несчастье, – отвечал рыбак.
Лицо Склирены снова заалело.
– Какое? – быстро спросила она.
– Вчера он ездил с хозяином на Принкипо, и, когда они вернулись, хозяин за что-то рассердился и сильно ударил его. Глеб не вытерпел, он забыл, что он раб; кровь в нем закипела, он бросился на хозяина и смял его… мы едва их разняли.
Опустив глаза, слушала она этот рассказ; невольное одобрение промелькнуло в выражении ее лица.
– Хозяин посадил его в подвал, где бедняга провел ночь и сидит до сих пор. Кажется, хозяин намерен вовсе от него отделаться.
– Что ты хочешь сказать? – с испугом спросила Склирена.
– Кажется, продать его хочет.
Она приказала дать золота этим «бедным людям», – и лодка пустилась в дальнейший путь.
* * *
Когда Склир со своею сестрой вошел в царские покои, Константин Мономах дремал на своем ложе. Больные ноги его были прикрыты меховым покрывалом. Лицо царя, окаймленное седою бородой, значительно осунулось за последние дни. Он уже несколько дней вовсе не мог ходить.
– А? Кто тут? – спросил он спросонок, поднимая голову и окидывая вошедших мутным взглядом.
– Прости, всесветлый, что я нарушил твой покой, – проговорил Склир, кланяясь в землю. – Согласно твоему же священному приказанию, я велел Севасте, мимо дежурных телохранителей, без доклада вести меня прямо к тебе.
– Склирена! – радостно воскликнул Мономах. – Наконец-то ты вернулась.
Она почтительно наклонилась к его руке, он же по-отечески поцеловал ее в лоб.
– Как я рад! – прошептал старик.
– Видишь, государь, я исполнил твое поручение. Но утешь же и ты раба своего и скажи: лучше ли твое здоровье, солнце наше? – говорил Склир.
– Лучше, Василий, конечно лучше… я так благодарен тебе. После я поговорю с тобой.
– Я подожду в приемной, государь.
Хорошо зная расположение комнат дворца, слепой, с низким поклоном, один направился к дверям и вышел из опочивальни.
– Какое счастье, что ты вернулась!.. Теперь снова все пойдет по-прежнему, ты снова будешь здесь в Жемчужине… – говорил Мономах, целуя ее руки. – И зачем ты уезжала? Да, я знаю, мне говорили, – императрица обидела тебя. Не бойся, она больше не станет, она мне обещала.
– Бог с нею, с императрицей; ее нападки – это последнее из-за чего я оставила бы дворец. Множество обстоятельств заставили меня уехать…
Император растерянно вслушивался в ее слова.
– Я хотела просить тебя, чтобы ты разрешил мне совсем оставить дворец, – заключила она.
– Я знал, что опять этим кончится, – с отчаянием воскликнул Мономах. – Да, я стал совсем стариком, ты не можешь более любить меня…
– Государь, – горячо возразила она, – ты знаешь, как ты дорог мне, как я уважаю тебя. Самые счастливые годы провела я с тобой… поверь же, что мое желание – не пустая прихоть.
– Да чего же тебе не достает? – перебил он.
Она горько улыбнулась.
– Чего нет у августейшей Склирены?! Золото, самоцветные камни… Она сидит на престоле рядом с тобой и Зоей; ее покои блещут роскошью… И, несмотря на это, моя жизнь невыносима, – вдруг меняя голос, продолжала она. – Положение мое при дворе самое ложное, всякая свобода у меня отнята. Меня замучили приемами, выходами, бездушным этикетом. Жемчужина – это моя тюрьма…
Она закрыла глаза рукой и опустила голову. Молчание воцарилось.
– Молодость, молодость… – задумчиво сказал император.
Она вдруг подняла голову, и глаза ее сверкнули.
– О, если бы я могла хоть ненадолго очутиться на свободе, могла бы пожить одна и для себя…
– Да кто же тебе мешает, дитя мое? – спросил Константин. – Разве кто-нибудь из носящих пурпур пользуется такою свободой, как ты? Зоя, Евпрепия, матроны и опоясанные дамы хором осуждают тебя, сидя в своих гинекеях… Им кажется преступлением та независимость, которую ты себе завоевала; они не могут простить, что ты пренебрегаешь этикетом и обычаями двора. Сколько раз сыпались на меня упреки… но мне это все равно, и стеснять тебя я не стану. Чего же еще тебе надо?
Мономах остановился, вопросительно глядя в лицо своей подруги.
– Пожалуй, – прибавил он, не дождавшись ее ответа, – если ты непременно желаешь, я сегодня же отдам приказание решительно ни в чем тебя не стеснять; живи, веселись – ты будешь совсем свободна… но только молю тебя, не покидай дворца.
Радость блеснула в ее глазах и сейчас же сменилась сомнением. Она прямо смотрела на царя и, казалось, хотела что-то спросить его.
– А если… – начала она и остановилась в нерешимости, – если я полюблю?
Лицо Мономаха побледнело, нервно дрогнули углы губ. Снова воцарилось молчание.
– Ты видишь, – робко молвила она, – было бы лучше, если бы я не возвращалась.
Он молчал.
– Мне давно следовало ожидать, что ты это спросишь… – чуть слышно проговорил он наконец. – Я уже старик, я взял свое от жизни, а ты еще так молода… Давно умерло, давно похоронено мое счастье…
Он откинул голову на подушки и закрыл прослезившиеся глаза. Оба молчали. Наконец Мономах выпрямился; черты его были спокойнее.
– Поступай, как знаешь, дитя мое, – сказал он, – наслаждайся жизнью, как хочешь. Знай: ты совершенно свободна. Но я молю тебя об одном: оставайся во дворце, чтобы я мог чувствовать твое присутствие, как лучом солнца любоваться твоею красотой… В память этих счастливых лет, которые ты сейчас вспоминала – не оставляй меня.
Она поднялась с места и обеими руками охватила его шею.
– Золотое сердце… – шептала она, пряча свое лицо в его седую бороду. – Я не покину тебя; моя преданность, мое уважение всегда останутся при тебе.
Он целовал ее лоб, ее красивые руки, и слезы – слезы об оторвавшемся дорогом прошлом катились из глаз его.
– Ну, а теперь, – заговорил царь, освобождаясь из ее объятий, – теперь я хочу видеть тебя как прежде веселою, как прежде беззаботною. Прикажи вечером устроить пир в Жемчужине. Меня принесут на носилках, и мы отпразднуем твое возвращение… отпразднуем начало нашей дружбы…
* * *
Между колонн, на террасах Жемчужины была устроена обширная палатка из шелковых тканей; бесчисленные огни освещали пир; темная ночь и звездное небо заглядывали за подобранные занавесы. На массивных серебряных треножниках тянулись ряды курильниц, разливавших тонкий аромат; пол был усыпан лепестками роз.
Верная духу античной Греции, Склирена любила, чтобы ее гости возлежали за пирами. По правую руку ее помещался, император в своих роскошных носилках. Гостей было всего человек двенадцать, но в их числе собрался весь цвет Византии. Налево от хозяйки помещался первый министр, всесильный Константин Лихуд – средних лет статный мужчина; когда он говорил, все невольно прислушивались к его звучному голосу, увлекались аттической красотой его речи. Тут же был и слепой протостратор Василий Склир, брат хозяйки, и начальник телохранителей, этериарх Роман Бойла[7]7
В конце царствования Мономаха любимец его Роман Бойла запятнал себя покушением на жизнь своего повелителя. Он был, однако, прощен бесхарактерным императором.
[Закрыть], косноязычный, живой и забавный, небольшого роста человек, любимец царя, и молодой философ, поэт и историк – Пселл[8]8
Михаил Пселл – знаменитый историк, поэт и философ – оставил множество интересных описании интимной жизни императоров своей эпохи, стихов и философских трактатов.
[Закрыть].
Слуги в роскошных одеждах разносили угощения и наливали гостям дорогого кипрского вина. Слышались оживленные разговоры, звон золотых кубков; порой раздавался смех над удачною остротой, забавным рассказом.
Император был весел; он много разговаривал и смеялся.
– Я сегодня совсем ожил, – говорил он Роману Бойле, – кого не оживит присутствие этой волшебницы? Взгляни на нее, Роман; видал ли ты, хоть во сне, другую такую красавицу?
Маленький человек забавно прищурился и, словно боясь ослепнуть, прикрыл глаза рукой, глядя на Склирену.
Она действительно была сказочно хороша в этот вечер: одетая в шитую жемчугом, серебристо-розовую парчу, с блистающею при огнях алмазною диадемой на голове, с гирляндой белых роз через плечо, как богиня, председала она на пиру. Облокотясь на парчовые подушки своего ложа, она полусидела, и всякое ее движение полно было неизъяснимой грации, а глаза горели блеском и оживлением. Она снова отдалась обстановке; среди подобострастия, роскоши и лести, – она чувствовала себя царицей, никто не мог соперничать с нею в изяществе и остроумии, и все безотчетно подчинялись власти ее молодости и красоты.
– Странное существо – человек, – сказала она Лихуду, – вчера в монастыре я серьезно думала, что могу умереть для мира, а сегодня мне опять так хочется жить, мне так хорошо здесь.
– Во дворце было пусто без тебя, августейшая, – ответил Лихуд, – вынь из живой твари сердце, и она становится трупом, а ведь Жемчужина – сердце дворца. Все рады, что ты вернулась; вот послушай, какие строфы написал в честь твоего возвращения мой друг Пселл.
Услыхав свое имя, философ повернулся в их сторону.
– Я хочу слышать твои новые стихи, – сказала ему Склирена.
– Когда говорит богиня, смертный должен повиноваться, – покорно ответил Пселл.
Он встал и обратился к Мономаху.
– Божественный самодержец! Какой земной бог может сравняться с тобою, моим царем и богом? Со всех концов земли летят хваления к твоему престолу, и, как праведное солнце, светишь ты нам с его высоты. Но, при всем нашем счастии, в последние дни нам словно недоставало чего-то. И теперь я вижу, что недоставало светлого сияния очей августейшей госпожи нашей, севасты Склирены. Только ныне, с ее возвращением, вполне ожил я и, как пчела, полетел по лугам собирать душистый мед поэзии. Разреши же, великий царь вселенной, гордость и слава Ромеев, положить к твоим стопам этот ничтожный дар музы.
Царь одобрительно кивнул головой, и Пселл развернул лежавший рядом с ним свиток. Раздались цветистые и льстивые строфы стихов его. Он сравнивал хозяйку с подругой солнца – луной, которая озаряет темноту ночи.
Одобрения и рукоплескания долго не смолкали, когда он окончил чтение. Подойдя к Склирене, он, с низким поклоном, вручил ей свиток. Она проворно сняла с себя гирлянду белых роз и увенчала ею голову поэта.
– Владычица, венчанная госпожа наша, – сказал он ей при этом, – если ты действительно обратила благосклонный взор на недостойные стихи мои, то, чтобы день этот навсегда жил в моей памяти, заверши свои милости – спой нам что-нибудь.
– Да, – горячо подхватил Лихуд, – пожалуйста, доставь нам эту отраду.
– Спой, спой, – подтвердил и царь, – мы так давно не слыхали твоего пения.
Склирена, выучившаяся у рабыни-арабки петь и играть на лютне, не заставила долго просить себя. Лютня была принесена; струны дрогнули и зазвенели под белыми перстами. Все замерло, все взоры обратились к ней.
– Я не знаю ничего нового, – сказала она, – я спою вам также про луну.
И она запела старинную песню, которую и прежде не раз певала, но для всех эта песня прозвучала как что-то новое и незнакомое.








