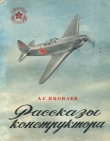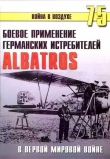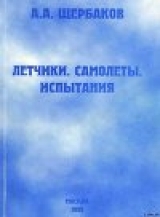
Текст книги "Летчики, самолеты, испытания"
Автор книги: Алексей Щербаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Без кого не может летать самолет?
В армии он называется техником самолета, в промышленности – механиком самолета. Это человек, который обслуживает самолет согласно разработанным инструкциям и наставлениям и обеспечивает его нормальное функционирование. Без этих людей самолет не может оторваться от земли. С ним – с техником или механиком – летчик, общается перед каждым и после каждого полета. От их работы, профессиональной чести порой зависит благополучное возвращение летчика на землю. Поэтому в воспоминаниях летчика нельзя обойти этих людей молчанием.
Мой первый техник, он же мой первый подчиненный в 12-м гвардейском полку, – Сережа Соколов. Я младший лейтенант, он сержант. Оба мы только что из школ, я из летной, он из технической. Мы одногодки и оба москвичи.
С подчиненными необходима строгость. Я выговариваю ему, что кабина моего Як-9 недостаточно чистая. Он отвечает, что делает все, что можно, но кабина истребителя не пол на кухне, не во все закоулки можно забраться.
Он предлагает выход: в полете я должен открыть фонарь и создать отрицательную перегрузку, тогда вся пыль и мусор из кабины вылетят. Причем перегрузку лучше создавать не в перевернутом полете, а отдать ручку от себя на большой скорости. В очередном полете на пилотаж я так и делаю.
Со стоянки командир полка, видя мои маневры, любопытствует, что это Щербаков делает, а Сережа поясняет:
– Это командир чистит кабину, как я его научил.
В кабине планшет летчика с картой, на которой нанесены все подмосковные аэродромы ПВО и пункты наведения. Это секретные данные. Планшет привязан за тонкий ремешок. Во время «чистки» он вылетает в поток, ремешок рвется, и секретные данные падают неизвестно где. Кара следует незамедлительно. Младшему лейтенанту и сержанту по выговору в приказе. Младшему лейтенанту за утрату бдительности и недостаточную воспитательную работу с подчиненным, сержанту за превышение должностных прерогатив.
Сейчас я представляю, как командир полка сдерживал смех, сочиняя этот приказ. Младшему лейтенанту и сержанту еще не было 19 лет.
На 1-м Белорусском фронте у меня был техник Мартынов – золотые руки. У него всегда все в порядке. Но только когда идет наступление и много летаем, у него, как и у других техников, сонный вид. Днем они обслуживают боевые вылеты, а ночью заняты ремонтом самолетов, заменой моторов, регламентными работами.
Все они очень уважительно относятся к своим летчикам и готовы ради них работать без сна и отдыха. У них профессиональная честь и долг котируются очень высоко.
Эти фронтовые традиции механики ЛИИ старшего поколения сохранили в мирной летно-испытательной работе. Их работа существенно отличается от работы военных техников. Там технология подготовки самолета к полету строго расписана в инструкциях. В ЛИИ тоже нужно соблюдать те же инструкции, но, кроме того, на институтском самолете, если он обычный серийный, всегда находится какое-нибудь экспериментальное оборудование или какое-то штатное оборудование должно работать в особом испытательном режиме, что-то постоянно подвергается перерегулировке.

Экипаж самолета Су-25: авиатехник Николай Григорьевич Новиков, командир – автор, инженер по эксплуатации Николай Семенович Кузнецов.
Кроме механика, на самолете работают специалисты экспериментальных систем. Каждый из них, делая свое дело, может что-нибудь задеть, выключить или переключить.
Механик самолета должен за всеми все проверить, поправить и не упустить при этом свои дела. Наши механики, как и фронтовые, очень уважительно относятся к летчикам-испытателям, и часто их рабочий день выходит за восьмичасовые рамки. В общем, без чувства профессиональной чести и долга лучше за эту работу не браться.
Мною на одном самолете с одним механиком проведена большая программа испытаний. Я и механик самолета вполне довольны друг другом. По случаю успешного окончания программы мы беседуем в нерабочей обстановке.
– Сан Саныч! Спроси меня, от чего бывает помпаж?
– Зачем?
– Нет, ты меня спроси. Нет, спроси!
– Ну отчего бывает помпаж?
– Не знаю! Но поставить, где нужно, шплинт я никогда не забуду. Спроси меня, что такое случай А штрих.
– Ну, что такое случай А штрих?
– Не знаю! Но я никогда не выпущу самолет, не найдя и не устранив дефект, который ты записал, хоть ты плати мне за это какую угодно премию.
Нужно пояснить, что система оплаты механиков стимулировала стремление к большему количеству полетов. Мне ясно, что у этого человека профессиональная честь на месте. Прежде чем начать полеты на новом, поступившем в институт самолете, я смотрю, как работает на нем механик. Он его уже освоил, теперь моя очередь.
Этот очерк о сверстниках хочу закончить так: какими же надо быть бестактными хамами, чтобы, пустив в оборот поганенькое слово «совок», оскорбить целое поколение хороших, нет – отличных людей.
Маршал отдает рапорт капитан-лейтенанту
Читатель может усомниться. Маршал не может отдавать рапорт капитан-лейтенанту. Так не бывает. А вот, представьте себе, так было 8 сентября 1990 года. У дома на Верхней Красносельской построены пожилые мужчины. Это мальчики 1941 года. Маршал Советского Союза, при всех регалиях, строевым шагом идет навстречу весьма пожилому человеку в штатском и докладывает:
– Товарищ капитан-лейтенант! Первая Московская военно-морская спецшкола построена. Доложил ученик первой роты Ахромеев.
Пожилой человек сурово посмотрел на строй и сказал:
– Здравствуйте, мои дорогие спецы.
И шестидесятипятилетние мальчики дружно гаркнули:
– Здравия желаем, товарищ капитан-лейтенант.
Многие при этом с трудом удерживали на глазах влагу.
Это был пятидесятилетний юбилей Первой Московской морской спецшколы. Спецшколы артиллерийские, военно-морские и авиационные были организованы перед войной. Их не нужно путать с послевоенными спецшколами с языковым и математическим уклоном. Для поступления в последние часто играла роль протекция, и они неофициально назывались «школами одаренных родителей».
Те военные спецшколы давали одну привилегию – гарантированное поступление в военное училище и далее лейтенантские кубики в петлицах или лейтенантские нашивки на рукавах. Это были школы восьмых, девятых и десятых классов с военной дисциплиной, военной формой одежды и летними военными лагерями.
Кроме обычной общеобразовательной программы, там изучались некоторые военные предметы. В штате школы были строевые командиры, замполит и боцман. У входа в школу стояли якорные мины, а в вестибюле торпеда.
Поступление в спецшколу определялось конкурсом аттестатов за семилетку. Большая часть поступивших были отличниками. Допускалось в аттестате не более трех-четырех четверок. Поступавшие проходили строгую медицинскую комиссию. Требования к поступившим были высокие, а перспектива одна – служить как медным котелкам. Что же тянуло в спецшколу лучших мальчиков Москвы?
О том, что в спецшколе были лучшие московские ученики, говорит такая статистика. Всего за четыре года существования через Первую Московскую прошло около тысячи человек. Первая рота, то есть десятые классы, в 1941 году была направлена на фронт в морскую пехоту, не вернулись около шестидесяти человек. Ученики низших классов попали в военно-морские училища, и большинство прослужило на флоте по двадцать и более лет. И вот из этих девятисот человек один стал маршалом Советского Союза, четырнадцать адмиралами и генералами, четыре Героями Советского Союза. Кроме отличившихся на военном поприще, один из воспитанников школы стал действительным членом Академии наук, трое заслуженными деятелями науки и техники. Из стен школы вышло много профессоров, докторов наук и главных конструкторов. Три Героя Социалистического Труда. Пять писателей и журналистов.
Едва ли какая другая московская школа смогла бы за четыре года воспитать такой интеллектуальный потенциал и подготовить столько юношей к доблестной воинской службе.
Значит, в спецшколу шли действительно способные мальчики. Так что же их туда влекло? Вероятно, главным образом, престиж военной профессии и высокий рейтинг звания защитника родины.
Что же еще? Конечно, мы с гордостью носили морскую форму, хотя в ней был ущербный элемент: на бескозырках вместо ленточек были бантики. Однако ради одного интереса пощеголять военной формой умные мальчики не стали бы себя обрекать на многолетнюю тяжкую службу.
Кроме отбора учеников, дальнейшим образовательным успехам способствовали и преподаватели. Московские власти обеспечили спецшколы прекрасными учителями, а Министерство Военно-Морского Флота откомандировало достойных офицеров.
Военный руководитель школы Герман Янович Эндзелин, которому маршал Ахромеев пятьдесят лет спустя отдавал рапорт, был красив, строен и был не одет в китель, а был им облит. Всей своей внешностью он являл достойный пример для подражания. Он хотел и умел привить мальчикам интерес к военному делу и к воинской службе.
Не слишком ли автор идеализирует прошлое, вспоминая только лучшее? Нет! Мы хорошо помним нашу жизнь и ее негативные стороны. Почему, например, Герман Янович окончил флотскую службу в звании капитан-лейтенанта? Ему припомнили репрессированного отца – представителя ленинской гвардии и – по совместительству – «врага народа». Знали мы и многие другие несправедливости.
Однако понятия долга и чести воспитанникам советского времени были близки и понятны.
Летчик и медицинская наука
Во время становления летной профессии в первую мировую войну представление о физической нагрузке летчика, о его трудозатратах в полете было весьма далеко от понимания. Считалось, что летчика, сидящего в самолете, эфир ласкает зефиром и при этом не требуется никаких усилий. Нажатие на спусковую скобу пулемета – все, что от него требуется. Это не то что бежать в атаку в противогазе или сидеть в мокром холодном окопе.
Такое отношение к летному труду видно из того, что в первую мировую войну человека, освобожденного медицинской комиссией от службы в наземных войсках, допускали к службе в авиации.
Так, известный французский ас Павел Аргеев стал летчиком будучи вчистую списан после ранения из иностранного легиона. Это пример не единственный. Потом стало очевидно, что человек в полете испытывает нагрузки большие, чем в марш-броске с полной выкладкой.
Так, опять же в первую мировую войну появился термин «потерять сердце». Это, как писал Куприн, состояние летчика, когда он не в силах решиться на полет. Такое состояние наступало после тяжелых аварийных или боевых ситуаций.
Появилась мысль, что тяжелые нервные нагрузки необходимо чем-то компенсировать. При создании Красного Воздушного Флота эта компенсация осуществлялась относительно хорошим питанием и специальным обмундированием.
В тридцатые годы летчики, кроме трехразового питания, получали еще стартовые завтраки; их называли ворошиловскими. Это были очень калорийные завтраки с обязательным шоколадом. Даже в Отечественную войну такие завтраки, хотя и без шоколода, получали курсанты Вязниковской школы пилотов, и могу утверждать, что мы были вполне сыты. В то же время курсанты пехотного училища получали в основном хлеб и кашу из пшенного концентрата.
Летчики ПВО Москвы в 1943–1944 годах имели завтраки с шоколадом и витаминным драже. С появлением реактивной авиации белково-калорийный рацион был увеличен. Вероятно, не в меру: у летчиков-реактивщиков стал наблюдаться избыточный вес. Медики пришли к выводу, что летную работоспособность нужно поддерживать не только калориями и витаминами.
С появлением новой отрасли медицины – медицины авиационной – ее отношения с летчиками складывались весьма противоречиво. Был основан специальный авиационный госпиталь. Он располагался в Сокольниках и сначала занимал красивый дом дореволюционной частной клиники.
Во время войны там в основном летчиков лечили от ранений, ожоговых травм и болезней. Потом его функции несколько изменились. Его задачей стала оценка способности людей выполнять летную работу. Летчиков стали сортировать по признакам здоровья. Высшая кондиция – способность летать на сверхзвуковых боевых самолетах. Затем следуют летчики, способные летать на боевых самолетах, но дозвуковых. Далее следуют летчики транспортных и пассажирских самолетов и, наконец, летчики легкомоторных самолетов.
Свое место в этой шкале летчики должны были регулярно подтверждать пребыванием в стационаре госпиталя, где их тщательно обследовали и подвергали всевозможным пробам. В финале была барокамера и перегрузочная центрифуга.
Надо сказать, что к летчикам-испытателям в отдельных случаях применялся индивидуальный подход. Учитывалась квалификация и фактическая возможность выполнения работы. Так получали допуск к летно-испытательной работе одноглазый Анохин, хромой Рыбко, Галлай с закорючками в кардиограмме…
Впрочем, определение «сортности» летчиков не главная функция авиационной медицины. Главное – это изучение организма человека в условиях полета, рекомендации для создания систем жизнеобеспечения, создание методики контроля за здоровьем летчика.
Изучение деятельности организма дало очень интересные результаты. Замерами установлено, что на некоторых этапах полета при практически статическом положении тела артериальное давление достигает значения 200/100 мм, а пульс более 100 ударов в минуту, причем это не в сложной аварийной ситуации, а в полете, предусмотренном курсом боевой подготовки истребителя.
В летной практике известны случаи допущения летчиком грубых ошибок, принятия ошибочных решений, которые трудно объяснить исходя из обычной земной логики. Так, не часто, но систематически летчики забывают выпустить шасси, хотя это подсказывает надежная сигнализация.
Бывает, что летчик неправильно читает показания приборов. Разные люди имеют к этому неодинаковую склонность. Желательно эту склонность выявить на ранней стадии летной работы. Это также задача авиационной медицины. Она дала этому явлению название «психологический сбой». Однако, что нужно, чтобы сбой не случался, достаточно четких рекомендаций пока нет.
Необходимость специальной авиационной медицины сегодня вполне очевидна, а я лучше расскажу о случаях летной практики, связанных с медициной или представляющих интерес для медицины.
В летной организации, которая испытывала специальное оборудование, летали на серийных, хорошо апробированных самолетах в пределах инструкций и без выхода на критические режимы. В одном из полетов на самолете Ил-28 командир экипажа неожиданно катапультировался, не предупредив штурмана и радиста. Те, естественно, разбились вместе с самолетом, не поняв, что с ними произошло. Визуальной связи между членами экипажа нет, только по переговорному устройству.
Командир-летчик объяснил это тем, что на самолете был пожар. Такие поспешно-преступные действия командира можно было бы как-то объяснить, если бы его вдруг охватило пламя, как это бывало на старых поршневых самолетах.
Но командир ожогов не получил, а в кабине самолета Ил-28 гореть вообще нечему. Топливо, двигатели и топливные магистрали находятся позади кабины летчика, и если бы что там и загорелось, то летчик этого видеть не мог.
О пожаре двигателей и топлива летчик оповещается световой сигнализацией, но при этом дать команду экипажу на покидание у командира имеется и время, и возможность. Он этим не воспользовался и стал виновником гибели штурмана и радиста. При тщательном обследовании в авиационном госпитале и в Институте судебно-психиатрической медицины никаких отклонений психики командира не обнаружили.
Он упорно говорил о пожаре даже при обследовании на «детекторе лжи». Так мы узнали, что такой детектор применяется и в нашей стране, а не только у «коварных империалистов». Такой вот получился «психологический сбой».
Считаю нужным назвать фамилию летчика. Она, по моему, приобрела сегодня некий символический смысл действий человека в ответственной ситуации: его фамилия Горбачев.
Вот еще медицинский случай. В шестидесятые годы я вел с военным коллегой Игорем Рогачевым совместную работу. Он был способный и активный испытатель истребителей. Но захотел в космонавты.
Космическая медицинская комиссия оказалась строже авиационной, и у Игоря нашли ранее не замеченную аномалию в позвоночнике, из-за которой были бы возможны неприятные последствия в случае катапультирования. Игоря отстранили от полетов на боевых самолетах и перевели на самолеты транспортные и пассажирские. В 1962 году он участвует в государственных испытаниях пассажирского самолета Ту-134.
При встрече он говорил, что конечно скучает по работе на истребителях, но зато на этих (показал на Ту-134) можно летать до ста лет.
– Заходишь в салон. Вешаешь на плечики китель. Садишься в комфортабельное кресло. Никаких гермошлемов и парашютов. Благодать.
Не раз бывало, что при испытании пассажирских самолетов недостаточно учитывался опыт самолетов боевых, и проблемы, решенные ранее на истребителях, оказывались неожиданными для самолетов пассажирских. При проверке управляемости на предельном числе Маха самолет разбился. Игорь Рогачев погиб.
Не всегда угадаешь, на чем пролетаешь дольше. Медицинское вмешательство оказалось не на пользу.
А вот случай более веселый.
Командующий истребительной авиацией ПВО маршал Е. Я. Савицкий активно летал до пятидесяти с лишним лет. У него был персональный самолет Як-25 в варианте разведчика, в котором было рабочее место штурмана. На нем маршал летал по всем аэродромам ПВО, осуществляя строгую проверку боеготовности частей. Он же организовал свой экспертный госпиталь – помимо центрального, где и проходил медицинские комиссии вместе со своим штурманом подполковником Кучеруком.
Финалом комиссии был «подъем» на высоту 5 километров. То есть из барокамеры откачивали воздух, создавая условия полета на этой высоте. Цель этого испытания – определение устойчивости организма летчика к кислородному голоданию. Врач наблюдал за подопечными и разговаривал по переговорному устройству.
В течение пребывания на высоте подопытным предлагали решать несложные навигационные задачи. Савицкий для надежности поручал решение задач Кочеруку. Тот писал ответы на бумажке и незаметно показывал маршалу. В очередной раз все должно было быть по отработанной программе, но Савицкий забыл взять в барокамеру очки и не видел, что ему написал Кочерук.
Врач посмотрел на Савицкого как на пациента, а тот на врача как на подчиненного. В результате такой несогласованности возник следующий диалог:
Врач:
– Товарищ маршал! Ну что же Вы? Ну давайте еще задачку. Ну еще одну. Раньше это у Вас хорошо получалось.
Маршал: – Я вот тебе задам такую задачку, что ты завтра будешь на острове Врангеля!
Остров Врангеля был самым отдаленным и неблагоустроенным гарнизоном. Врач, естественно, счел нецелесообразным менять московскую квартиру на остров Врангеля и раньше времени прекратил эксперимент, разумеется, дав прекрасное заключение о переносимости Савицким гипоксии.
Авиационная медицина необходима и полезна. Однако ей иногда навязывали несвойственные функции: когда сокращали армию, то авиационным врачам рекомендовали ужесточать требования и тогда списывали многих опытных, хороших летчиков. Это неумно и недостойно медицины. Ведь самый здоровый летчик не всегда самый лучший летчик.
Еще один эпизод из области медицинской теории. В пятидесятые годы существенно увеличился потолок истребителей. Нам, летчикам-испытателям, организовывали занятия и конференции на медицинские темы. Капитан медицинской службы объяснял нам явление гипервентиляции организма. Суть его такова: когда происходит интенсивная мышечная работа, для питания организма кислородом требуется глубокое и учащенное дыхание. Однако если глубоко дышать в покое, то, наоборот, наступает кислородное голодание и ухудшается питание кислородом коры головного мозга. Капитан объяснял биологическую суть этого явления.
– Чаще и глубже дышать летчик может от волнения. Это – инстинкт первобытного человека. Если же современный человек начнет часто дышать в полете, то наступит кислородное голодание, ослабеет функция мозга и летчик начнет хуже соображать и еще сильнее волноваться – и так далее. Если в полете у Вас возникнет желание глубже дышать, то это желание нужно сдерживать. Надеюсь, – сказал капитан, – я сообщил вам новые и полезные сведения и дал полезную рекомендацию.
Сидящий рядом со мной патриарх нашего цеха Владимир Константинович Коккинаки пробасил:
– Ничего нового. В авиации это явление известно давно. Только называлось не гипервентиляция, а мандраж».