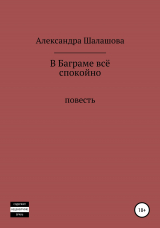
Текст книги "В Баграме всё спокойно"
Автор книги: Александра Шалашова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Сейчас пару дней никуда перебрасывать не станут, даже можно будет почитать – у меня целый список, у меня Карамзин, у меня «Новое в исторической науке», а остальное лежит под койкой, и еще не смотрел – брат прямо из вологодской исторической библиотеки на вокзал с троллейбуса – а ведь оставалось пять минут до отправления, я все смотрел на ужасно маленькие деревья перед горизонтом и старался разглядеть его шапку. Коля сунул мне в руку сумку с книгами, а еще записку от мамы, которую сам под ее диктовку написал – и лосьон «Огуречный», не знаю зачем. У меня-то был заранее приготовлен зеленый едкий «Шипр», и вообще непонятно, как он помнит о такой ерунде, но спасибо, боюсь только, что прольется в рюкзаке, и что я тогда делать стану. Но ничего не пролилось, не сломалось, даже тетрадь не помялась, куда я решил записывать все, что услышу или прочитаю. Но не записал ни слова, потому что никто не даст увезти тетрадку с собой. Лучше уж письма писать – я их не увижу больше, словно ничего и не было.
У пятого модуля стоит та с белыми кудряшками – уже в каком-то нелепом зеленом платье с лаковым пояском. Хотя они здесь все по вечерам так одеваются, будто на танцы. Будто все еще можно пойти на танцы.
– Привет, Саш. Ну что там, в порядке? – она улыбается, пальцы – за поясок, будто руки мешают ей, будто страшно думать, что кроме нее у нее есть какие-то руки, и они бессмысленны, когда не держат ложку или не гладят щенка.
– Нормально, только достало всех верхом на броне ползти – хотя привыкнуть можно. Вот засветло вернулись, и то неплохо. На пищеблоке сегодня концентрат шиповника в чай добавили, здорово получилось. Была уже?
Эта Валечка отчего-то смеется. Она вообще-то не очень хорошо смеется, неестественно, я бы ни за что не поверил, что ей на самом деле весело. Мне хочется сказать ей, что Женька погиб и совершенно нечего тут смеяться, что она глупая библиотекарш, у которой даже книг нет, и что приехала она сюда, чтобы с офицером познакомиться, и лаковый поясок поэтому. И что когда Женю привезли в часть в черном мешке, она крепила комсомольский значок на зеленые рюши своего платья из дорогой прибалтийской шерсти.
Он так окает, будто и не из Вологды самой даже, а из поселка какого-нибудь километров за пятьдесят, будто привык когда-то и себя не слышит, а разучиться уже не выйдет. А смеюсь не над тем, потому что слышала всякое, особенно если папа друзей из заводской бригады в гости приводит. Эти мужики с работы всегда засиживаются на кухне за полночь, потому что жены у всех в ночную смену, или просто с ночи и ничего не заметят этими глазами в потеках осыпающихся перламутровых теней. Тени синие и зеленые всегда – других и вообще нет, и не понравились бы этим женщинам никогда. Женщины с ночи отсыпаются день, потом идут выбирать стол в комиссионку, чтобы не поцарапанный был, и с ящиком большим под ложки. А мужья их всегда у нас на кухне, папа ставит им «Жигулевское», потом они ругаются, а мы закрываемся с мамой в моей комнате и читаем под настольной лампой одну книжку на двоих.
– Нет, не люблю с концентратом… Чай только портить.
– Это они чтобы цинги не было.
– Да тут что цинга, что другое – все равно не узнаешь, отчего спасаться нужно.
– Тебе-то отчего спасаться – от Трошина, что ли? Так ведь не спасешься. – Неожиданно зло, будто виновата я в чем-то. А в чем, что ты происходит, мальчик из Вологды, что ты про лейтенанта – не шепотом, а Ленка наверное услышит и посмеется, потому что она-то уже не спаслась – в первый же вечер шепотом за чаем, в который она из фляжки без конца наливала портвейн, о том что замуж взять обещал, что уже двадцать девять и непонятно, что дальше, и что черт бы побрал концерты дурацкие и «приходит время, с юга птицы прилетают». И что вежливый такой, и опять же офицер – ждать ничего не надо, квартира своя. За магнитофоном в дукан съездить обещал и за чулками нейлоновыми. А что ты, Валька, все замарашкой в какой-то рубашечке папиной клетчатой ходишь – оделась бы как следует – глядишь, и сама бы какого-нибудь прапорщика себе отхватила. И вот я достаю зеленое шерстяное платье с ремешком – мама его из Прибалтики на мой диплом в пединституте привезла, а все равно кажется, что взяла у какой-то чужой красивой женщины на время, и нужно будет возвращать.
– Из области-то ты один, или еще кого встретил? – чтобы не молчать. Знаю, им – не все равно, откуда, потому и Асадулла один и колотили его не раз, а вологодские друг за друга держаться, хотя в рейды все равно вразбивку отправляют.
– Тут из Красноярска в основном да из Москвы. Из Туркмении еще, понятно. Со мною один вологодский был парень, однокурсник – три недели назад с рейда в мешке привезли.
У Анечки глаза были темные и желтые пятна на кончиках пальцев, хотя раньше не было и водкой не пахло – так, коньячок втихую иногда, но чтобы так – сидела, в модуль не заходила, дверь кулаком била. Потом сказали, что песка наметет и задохнемся ночью, и чтобы не валяла дурака, а шла бы со всеми хлеб с маргарином есть, маргарин свежий, в хрустящей бумажке, сливочным маслом пахнет. Тогда Анечка встала и вошла к нам, и все девчонки утешать стали, что насчет кетамина она не виновата, а парня все равно что мертвого привезли – что уж делать было, если видела, если глаза не смогла закрыть. От Анечки с того дня часто пахнет водкой, но делаем вид, что ничего такого и неважно совсем. И если его привезли в мешке, и Анечка-то была не нужна совсем.
– Книжку-то дашь какую-нибудь? А то мои все институтские по предмету – не могу сейчас их, не запоминается, а потом Василий Иванович спросит, он же список давал…а я ничего.
– Ты в вологодском пединституте? После первого курса здесь?
–Ага, на историческом. Думал, здесь все и прочитаю – а видишь вот.
Ты же здесь. Ты же в пяти километрах от Баграма. Никто и не спросит, почему ты не читаешь.
***
– Держи, – Женька достает из вещмешка кроссовки. – Трошин расщедрился, вот и забежали с ребятами в дукан. Пятнадцать долларов – ну как, нравятся?
А я никогда не видел таких. Вовка однажды пришил толстой иглой кожаные аппликации на валенки, и целый декабрь так ходил в школу, потом надоело, и валенки стали валяться по углам, пока я не нашел и не надел в первый раз. И вот только тогда, когда в протопленном классе, где кроме меня сидело еще пять девчонок, а больше никого и не было никогда с самого первого года, когда с валенок стала растекаться лужа мягкого растаявшего снега, я подумал, что теперь самый клёвый, и никто во всей школе больше не смел делать себе такие валенки, без того, чтобы не вспомнить меня и Вовку, который закончил ту же сельскую школу на четыре года раньше. Коля закончил еще раньше, а сестры…они-то старалась всюду модными ходить. Это было – потому что не знаю, точно ли надену кроссовки, чтобы какой-нибудь весной пойти в институт, или они так и проваляются здесь, под койкой, год, или два года, или двадцать лет.
Кроссовки белые, две синие полоски – настоящий «Адидас», и вправду – не видел еще ни у кого. Только у одной девчонки из соседней комнаты, но про нее все знали, что отец за каким-то чертом потерял в Канаде и привез ей кучу шмоток. И белые кроссовки. Но у нее вроде совсем девчоночьи были.
– Нравятся. Вернемся – я деньги отдам…
– Брось, – Женька не смотрит на меня, аккуратно ставит кроссовки под койку, – что мне эти доллары потом, когда вернемся. Денег будет – завались, всего-то через полтора года. Сейчас главное – с Трошиным не собачиться и на самопалы духов не лезть.
– А ты-то откуда знаешь, – мне как-то сразу становится грустно, и сразу же решаю непременно отдать ему деньги, как только вернемся в Вологду, вот сразу и отдам – как только вернемся, потому вполне может статься, что так Женька только сейчас говорит, а потом – кто знает.
– Вы в сам Баграм ездили? И как это Трошин вдруг собрался? Говорил же – мы не за шмотками сюда, а чулки своим бабам и в Союзе купите, а сам…
– Он своей магнитофон обещал, а один же не поедет…Нас для солидности прихватил. Ну и мы – не стоять же рядом с грузовиком, в самом деле…Вокруг духи, страшные как лешие, бородатые…Чуть ли не под нос всякий импорт суют, знай отмахивайся. Захожу в дукан – там целый склад всего в пакетах лежит – одежда, термосы разноцветные, часы – они на ладонь к себе браслеты выкладывают и спрашивают – шурави, какой часы хочешь? Какой часы, как тебе, а? Ты в Союзе такого не увидишь. Ну, на магнитофон мы с тобой точно еще не заработали. – Женька улыбается. – Вот я и жить бы остался.
– А родители как же, а институт? Света, она ведь…
Он уже не улыбается, даже горбится весь как-то, проводит рукой по полоскам на тельняшке:
– Да ну тебя, я же не всерьез. Что мне с этими бородатыми тут делать – не овец же пасти.
– Они не пасут, Жень, они просто берут их в горы, чтобы мы не спрашивали и не стреляли, а на самом деле черт их знает, что на деле выходит.
– Я знаю. Ты думаешь, я не знаю?
А утром снова «Урал», резь в глазах и петляющая дорожка к горному кишлаку, из-под колес летит щебень – едем, а сзади девочки из агитбригады, Валя с белыми кудряшками; если мы не стреляем, они разговаривают, аспирин и спички раздают. Едем, едем; долго еще.
***
Ленка прижимает к себе аккуратно свернутые джинсы, а грузовик едем мимо свисающих с ветвей оранжево-красных абрикосов. Трошин, свесившись через бортик, срывает абрикос, пачкает грязные пальцы соком из-под треснувшей кожуры и дает Ленке. Мне тоже хочется абрикос, но сорвать некому, а самой слишком страшно упасть. Ленка ест абрикос и все смотрит на меня сквозь слишком густые, растекшиеся по жаре ресницы – вот смотри, какой он. Смотрю. А у него по всему лицу и шеи раздражение от бритья, и хотя у многих такое видела, вон даже у Сашки с веснушками, а все равно хочется отвернуться.
***
– Да точно тебе говорю – из медицинской палатки всех с чирьями да с печёнкой выгнали, потому как заразная штука очень. Вот возьмёт она, к примеру, твою ложку…
– Ложку каждый свою с собой таскает, из поддона в столовке никто не берет – вон Вадик говорил, как у них в учебке в Ташкенте двое от поноса умерло. И ты, если не дурак, ложку чужую брать не будешь.
– И велели все у них там прокипятить и хлоркой присыпать, даже хлорку в банку ихнюю велел отсыпать и беленькой библиотекарше отнести. Ну, я отнес, а она сказала, что не знает, что ей с этим порошочком делать. А я такой, что вроде бы полы присыпать и все.
– Так делают, будто уже умер кто…
– Да навроде и умерла уже, давно уж лежит. По людям пойти может, Анька мне вчера шепнула, чтобы воду подольше кипятили. Хотя эта-то с Трошиным небось не чаи целый день гоняла…
– А тебе-то что?
Глаза его круглые, остановившиеся. Ему – как что. Ему до всего дело. Но это он стоял и курил над черным пластиковым мешком, поэтому вроде бы можно уже не злиться, отпустить. Юрка все знает, а если нет, то непременно кто-то шепотом, по секрету, или одним глазком в окошко, про воду или часы, которые Трошин в дукане отхватил, или даже через приоткрытую дверь – как Лена лежит с восковым налетом на губах, как Валя сыплет хлорку на пол, на черную линзу телевизора, на стол, чтобы все кружки и тарелки с засохшим баночным пюре стали словно в снежинках, и подумать только, что где-то идет настоящий снег, о который можно обжечься, снег без запаха хлорки, снег, которого наметет полный капюшон за каких-нибудь полчаса от общаги до института.
***
Она думает, что это мальчик с белыми губами из кишлака, где она впервые не сфальшивила о том, как идет по свету человек-чудак, и как с юга прилетают птицы. Она думает, что он выдохнул или посмотрел, а может и я к тем зря подошла, потому что это – «несанкционированное знакомство, которое затевать не следует» – так написано в «Памятке воину-интернационалисту», которую я несколько вечером в ленинской комнате читала наизусть.
Мальчик с белыми губами.
Все потому, что в санчасти не было кетамина, зато есть тетрациклин, поэтому Лена будет злиться, что на ее лучшую юбку попала хлорка и выжгла белое пятно.
Она вернулась в наш жилой модуль обычная: только волосы кто-то ей там под машинку состриг. От этого синева на губах и желтые тени под глазами стали заметными, наметились, вытянулись и расплылись по лицу.
Ленка садится, не глядя, на голую панцирную сетку, потому что все матрасы я стирала желтым хозяйственным, а теперь сушить негде, нигде не разрешается, ведь что же иначе получится – не часть, а прачечная. Поэтому всё, все вещи, и матрасы тоже, я сложила в углу, даже не расправила, отчего вата собралась комками. Не знаю, будет ли кто-нибудь на них спать.
– Ты теперь всё, да? Домой?
Лена: вроде всегда говорит, что теперь надолго, потому что – чтобы заработать, нужно пробыть до конца своего года, но теперь-то и тени под глазами, и волосы – кто захочет с такими волосами, если вдуматься.
– Трошин и не пришел ни разу. И не придет больше.
– Так ведь карантин, Лен, кто его пустит. И не дурак – заразу разносить, вот сегодня приедут с рейда – придет.
Ленка улыбается как-то непривычно, не как раньше – краешком рта копируя улыбку какую-нибудь девчонку из телевизора – а будто через силу.
– Он же командир части, попробуй только не пусти. И не было при нас никого – Анька покрутилась первое время, а потом только так – таблетки раздать.
– Да они же на три дня в рейде, потом вернулись – грязные все, духи на перевале потрепали, прострелили бак с водой на бэтээре – и обратно пришлось добираться с тем, что во флягах, а туда почти никто лимонной кислоты не добавил – прокисла по жаре. Я знаю, мне Сашка рассказал.
– Кто такой?
– Земляк. Из соседнего города.
– А ты сама-то откуда?
Смешно. Никогда не спрашивала, разве что есть ли «Детский мир», и есть ли там то самое пальто в лиловую «елочку» – а теперь, откуда смотрите-ка.
Я сказала. Ну не смейся, что же ты.
– Смешное. Смешное слово. Даже страшное немного, череп – это же смерть, то, что от человека остается. Как вы там живете.
Ленка долго смеется, хотя и не смешно совсем, просто телевизор выключен и тихо, и Трошин вернулся, но не придет.
Вдруг Ленка не смеется:
– А я думала – замуж возьмет. Вот вернемся и возьмет. Обещал даже. Как думаешь?
Я не знаю.
***
Мама, то есть я все равно понимаю, что ты испугаешься только, когда получишь письмо и что уж можно как-то потерпеть годик, чтобы не писать, но сегодня небо очень похоже на фугасный дым, и от него хочется говорить, а говорить не с кем – Лена вначале плакала, отвернувшись к стенке, а потом заснула. А Аня пьет водку с кем-то, и вообще уже давно перестала заходить в наш модуль.
Я знаю, что фугасный – потому что черный, потому что я отличаю его от другого дыма – если духи жгут траву, жгут по кругу, то ли просто так, то ли чтобы нас путать, водить в пустыне, которую я еще и не видела толком, а только песок. Но песок у меня теперь в глазах, и я очень боюсь, что не сумею их перед отъездом как следует промыть и унесу пустыню в нашу пятиэтажку.
Я в любом городе, который ты найдешь на карте Чехословакии. И если ты только покажешь папе название, обведешь карандашом – сразу напишу тебе, что детишки добрые, улыбаются в коридорах, конфеты приносят. Белые челки, светлые глаза. Как у меня. Я в зеленоватом пустом кинескопе «Рекорда» отражаюсь совсем такой, как была в нашей череповецкой квартире, окнами выходящей на маленький проспект с трамвайными рельсами. Ты же помнишь, как звенят трамваи по утрам? Они выходят из депо в пять утра и идут к проходной сталепрокатного – и папа там раз в три дня, когда в утреннюю смену – а я всегда просыпалась от звона, каждое утро, всегда-всегда. А здесь нет трамваев, мне не от чего просыпаться, но я все равно просыпаюсь, потому что ничего не слышу.
***
…По утрам к части подходят собаки. Чаще молчат, а иногда начинают выть как по покойнику – вначале смеялись, повторяли шутку, потом надоело, потому что оказывается всерьез. У нас Барон всегда смирно сидел, а грозы боялся – тогда отец подходил к будке и отвязывал веревку от ошейника – в дом, конечно, не вел, оставлял в терраске – но и сам сидел на скамеечке, курил, щурился. И Барон с ним успокаивался, умолкал. Иногда отец даже гладил его легонько по холке, хотя на вид словно бы не любил и считал собаку даже не за глупую скотину, а за самого бесполезного и бестолкового младшего сына – вроде такого из сказки, который Конька-горбунка ни за что не поймает.
Так мне иногда хочется подойти к этим собакам, отвязать веревку и завести в терраску, и чтобы курить рядом, и чтобы Трошина в доме не было, а Юрка пусть – пусть сидит себе на лесенке, лук перебирает; и чтобы Валя тоже сидела в грозу под крышей, и чтобы вообще все смогли пересидеть эту грозу в моем доме – а интересно, знает ли она вообще, что я из деревни в восемь дворов, что от Вологды мне еще полтора часа электричкой. Мой дом деревянный, а рамы в голубой краске. Еще только месяц назад мне снились эти синие окна, а теперь ничего – я ничего не вижу, но очень хочется не слышать, потому что пластиковый пакет шуршит в темноте, не переставая, и мне страшно от того, что этот звук никогда не исчезнет.
Позавчера пришло письма от мамы. Не знаю, что ответить.
***
–Товарищ лейтенант, можно рапорт подать? Я бы уехала.
– Совсем сбрендила, Семёнова.
– А разве нельзя?
– Тебе эти олухи из военкомата что сказали – на год? А ты сколько уже?
– На год. Не могу. Товарищ лейтенант.
– Ты тут херню не неси. Думаешь – «товарищ лейтенант» скажешь, так я тебя сразу по головке поглажу и скажу – ступай, старшая агитгруппы взвода Валентина Семенова, на все четыре стороны? Разбежалась. Вас, гражданскую сволочь, никто насильно не тащил, сами за чеками прилетели, а теперь жалуетесь.
– Я не жалуюсь, просто не могу.
– Свободна, Семёнова. Никто тебя сейчас в Союз не повезет. Все вы – чуть что не так, так сразу к мамочке. У меня половина взвода таких мамочников. Только душмана увидали – всё. Не хочу, не могу больше, посадите меня на самолетик. А туда же хорохорились – Кармалю помогать будем, ДРА к свету вытащим, в идейности – сила войны. Засранцы трусливые. А девки – чекистки и проститутки. Не знаю, что хуже.
Я понимаю: это Ленка, а я вообще ни при чём, просто не нужно было идти к нему вечером, когда в колонке снова закончилась вода, и они все пахнут потом и пустыней. Трошин небритый, а Ленка два часа той ночи плакала, а я не знала, что еще могу ей сказать.
А мне полгода осталось.
***
Мне остался год и семь месяцев. Я выдержу. Выдержу.
***
– …А вот еще такой случай был – ждали мы как-то раз, когда хлеб привезут. В восемьдесят первом-то не такая расслабуха как теперь – сидишь себе и в ус не дуешь. Сейчас-то и колодцы свои глубокие вырыли, а так были какие-то ямы, или из речки приходилось брать – кипятили в огромном чугуне, таблетку обеззараживающую кинешь – и хорошо. А санинструктор ругается – мол, таблеток на бак двадцатилитровый чуть ли не в десять раз больше надо, концентрация, дескать, не та. А нам хоть бы хны – прокипятишь минут десять, что там останется от заразы. Правда, горькая она была, словно бы даже соленая – не знаю, не то от таблеток, а может статься, что и сама по себе.
– Михаил Степанович, так вы про хлеб начинали.
– Да, хлеб. Так вот ждали мы, три дня уж прошло – а хлеб все не подвозят. Обвал на дороге случился, что ли…Ну почесали мы репу – думаем, жрать-то охота. А в ауле у пуштунов как раз недавним временем мешок муки на нужды ОКСВ реквизировали. Соорудили мы из муки ихней и воды соленой лепешки, а печь-то, зараза, не на чем – жир из сухпайков еще раньше перевели. А один умник сказал, что вроде как и на моторном масле можно, ничего не сделается. Испекли мы, чуточку только намазали, чтобы не подгорело. А пахли наши лепешечки так, что впору бы свиньям каким бросить, а ведь не отказался никто. Вот так-то.
Трошин достал коньяк и теперь говорит, прошедшие его четыре года вспоминает. С ним: политрук Береза, младший лейтенант с винным пятном в половину лица, Аня. И я.
–…А еще как-то раз пацану одному его – Людка, что ли, какая – взяла и написала после двухсот с гаком дней, что – так, мол, и так, извини, погуляли по глупости и будет, а тут один инженер жениться предлагает, да солидный, не то, что ты – егоза сопливая, с институтской скамьи. Пацан чуть не плачет, ходит как в воду опущенный, а ему завтра выезжать по кишлакам духов мочить. Так мы взяли с ребятами, вырвали листочек тетрадный и написали этой сучке рыжей письмо от всех – и вежливо так: что, дескать, дура она совсем, и на кой черт написала – просил ее кто, что ли. Ты пиши знай – все хорошо, жду не дождусь тебя, а погода который день солнечная стоит. Тебе, дуре, все равно – ты совестливая, обманывать парня, который вроде как на войне, западло. А он после твоего письмеца поганого в петлю полезет.
***
От командирской палатки – крики. Слышно так, словно мы в пустыне –на километры никого. А мы и вправду в пустыне, только если ходить только между палаток, можно подумать, что все по-прежнему, и дома до самого горизонта.
Все гражданские стоят, с ноги на ногу переминаются. Это девчонки и мрачный Асадулла, у которого что-то со щитовидкой – отправляют, кажется, в ташкентский госпиталь, потому что здесь ничего не сделаешь. А щитовидке – отчего бы быть ей в порядке – фрукты нам здешние есть запретили после вспышки дизентерии. Хотя и не думаю, что духи их отравили, не так-то просто это. И отчего бы поэтому щитовидке не болеть.
Все гражданские – те, у которых истекли контракты – ждут. Скоро кто-нибудь подкинет до аэродрома, и тогда они уедут, а мы останемся. Ленка стоит довольная, и чемодан в руке больше гораздо того, с которым приехала. Аня стоит в стороне, она никуда не едет. Аня курит, и пепел падает на землю часто-часто и поэтому очень похоже на то, как падал несколько месяцев назад. Девочки стоят полукругом, будто в ногах у них полиэтиленовый черный мешок.
Никакого мешка нет, но все же ни одна из них не улыбнется.
Через десять минут грузовик рядок, Асадулла поднимает все вещи, стараясь держать голову прямо, потому что шея некрасиво распухла и, наверное, чертовски болит. А ведь он давно говорил, что – да, вот слабость такая нахлынула, ни руки, ни ноги поднять не могу, да. И шея – вон какая. Куда идти, что делать – не понимаю. Может, йодом помазать, а? Мы не дружили. Я сказал, чтобы к Ане шел. А он отмахнулся – мол, кто же с такой ерундой в санчасть ходит, курам только на смех. Я и сам так думал.
Когда грузовик начинает медленно, как по инструкции положено, ехать в сторону аэродрома, они начинают громко петь какую-то песню, но я не могу разобрать слов, потому что все равно машина сразу же оказывается слишком далеко. Поют девочки, поэтому я почти уверен, что это Анна Герман.
Другая Аня, наша маленькая Аня из санчасти, бросает окурок на землю.
Вале до Череповца далеко. Грузовик, самолет, поезд, трамвай. Красный.
***
Вначале мне кажется, что в городе все спят.
На вокзале я сажусь на трамвай, на красную «восьмерку». Он звенит и везет меня на мою улицу, маленькую улицу, параллельную проспекту. Вообще-то восьмерка идет до четвертой домны – я знаю, потому что папа каждый день ездит на ней на завод, и она под кленами нашей улицы ровно в пять утра. Всегда. Всегда в кабине белокурая женщина в синей форме. Но четвертая домна уже была, и рынок был, и вокзал, а следующая остановка – училище, а потом…
За белый поручень держится, будто на ногах стоять тяжело – дядя Лёша, я видела его много раз на нашей кухне, он тоже работает с папой на заводе.
– Здравствуйте, дядь Леша. Отсыпной у вас?
Это странно, потому что я считала – сегодня и у папы, у него, потому что одна бригада, должна быть утренняя смена, и давно бы они должны были проехать на этом трамвае, и никак бы со мною не встретиться.
– Ага, отсыпной. Хрена теперь лысого отсыпной. – Бормочет, руки все в ранках от горячей металлической стружки, а пахнет чесноком и портвейном. А я его только теперь заметила, чуть ли не через две остановки, на запах от одежды – давно уже. И не поняла, почему отодвинулась к двери молодая женщина.
– Дядя Леша, меня же давно не было в городе…случилось у вас чего?
И почему не пошел к папе. Или можно только сидеть на кухне после получки, а на самом деле – всегда одному ездить в трамвае, и терпеть, когда от тебя отсаживаются.
– Да, батя твой говорил, что ты не то в Чехословакии, не то еще где…Лучше бы там и оставалась. Там, говорят, порядок теперь будет.
– Почему вы не работе?
– Нету работы. Три месяца уже нет.
– Уволили? Но профсоюз…
– Не поможет профсоюз. Всех вышвырнули на улицу, целыми бригадами отправили к черту. Мы с отцом твоим покумекали, думаем – ежели посчитать, так несколько тысяч рабочих на улице остались. Встала четвертая домна. Аминь ей, как попы говорят…
– А папа? Папу – тоже?
– А как же. Иначе никак нельзя. Вот мы и сегодня домну помянуть собирались, у меня «Рябина на коньяке» припасена. Ты как, с нами? Возвращение-то обмыть полагается. Хотя и в город этот дерьмовый. Все по улицам шатаются, как пыльным мешком пришибленные.
На улицах почти никого, но раньше бы я и внимания не обратила – все равно все должны уже быть на заводе. А теперь все куда-то подевались, и никого в городе нет, ни одного человека. И тихо так.
– Валила бы ты лучше обратно, откуда приехала. Сейчас пересидеть нужно, переждать, а не пузом переть, вещичками среди подружек форсить. Подумай как следует, Валька.
«Восьмерка» останавливается около моего дома, поэтому сейчас я пойду с дядей Лешей к папе, и впервые не уйду в свою комнату, чтобы не видеть их – на столе маринованные позапрошлой осенью грибы в чайном блюдце, окурки желтых фильтров, крошки черного хлеба.
– И вообще черт знает что в городе творится.. – дядя Леша вдруг отпускает поручень, но не падает, потому что трамвай стоит на перекрестке. – Выйдешь спозаранку куда, хоть вон до завода просто так доехать, чтобы не так хреново было – одна картинка. Мужики пьют, бабы рыдают. Будто война.
– Папа сильно пьет?
– Сильно. Людка, мамаша твоя, значит, вначале, как первые недели прошли, все пилила его – мол, ладно, давай другую работу ищу, живут же люди на сталепрокатном, а просто так. А как месяц прошел, сама замолчала. Я-то с утра сразу к твоему папане иду, вижу, как она на работу в свой детский сад собирается. Замотается в пальто, и молчком в дверь. Бутерброды с маслом стала из садика своего таскать – говорит, нянечка жалеет, делится, а то она гордая – без нянечки сама бы не взяла. А правильно, жрать-то нечего у вас в доме стало.
Мне вдруг так хочется бутерброд с маслом, с настоящим сливочным, которое не пахнет керосином и пылью, что даже становится все равно, что дядя Леша сейчас пойдет вместе со мной к нам домой, сядет с папой и начнет рассказывать. Как бригадир его похвалил, а раз горячая стружка отскочила чуть не в глаз; а в холодильнике будут вчерашние детские бутерброды на белом хлебе.
А у нас целый год был только черный.
***
Мама не плачет. Я думал, она и не увидит меня через забор, ведь не просто шел, а – тихо-тихо, боясь разбудить дом. Они покрасили рамы – еще даже запах смешивается со всей огородной травой, а мама в праздничном цветастом платье обнимает меня за плечи и не плачет.
– Дома кто? – не вижу, честное слово, хотел бы не видеть, потому что она и раньше носила платок, но никогда так – чтобы на самом деле закрыть волосы, закрыть седые виски, закрыть постаревшие глаза.
– Коля приедет вечером, ему с работы не отпроситься так запросто, ты же знаешь; а Ниночка здесь, в огород пошла, – она как-то необычно суетливо бросается накрывать на стол, достает сахар и любимые отцовские карамельки – сливочные, желтые фантики, ими пахнет кухонный шкаф, потому что отец покупал сразу несколько килограммов, и вот они лежали, пока не становились жесткими, но все равно вкусными – иногда они пахли желтыми «лимончиками», если вдруг оказывались рядом, или содой, которой мама чистила самовар. И отец вместо сахара клал их на блюдечко рядом с чашкой, и они выглядели плоскими и белыми по сравнению с его загорелыми руками. Этот его загар был – как маска и перчатки до запястий – целый день на солнце, потому что еще в молодости пас колхозных коров. Иногда мне казалось, что мать отстирывает его спецовку именно от белого сладкого запаха этих карамелек.
И вот теперь мама бросается к самовару, словно не зная, как поставить лучше, или начинать месить тесто на пироги, пока я не ловлю ее за локоть и тихо:
– Мама, хватит, пожалуйста, просто посиди со мной. Я не хочу чаю.
– Как не хочешь – ты же с дороги. Сашенька, надо выпить… – но садится, ставит передо мной блюдце с карамельками.
– Мама, ты…– мама, ты ведь тоже помнишь, да? Ты не просто помнишь – ты даже знаешь и видела, а теперь вот – сладкий сливочный запах по кухне.
– Да-да, – она снова зачем-то встает, ставит конфеты обратно в полку, – они просто почему-то всегда остаются, – я уже ко всем соседям ходила, раздавала, Ниночке Колиной в Вологду отвезла, а они все не кончаются…
– Эти можешь выбросить.
– Как – выбросить. Это же отцовские.
Я – мне холодно: – Ты это специально, да? Уже полгода, и ты…Почему ты не на работе?
– Так телеграмма же пришла.
Я в Вологде на телефонную станцию зашел и отправил. Чтобы телеграмма опередила мою электричку, которая полтора часа с остановками в каждом поселке. Ее привезла на велосипеде толстая почтальонша. А теперь самовар горячий, потому что телеграмма опередила – а может, и брат поэтому приехал. Теперь все приедут – Коля с женой, Вовка и сестры.
– Прости, я просто устал. Я тебе не привез ничего, прости…
– Что ж ты дичь-то всякую несешь – не привез. Себя привез, с руками-ногами… – в уголках глаз загорелись капли.
– Я просто – ну, может, ты слышала или соседи говорят, что народ из Афганистана чуть ли не джинсы привозит, электронику разную, ну вот и я подумал…
– Джинсы… – мама улыбается отрешенно, взгляд – ищет свое отражение в окне, – джинсы-то мне зачем. Ты приляг, отдохни. Я тебе в горенке постелила.
– Мам, подожди, – потому что она снова встает, хочет открыть дверь, будто я все-таки вернулся без рук, хочет отодвинуть стоящий на дороге рюкзак, и тогда я поворачиваюсь. Я скажу сейчас:
– Не ходи сегодня на работу, устала ведь…
Или нет, лучше просто – повернуться, отодвинуть табуретку от клеенки стола и:
– Ну чего ты, успокойся, ведь нет же никого.
А и вправду никого – Коля на заводе, сестры на заводе, отец запутался в корнях трав через сто шагов от автобусной остановки, только не найти ведь одному, поэтому еще:
– Мама, а где похоронили папу?
Сто шагов от остановки, а пешком – как до моей старой школы, ничего не меняется.








