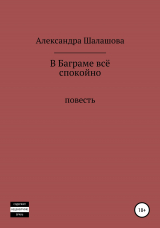
Текст книги "В Баграме всё спокойно"
Автор книги: Александра Шалашова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Лопата твоя, носимый шанцевый инструмент, твою так, где, спрашиваю! – орет он. Я вспоминаю, что дали лопату вместе с «разгрузкой», но если ее всегда на тельник или на безо всего сразу, то лопата вроде бы никогда не нужна, ведь окапываться никто не велел. Поэтому я, конечно, не знаю, где лопата.
– А это государственное имущество. Ты его разбазариваешь. Знаешь, что за такое бывает?
Я знаю.
Отцу дали семь лет. Поселения, конечно, под Шексной – оказалось близко; думал всегда в детстве, что маме будет так легче. Мне было девять, поэтому я до сих пор словно плохо помню, хотя он давно вернулся, Тоню замуж выдал, перестал пить чай с молочными карамельками. Я думаю, что эти карамельки за семь лет надоели ему, ведь мама клала их в каждую посылку, разворачивала и разглаживала каждый фантик, ссыпала вначале в белую бумагу, потом оборачивала пожелтевшей «Правдой». Но я-то семь лет ждал его возвращения, и поэтому тот, кто не пил по три стакана чая с карамельками вприкуску, уже был не совсем моим отцом.
– Ну чего молчишь?
– Лопата, наверное, где-то около бэтээра осталось, я…
– Ты мне тут повякай еще. На кого потом повесят? На командира части, ясно. Спросят, где лопаты. У тебя лопата всегда на сбруе должна висеть. Наплечные ремни где? Тоже под койкой, или еще в какой заднице?
– Разрешите пойти и привести к уставному виду, товарищ лейтенант.
– Ты «товарищами» не отделаешься. Я давно заприметил, что у вас, у сволочи, половина обмундирования постоянно куда– то пропадает. А как начальник части пишу на бланках – то списано, это…Быстрей бы духи «бэтээр» бы какой подорвали. На это и лопаты спишем, а? А? Как ты думаешь, боец?
Не отвечаю. Ему ничего не нужно. Меня вообще здесь нет.
– Не слышу.
– А я не знаю, что ответить.
Я думал, что он меня ударит. Ребром ладони, по переносице. Я однажды видел, как он так делал.
– Ерунду порешь.
Он пошел к офицерским палаткам. У него в руке четвертинка черного хлеба.
Асадулла потом подходит ко мне, встречаемся взглядами. Он льет на руки из кружки, ругается на своем языке – не иначе материт проклятую белую корку.
– Мы лопаты свой людям меняем, понял? И твой лопат тоже поменял.
– Что? Как меняете? У кого?
Асадулла из местных. Он пуштун. Вон какие зубы белые. Улыбается.
– Как менять – обыкновенно. Люди спрашивали, мы подходили, говорили – мир, нам только зерно, лепешку найти. А люди – нечестно это, за просто так взять хотите. Муку забираете. Скотину забираете. А мы забирать, а оставлять что? Доллар не оставлять, доллар самим нужен. Тогда лопаты – лопаты никому не нужно, лейтенанту даже не нужно…
– Стой, Асадулла – кто здесь может подойти и спросить? Какие люди?
– Люди из кишлака, понимаешь? Им очень лопаты нужны, у них металл такой нет. А нам зачем, где прок? Зато у тех из кишлака мясо вяленое. Козье мясо. Такое мясо, и изюм. А от этой жилы тушеной, из тушеной банки, у тебя зубы выпадут. Будешь беззубый ходить, как дед.
Я тоже беру свою кружку, опускаю в ведро. Вода теплая, нагрелась за день и пахнет еще землей, а не обеззараживающими таблетками. Теперь понимаю.
– А лейтенант каждый месяц спрашивает, ищет – где шанцы? Нет шанцев. Лопаты у хороших людей, ищи, – подмигивает мне – не проболтайся, дескать. А зубы такие белые, щетина чернеет, хотя он как я – каждые два дня вспенивает мыло в стаканчике для бритья, водит тупым «Спутником» с потеками ржавчины по шее, только все без толку. Но если такого с бородой представить – нельзя, нельзя. Девчонок только пугать.
– Неделя, две пройти – были с агитбригадой, смотрели, чтобы не обидел никто. Девочки пели, хорошо пели, заслушаешься.
И что – были. Меня не было. Им в сопровождение половины отделения хватает. Смотрю в глаза, на грязный раскрасневшийся подбородок с черной щетиной. Потом понимаю.
– Я не дятел тебе.
Он щурится.
– Не стучу, ясно? Хоть «калаши» продавайте.
Ночью в изголовье койки лежит в скомканном тетрадном листе горсть изюма, смешанного с песком.
А потом смотрю полночи в палаточный брезент над собой: у нас такого не бывает, у нас никто не лежит по полночи без сна, как дома.. Отдышаться бы. А все равно стучит: ну вот как можно, а. Мне рассказывает, зубы свои белые скалит. А духи Сережке Макарову голову отрубили. И быстро так, мы даже не успели понять, что. А Трошин делает вид, что не знает, что просто распекает очередного салагу за дурость. Я представляю, как они оставили лопаты – Асадулла наверняка долго говорил с декханами из кишлака на своей тарабарщине – только успевай слушать, как щелкает и выдыхает резкое. Они стояли и смеялись с ним, а над чем смеются – кто их разберет, даже наши таджики плечами пожимают. Пушту, понимаешь. Откуда им знать.
Женька теперь перестал отвечать, поэтому я засыпаю.
***
Однажды отец пришел с работы в забрызганной кровью спецовке. Быстро снял и оставил в терраске, но я все равно заметил.
– Шура, полено от печки отыми, прогрелось уже, – тихо. Он редко кричит – голос срывается; горло в детстве от заразной болезни разрезали и зашили. От того, что нельзя кричать, он злится и может даже ударить. А иногда кашляет. Долго.
Мама убирает от печки подсохшее полено. Мне девять.
Я выхожу в сени, а в доме гулко, все слышно. Я обычно не подслушиваю. Просто у папы сегодня руки дрожат, хотя не пил, и с работы вернулся на три часа раньше обычного. А ему нельзя раньше, у него стадо.
В школе грозят – мол, не будешь учиться, останешься глупым, пойдешь в пастухи. Папа пастух, но он умнее всех учителей.
– Вась, случилось чего? Смурной сидишь, зарплату задержат? – мама все равно собирает на стол, все как он любит – чай и батон, целый, не какие-нибудь там кусочки. Щипцы для сахара, хотя сам сахар давно уже кусковый. Молочные карамельки в белых фантиках.
– Не задержат, отстань. С чего.
Сидит, смотрит в чай. Вдруг выплевывает карамельку на блюдце, бормочет в сторону, будто не нам.
– Молния это все.
– Кто ж виноват, что гроза началась. Я в доме шторы завесила, я…– это мама.
– При чем шторы, соображать надо. Шторы можно в яму выбросить, забыть о них, и баста! А о Мрачной ты как забудешь? Валяется на клевере, воняет паленым волосом, а псина проклятая заливается, как на похоронах.
Мрачной он одну из своих коров называл. Они не его, конечно, а колхозные, но отец вставал в четыре утра, потому что в пять их нужно было уже выпасать, а там уж гляди в оба. Я видел эту корову много раз – когда таскал ему на выгон завтрак, отец всегда брал меня за плечи, поворачивал против солнца – мол, погляди на них только. А коровы не разбредаются по всему пастбищу, все под его взглядами. Вон смотри, Мрачная моя, говорил отец. Темная самая, почти без пятнышек. Она не мрачная на самом деле, добрая, удои большие, мать говорит. А вот на тучу похожа – темная. Мрачная.
Я просил поближе посмотреть, и тогда папа сажал меня на лошадь впереди себя, и мы ехали прямо к Мрачной. Я вначале боялся подходить, потом перестал. Я не должен был любить Мрачную – она была общая, не только для меня. Но мне хотелось любить то, что любит отец, это отделяло нас от Коли с его радиотехникой, от девочек, от мамы.
На стуле лежит отцовская спецовка, измазанная кровью. Я останавливаюсь, стою, даже трогаю, размазываю пальцем по ладони, по карману – как же так, буроватая, запекшаяся, но все еще кровь. Порезался? Руки в вечном, несмывающемся загаре по запястья, но чистые, вон подстаканник сжимает. Я бы не решился, но если потом придти, он не скажет. А маме сейчас наверняка кричит, выговаривает про свое. Поэтому неслышно подхожу со стороны печки, так меня и не видно, и словно бы в другой комнате, опускаю голову на побелку и слышу…
– А я виноват, что гроза началась. Когда я должен был успеть. И Севка боится, его хворостиной бей – не бей, все равно не пойдет, если испугается. И сараи проклятые далеко. Что мне…
– Ты потише давай, Вась. Чего кричать-то. Чай, не оглохла еще. Дальше-то что было? Или резать сразу пошел?
– Погоди ты, резать. Как громыхнула, гляжу – лежат обе. И Мрачная, и та, с белыми пятнами, как бишь ее…неважно. А я понимаю, как гром был – значит, электричество ударило, тут тебе не шуточки. Думаю, отгоню-ка я вначале остальных – не ровен час, еще молнии станут бить. Но и Севку никак не могу заставить идти спокойно, все мордой крутит, фыркает, и поблазнилось, что навроде как дышит Мрачная, бок поднимается. Ну, думаю, что с остальными за секундочку сделается, если взгляну? Сама знаешь, колхозу такую корову терять не с руки.
– Да ведь все равно зарезать бы пришлась, чего там разглядывать.
– А ты не встревай, ежели не понимаешь ничего! – я вздрогнул и чуть было не сделал шаг назад, – она, Мрачная, на бок опрокинулась. Дышит мелко-мелко, как человек, которого в реку головой макнули, подержали, попугали, а после вытащили.
–А ты что?
– Жилу ей на горле ножом перехватил.
Помолчали. Слышно, как тихонько звенит в стакане чайная ложечка.
– Чего тебе теперь делать-то?
– Не знаю я. Плевать. Не гоношись зря.
– Придут, обязательно придут. Ты документики мои пока бы поискала, что ли.
– Вась, я…
– Документы поищи, говорю. Не смей причитать. Пацанов мне только испугаешь. Чего ревешь? Дел нет?
– Я пироги хотела поставить.
– Так ставь. Не мельтеши.
Мне жалко маму. Тесто с вечера стоит, так к рукам прилипало, дрожжами пахло сладко и кисло. Принесла от соседей свежих яиц, хотела делать начинку, чтобы папа даже от калитки почувствовал запах – вкусного, белого, горячего. Теперь тихо, и я думаю, что мама и вправду начала раскатывать на столе тесто – вечер близится, пора давно. Выглянул незаметно – так и есть. А отец чай допивает, у лампочки мухи вьются.
Утром приходит милиционер с большой некрасивой родинкой на щеке.
Отец за домом, не замечает вначале, а милиционер остановился у окна терраски, за занавески заглядывает.
– Мам, – она с утра по дому с тряпками, скатерти стирала. Суббота – и я бы ждал Костика у дороги, но у него то ли ангина, то ли еще что – из дома не выпустят. – Там пришли.
Она сразу занавеску отдернула, передник закинула на печку, чтобы не мешался. Поправила невидимку в волосах, когда проходила мимо зеркала. От уборки волосы растрепались.
Вела его в комнату сразу, а милиционер все говорил и говорил – громко, только мне-то все равно за шумом кипятильника не слышу. Зашел в комнату – сидит. На папиной любимой кресле, на краешке. Мама рядом, отец голову опустил, хотя ему никогда и ни за что не бывало стыдно – и когда только войти успел, словно почувствовал что.
У милиционера в руках папин военный билет, синенький.
Папа достает из желтого платяного шкафа черную торбу.
Милиционер кивает, улыбается, что-то говорит.
Я не слышу, я вместе с мамой не слышу.
Папа зачем-то сворачивает трубкой несколько старых газет, сует в торбу.
Участковый вроде бы предлагает папиросы. Кажется. Я не знаю.
Потом они уходят, а от кипятильника уже пар идет, и вода закончилась.
***
Его утренняя смена начиналась с шепота мамы: давай гуляш разогрею, что ж ты. Он что-то неразборчиво в ответ из-за двери, потом мама снова: может, в духовке? Потом совсем не понимаю, только скрипит дверца духовки: мама готовит завтрак. От ужина остался гуляш и белые слипшиеся макароны. Папа не любит такое на завтрак, ругает макароны и маму, но еще сорок пять минут ехать до завода, а там перерыв в одиннадцать. Или в одиннадцать тридцать. Поэтому он терпит запах гуляша от плиты, от которого мне хочется закрыться одеялом, пустить холодную воду, как делают всегда, чтобы сигареты не пахли, если скрываешься от мамы.
Белые макароны лежат посередине тарелки с золотистой каймой. Он держит над ними ложку. В чайнике слишком много воды, закипит нескоро – это второй звук его утренней смены, а я жду третьего.
Третий звук – это пять утра. Срабатывает будильник, который он забывает переводить, и теперь постоянно дома время какого-то давно прошедшего февраля.
Четвертый звук наступает через полчаса: звенит металлическими проводами и колесами трамвай. Трамвайный парк у него через остановку, и там же заканчивается город. Я там никогда не была. «Восьмерка» не может опаздывать; иногда мне даже кажется, что ничего на свете нет надежнее «восьмерки», с ее скрипучей красной дверью и усталыми припухшими глазами вагоновожатой. Вагоновожатой приходится вставать еще раньше; может быть, они в парке договариваются, и проснувшийся первым везёт на трамвае остальных – нужно как-то добираться, а трамваи еще не ходят.
«Восьмерка» идет сложно; обычный трамвай, какой-нибудь четвертый номер, просто едет по проспекту Победы, мимо детской больницы, рынка, памятника Дзержинскому, пока проспект не становится узкой улицей; тогда четверке приходится разворачиваться в депо и ехать обратно в трамвайный парк той же дорогой, забирая тех, кто уже успел сходить на рынок. «Четверка» едет назад той же дорогой, как будто это не скучно.
«Восьмерка» же вдруг на середине проспекта вдруг резко сворачивает вправо, а внизу много-много перекрещивающихся рельсов – я в детстве всегда удивлялась, как это трамвай выбирает именно те, которые нужны ему, которые поворачивают вправо, и не сбивается. Там она едет полукруг, а потом выпрямляется и там уже до самого конца только прямо, а едет она к четвертой домне.
Поэтому папе нужно съесть макароны до пяти утра, иначе первый трамвай из парка поедет без него.
Когда-нибудь я напишу про нашу четвертую домну, потому что некому больше.
***
В коридоре Светка, хотя знала, что у нас сегодня четыре пары и чертовски долго. Женя остался в библиотеке, ему в последнее время почему-то хочется учиться. Так в нашей комнате появляется несколько тонн разных книжек, ведь у него и учебники, и дополнительный список. Мне, получается, ничего делать не надо – знай читай все, что лежит с его стороны стола. Но мне отчего-то кажется, что если не я нашел книжку, если не просидел с ней на коленях – будто нечестно, будто обманываю кого-то. Поэтому я могу взять второй экземпляр в библиотеке, хотя часто ругаются – мол, зачем вам второй на комнату. Я всегда в ответ, что читаю дома и вообще уезжаю на выходные, что в этой общаге сутками делать. Тетка-библиотекарь всегда жалеет, будто «в общаге» значит – сирота.
– Ты чего здесь? Взяла бы ключ у вахтерши, она ж знает тебя…
– Хотела спросить, где у вас сковородки лежат, выскочила.
Ах да, дверь приоткрыта. Меловая крошка. Надо будет сказать Женьке – пускай снова напишет.
У Светы в руках эмалированный тазик с отколотыми черными краями – мы в нем чашки моем и одежду стираем, по очереди, чтобы все по-честному было. Это мы дома так делали, а я здесь им рассказал. Теперь дежурный по комнате в очередь бросает тарелки в тазик, спускается в подвал к душевым, заливает горячей водой. Я делаю на терке стружку хозяйственного мыла, потом кидаю в воду, оставляю постоять, потом выливаю. И посуда становится чистая. А Женька как увидел, сказал, что нужно бы еще щеткой потереть, и что его мать бы такого не выдержала никогда, и что никакая это не гигиена, а лучше бы не делал ничего. А я сказал, что в свой черед он может делать что угодно – хоть щеткой скоблить, хоть в щелоке вымачивать, если так грязно. И что, если у нас в Куприянове так все делают, значит, верное и самое правильное. Женя ответил: мол, что-то поздно ты начал гордиться, что из деревни, раньше и сказать стеснялся, и мне тогда впервые захотелось его ударить. Мы потом не разговаривали. И вот когда закончилась та неделя, и я дежурил, открывал ржавый кран, старался, чтобы струя посильнее била в тарелки. И вдруг в подвал спустился Женька с теркой и молча стал тереть в тазик желтоватый кусочек хозяйственного мыла.
– Саш, ну не спи, пожалуйста! Где у вас сковородки? Я посмотрела в шкафу с тарелками, но ничего.
– Нет у нас никаких сковородок. Чего нам жарить-то?
– А вот, – и поднимает тазик повыше, к свету. Там лежит целая тушка курицы. Розово-синеватая, даже без опаленных перьев. Сама что ли выщипывала, пинцетом. Я смотрю еще и понимаю, что рано все-таки мать перестала держать во дворе всякую живность, потому что вот я вырос в деревне и не понял с первого взгляда, что никакая это не курица без перьев, а самый настоящий кролик. Маленький такой.
– Ничего себе. Откуда?
– Маме кто-то на работе подарил, из Пирогово, что ли. Ты серьезно про сковородки? А как же я его приготовлю?
– Может, у ребят из двести пятнадцатой спросить? О, – мы заходим в комнату, а я все не могу оторвать глаз от тазика. Он так пахнуть будет, пожаренный. Люблю Свету. А то без нее у нас опять сегодня украденный из столовки хлеб на ужин. – А если его прямо в тазике? Тазик почти что кастрюля, а широкий как сковородка. Получится варено-жареный кролик.
Мама всегда уходила из дому, когда отец резал кроликов, но есть не любил, говорил – баловство одно. И либо в колхоз, либо просто по соседям за мед какой, за молоко. Когда отца посадили, мама четыре года терпела, потом кролики от какой-то заразы умерли, а новых она заводить не стала.
– Тазик же грязный. Кто после него мясо есть будет, – но Света все-таки не идет в двести пятнадцатую, гладит пальцами светло-зеленую эмаль.
– Чистый он, вчера остатками стружки сполоснул. Ну давай, идем на пищеблок, иначе Женька скоро явится.
На пищеблоке, на самом деле – просто в кухне, четыре газовых плиты, отчего вахтерша чуть ли не каждый час заходит и чуть ли не каждый час вентиль смотрит – закрыли ли газ. У первой плиты сидит Маша, облокотилась на приоткрытую духовку, на огонь не смотрит – под подбородком книжка в бумажной красной обложке, и я знаю, что это Вальтер Скотт, я такого в библиотеке брал. Давно, еще в первом семестре.
– Челку не подпали, Машенька. И «Айвенго» тоже.
Маша виновато улыбается – вроде не принято усаживаться на кухне, ведь четыре плиты на три этажа, хорошо еще, график не составляем. Но сейчас рано, поэтому только она.
– Вот, с завтрака грею…Боюсь, подгорит, а дочитать хочется…
– У тебя нет сковородки?
– Нет. Кастрюлька только, маленькая. Сейчас подогреется, хотите, дам?
– Да нет, нам бы чего побольше. Вон, его пожарить хотим. Пожарим – приходи к нам в комнату, если зайчатиной не брезгуешь.
– У меня рисовая сейчас будет. Спасибо, – Маша отворачивается, как будто не интересно. Я не думаю, но возможно, ее пугают крохотные лапки в кровавом тазике.
Ставлю тазик на огонь, доливаю воды из-под крана.
Берем со Светкой один стул над двоих и ждем над плитой. Через пять минут вода выкипает, мне приходится лить еще, я просто столько в тазик налил, что хватило бы взаправду белье постирать, но кролик все не пахнет вкусным мясом, а как-то посерел неприятно. Машка быстро уходит с подогретой рисовой кашей.
Женька, наверное, искал нас в комнате, поэтому пришел сюда. Стоит – рубашка белая, брюки в «елочку» – всю зиму протаскал и затрепал, хотя даже мне жалко было, потом и Светка твердила – надень ты лыжные штаны, кто увидит под пальто. А для него лыжные штаны что-то совсем странное.
– Это кто у вас? – подходит к плите. – Здорово. Только сгорит так. Я думал, вы белье кипятите. Сейчас, погодите, – снова в дверь, шаги в коридоре. Я бы не удивился, притащи он откуда-нибудь узбекские специи и даже сковородку, которая – вполне может статься – все это время была в тайнике за книжной полкой. Но он возвращается с половиной пачки домашнего маргарина, счищает ножом с пергамента в тазик все до кусочка. Маргарин сразу же стал расплываться от огня, а кролик запах вкуснее.
– Что бы вы без меня делали. А как же ты с деревенскими способами? У вас все на воде жарят?
Я не обижаюсь.
– Меня к коменданту звали. Там у него радость для нас, Сашка, – он пьет из чайника сырую воду, – повестки прислали.
– Повестки? Вот теперь?
– Специальный набор, июньский.
– А у нас сессия в июне, как же?
– Вернемся и сдадим. Чего ты? Хотели ведь.
Не хочется кричать, ведь – действительно экзамены на носу, а за два года мы всё перезабудем. Вернемся – и можно будет прямо в музей возвращаться и опять снег с крыши скидывать, и никуда не пригодимся больше. Но Женька говорит, что уже договорился с библиотекаршей – она за нами запишет книги, чтобы можно было все с собой взять.
– А мы с тобой будем каждый день по книге читать, а на следующий день меняться. Только каждый вечер, после отбоя, я даже по фонарику нам с тобой нашел – смотри, налобные, обе руки свободны, удобно книгу держать! Только, чур, вечера не пропускать, договорились?
Договорились.
Сладким маргарином пахнет.
***
Я стою под насыпной оградой, за плечом у баяниста – жду, когда Ленка слишком громко и словно не к месту запоет Анну Герман, которую здесь никто кроме нас и, может быть, даже ребят из национальной армии Афганистана, никто не знает – ведь голос из радиоприемника утром в субботу, среди кухни и вечнозеленых листьев на подоконнике – ни у кого не было этого.
Я за плечом у баяниста, мне боятся нечего. Вокруг четырнадцать человек – я знаю, я считала. У первого, на ком взгляд останавливается, кожа темная из-за морщин, когда темнота забирается глубоко, нестриженая борода, цветастая накидка, широкие штаны и пиджак с плечами не по размеру – всегда взгляд цепляется за это нужное для него, прошлогоднее, когда здесь впервые появился кто-то и спел под насыпью перед грузовиком о цветущих садах. У первого лицо со злыми глазами рисунка с плаката, который в нашем модуле на пологе висит – два интернационалиста разговаривают, но сквозь оборванный край проступает карикатура – душман, весь замотанный в цветастое тряпье, На плакате он со своими карикатурными глазами подслушивает, а сегодня просто слушает – потому что мы, если не поем и не рассказываем про школы, которые скоро-скоро будут, про Кабульский институт, говорим таким шепотом, что приходится наклоняться, будто всех уже оглушило СВУ, спрятанное в сухой траве. А какие тайны у нас – вон лагерь, аэродром, и вы легко туда добредете по нашим следам.
Звучат цветущие сады. Ленка очень громко, а себя я почти не слышу, потому что не хочу, чтобы слышали. Просто иногда из-за меня песня становится звонче, вот и все.
Маленький мальчик на руках у старухи – а больше ни одной женщины, ни одного платка ярким пятном в глаза – смотрит, словно ему отчего-то страшно. Мы стоим между мужчин – страшными, бородатыми, знакомыми – в каждом кишлаке, мы стараемся смотреть на их детей, чтобы не смотреть в глаза, и поем про человека-чудака, который идет по свету, про желтую Африку, хотя раскаленные облака над их заборами наверняка бывают еще желтее. У мальчика на руках старухи серые губы и лицо.
Поэтому, пока Ленка молчит, листает свой песенник, который ей еще в школе подружки изрисовали красиво цветными карандашами, наклеили вырезанные из газет лица, я подхожу к старухе и спрашиваю, не нужно ли чего, не отвезти ли в санчасть.
– Эй, женщина, что тебе? – сразу же появляется рядом: не старый еще, с быстрыми темными глазами, хотя здесь и не редкость такие. Мальчик на руках у старухи на крик не вздрагивает, но от того, что подошла так близко, чувствую слабый запах чего-то жженого, еще бы немного – и стало бы похоже на карамель. Карамель – это всегда страшно, потому что так получилось – я никогда не жгла в чайной ложке над газовой плиток песок из сахарницы, не остужала в кружке с ледяной водой – чтобы получилась невкусная, но какая-то удивительная прозрачно-коричневая конфета. Карамель – это страшно, потому что папа, когда будет уже не пятая рюмка перцовки, а седьмая или восьмая, всегда рассказывает одну и ту же историю.
Когда он был маленький, четырехлетним, хотя и не представится такое никогда, в архангельском порту, недалеко от деревянного двухэтажного дома, в котором он жил с родителями, стояли баржи с грузом – и всякий раз в его рассказе этот груз был английским сахаром – там мешки и мешки лежали в трюмах, а осенью в один из кораблей попала немецкая бомба. Здесь папа всегда останавливается – перцовка, или просто прозрачный разбавленный спирт в его рюмке горький, а он представляет себе сладкую воду вокруг обломков баржи.
В городе пахло карамелью. По всем улицам и подвалам пахло карамелью, а дети ходили по набережной и спускались к воде, и взятыми из дома ведрами черпали эту сладкую английскую воду, и потом несколько дней весь город пил чай на этой воде, а настоящий сахар тогда берегли.
– Шурави, что нужно тебе? – старуха теперь: ей ведь можно говорить.
– Я говорю, ребенку вашему врач нужен, плохо ему совсем. Смотрите, губы какие белые. Отравляйте его с нами, в медсанчасть отвезем. Мать его где?
– Матери его нет здесь; а губы белые – вчера с юга ветер злой был, вот и побелели. А твои нам лекарства давали, и белые таблетки, и черные – всякие. Губы белые – хорошо; значит, крови в нем мало – как ранят, вся не вытечет. Ас-пи-рином лечить будем. – Старуха накрывает мальчика краем своего платка, будто спрятать хочет – это потому, что я подошла, я знаю. Все четырнадцать, кого сосчитала – ведь всех не видно, дети не видны за насыпью, молодые парни на склонах пасут овец с глазами больного мальчика, а ведь никто не знает на самом деле, где они – и может, мы совсем зря пришли, загородили вид на левый склон серо-песочным брезентом грузовика, попросили принести для баяниста табуретку, но никто не принес. Тогда он – Юрка Федоров, Юрочка, всегда улыбающийся, всегда вместо привет спрашивающий сигарету или даже махорки щепотку – газет тут нет, но он из библиотечной книжки вырвет листочек, на котором ничего важного, а только – Москва, Детская литература, а мне потом придется столярным клеем приклеить обычный листок желтоватой бумаги и написать чернильной самопиской «Остров сокровищ». И даже лейтенанту Трошину не пожалуюсь, потому что Юрка сидит на грязном камне в кишлаке, до которого мы ехали три с половиной часа – сидит спиной к горам, до которых мы, может быть, и доедем когда-нибудь, но там к этому времени не будет никого – ни мальчиков-пастухов, ни мамы ребенка с серыми губами. Юрка сидит спиной к горам, он всякий раз так садится, говорит – на закате солнце выглядывает из-за гор и слепит глаза как отполированная песком большая латунная кастрюля, оно помешает ему играть. Но я думаю, что наверняка записано в каком-нибудь положении о технике безопасности, о котором я не знаю.
– Температура у него, – говорю, уже и сама знаю – укроют, спрячут, а если и парни подойдут – самопалы достанут. Мальчик не двигается под черным платком, кажется, что даже не дышит. Губы у него серые, а сам дрожит – мелко, и руки у старухи трясутся, но я вижу все равно. Это может быть тиф, дизентерия, столбняк, или что-то совсем простое, детское, от чего прививки у нас в Череповце уже лет двадцать делают. Ничего не лечится аспирином, который мы раздаем им каждый раз – держи, бабушка, если вдруг чего, если голова заболит, или один из твоих сыновей наступит на ржавый гвоздь, или кто-то из наших выстрелит по тому подозрительному лохматому пареньку, что все крутится и крутится вблизи КПП – прими аспирин и все станет хорошо. Так они теперь думают, потому что это мы им сказали.
Губы серые, дрожит, а не потому ли старуха хочет так быстро унести – хотя концерт не кончился, Юрка все еще на камне спиной к горам, а Лена каждые две минуты поправляет нелепую красивую жемчужную брошку на вытянутой футболке – а бабка уносит потому, что что-то серьезное, чему не поможет ни желтое латунное солнце, ни бледная тонкая тень от ракитника – и мальчик не только дрожит, у него судороги, и тонкие слабые руки.
Дизентерия под Баграмом, дизентерия под Кабулом, под Гератом, под Джелалабадом – лица с восковым налетом, вырытые за кишлаком ямы. Я была не везде, да что там – меня нигде и не будет больше, кроме десятка поселков вокруг, а про Джелалабад знаю только, что соваться нельзя, иначе получишь пулю. Если хочешь пулю в зад – поезжай в Джелалабад. Мальчики шутят. А мы туда не поедем, не отправят. Это далеко. Я не знаю никакого города, но дизентерия всегда там, куда мы еще не успели добраться, и там, куда добрались, но привезли с собой только аспирин, баян и Анну Герман – ее тень в высоком голосе Ленки, которая окончила музыкальную школу по классу фортепиано и почему-то считается – что теперь самая – на нее будет смотреть бородатые лица в цветастом тряпье, старухи и больные дети.
Глаза лейтенанта Трошина – ну ты с ума сошла, Семёнова, да ты знаешь хоть, кого в санчасть притащила? Хочешь, чтобы ребята эту чертову хворь подхватили? Кто мне личный состав другой даст – ты родишь, что ли? Дура. Лучше книжки иди читай.
А глаза у Трошина косые – в них не хочется отражаться.
– Таблетки ему дайте, те, белые, – шепчу вслед старухе, чтобы никто-никто – и наши мальчики, что всегда стоят рядом с грузовиком и концерт не слушают, чтобы мы могли повернуться спиной к горам – не поняли, что случилось что-то страшное. Я вообще не врач, я никто, библиотекарша, у меня книг-то всего – Пушкин издания шестьдесят второго года и Стивенсон – стершаяся краска бумажных переплетов, оторванный уголки страниц – и каждый раз новый уголок, чуть только кто-нибудь возьмет почитать. И «Ленинский сборник» четвертого издания с черным профилем на обложке – новый, словно лакированный, такой красивый, что хочется завернуть в белую бумагу и хранить под подушкой, хотя и не положено это. Я потом открою. Я даже не знаю, какие там статьи.
– Нет, ничего, просто жарко очень, – Ленка смотрит на меня, солнечный зайчик от полированной застежки ее жемчужной брошки садиться на мою руку. Мне хочется отогнать его.
***
После двенадцати часов на броне – вместо лица глиняная маска с разбегающимися от губ трещинами, хочется найти какую-нибудь колонку, колодец, заржавевший кран на дырявой раковине, постирать хэбэ и съесть целую банку кильки в томате. Еще бревно, которое парни так привязывали к бэтээру, потому что в пустыне топлива не найдешь, а черт его знает, вернемся ли засветло к лагерю – слетело, потому что никто узлы не проверял, и пришлось останавливать колонну, и пинками гнать каких-то салаг вниз смотреть, как веревка, и не пригодиться ли тонкий туристический трос, смотанный на лямку моего иранского производства нагрудника, а потом двигать казаны, которые из-за чертова бревна свесились до самой земли…
Духи не стреляли, думаю, потому, что смешно им было на нас смотреть – руки дрожали. Мы похожи на цыганский табор – Асадулла так и вовсе вылитый цыган, стрижка только короткая. Все его дразнят, что в Аллаха верит, а я думаю – ни в кого он не верит, как и мы, потому что тогда он не стал бы стрелять в того парня, который вдруг из-за дерева вышел, ну кто его выходить просил, ведь мы же ничего, ну совершенно ничего про тот кишлак не знали, есть там кто, или нет, а то и вообще духи с самопалами засели.








