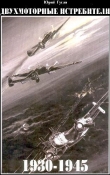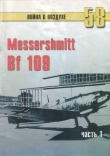Текст книги "Завтра война"
Автор книги: Александр Зорич
Жанр:
Космическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Такой высокой чести удостаивается, по статистике, лишь один клон из тысячи.
Честь и впрямь высока – ведь ребенок, родившийся в таком браке, автоматически попадает в более высокую касту энтли. Вытаскивает, так сказать, счастливый билет. (Я долго думал, какую земную аналогию можно подобрать для чувств, которые испытывают демы по поводу своего отпрыска. Думал, думал и придумал: это как если бы в древние времена земной женщине гарантировали, что она станет матерью бога или богини.)
Мою кудесницу Иссу произвели на свет именно в таком «заслуженном» союзе. Может быть, поэтому она и была похожа на богиню?
– И за какие же подвиги твой отец получил репродуктивное право?
– Работал на ассенизации новоколонизированных планет. Однажды он в одиночку сделал норму всей своей бригады.
– А бригада в это время что делала? Под пальмой «Заратуштру» попивала? – ехидно предположил я.
– Тут нет ничего смешного, – без улыбки сказала Исса. – Его товарищи умерли от злокачественной малярии, не дождавшись прилета спасательного катера…
– Извини, я не знал, – поспешил оправдаться я, хотя, в сущности, за что – я ведь действительно не знал. – Ну а за что получила репродуктивное право твоя мать?
– Служила в Центре Гражданской Связи.
– Это как наша почта, что ли?
– Да. Так вот однажды благодаря верно вычисленным ею коэффициентам дискурсивного отклонения в переписке двух ответственных директоров предприятий была выявлена целая преступная организация, связанная с разведкой чоругов!
– Извини меня, Исса, но я не знаю, что такое коэффициент дискурсивного отклонения.
– Это очень просто. Шпионы и предатели – они же не могут употреблять в своей переписке такие слова, как «линкор», «техническая документация» или «торпеда». Поэтому они пишут вместо «линкора» – «сковородка», техническую документацию называют, предположим, «маслом», а торпеды – «сосисками». Так и переписываются друг с другом: «Высылаю тебе масло для новой сковородки. Жду кулинарной книги, поскольку не знаю, что делать с сосисками».
Я рассмеялся – уж очень кумедно в интерпретации Иссы выглядела переписка двух «шпионов и предателей».
– Но что же такое этот коэффициент дискурсивных отклонений?
– Ты очень нетерпеливый, Александр, – пожурила меня Исса. – Я сейчас объясню. Наши специалисты допустили, что у каждого слова и выражения есть средняя частотность встреч, которая называется дискурсивным коэффициентом. И подсчитали этот коэффициент для всех слов нашего языка. Например, у слова «огурец» дискурсивный коэффициент равен трем. Это значит, на десять килобайт текста слово «огурец» в среднем встречается три раза. Так вот, если на десять килобайт текста слово «огурец» встречается двенадцать раз, то коэффициент дискурсивного отклонения по слову «огурец» равен четырем. Если бы встречалось один раз – отклонение было бы равно нулю целых тридцати трем сотым. Когда мы видим, что по огурцам коэффициент больше двух, это значит, что либо перед нами пособие по овощеводству, либо – иносказательное шпионское послание…
В этот момент мне стало совсем скучно – ведь я уже давно понял, о чем идет речь. Боже, ну и методы поимки шпионов у них в Конкордии – замшелые, доисторические, эпохи неолита!
Но главное, я был совершенно убежден: вряд ли таким тупым методом можно поймать шпиона. Разве только выставить шпионом какого-нибудь сумасшедшего оригинала… Но я все-таки сделал заинтересованное лицо и задал свой вопрос. В основном, чтобы не обижать Иссу:
– И как же твоя мать вычислила эти коэффициенты? Откуда она знала, что они говорят про сосиски и картошку?
– На таких, как она, держится безопасность нашей Родины! У нее такая работа!
– Перлюстрировать чужую переписку, что ли?
– А что тут такого?
– Да нет, ничего… Работа как работа… – соврал я.
В общем, моя Исса была дочерью достойных граждан Конкордии. Бдительных и трудолюбивых.
За свои добродетели родители Иссы были вознаграждены не только счастьем иметь собственное чадо, но и тем, что с рождением девочки, принадлежащей к касте энтли, они выходили из-под действия драконовского закона «О миновавших возраст трудовой вменяемости». Говоря по-русски, о клонах-стариках.
Согласно этому закону клоны после пятидесяти пяти лет подлежали чему? Правильно. Эвтаназии.
В семнадцать лет моя Исса пошла учиться по-серьезному. Попробовала бы, кстати, не пойти. Ведь Конкордия видела предназначение энтли исключительно в интеллектуальной деятельности. А с «отступившими от предназначения» Родина не церемонились, их тут же разжаловали в демы, причем в низшие демы.
Так что или ты становишься инженером – или шагом марш за баранку ассенизационного трактора.
В общем, после шести лет хождения на строгом поводке Исса стала младшим офицером Службы Психологического Контроля.
Если верить рассказам Иссы, ее основная работа состояла в проведении психологической зарядки и сеансов ура-гипноза. Как кому, а мне объяснять не нужно было, что промывка мозгов в военфлоте Конкордии такая же обычная процедура, как на наших линкорах – мытье офицерской кают-компании и утилизация одноразовой посуды.
Исса служила на линкоре, а потому посуды, то есть я хотел сказать работы, у нее было выше крыши.
«Ваши мышцы крепнут. Ваши мышцы неуклонно крепнут и наливаются силой. В ваше сознание вливается мужество. Вливается. Неостановимым, мощным потоком вливается мужество. Родина благословляет вас. Вы становитесь непобедимыми солдатами. Непобедимыми. Мощными. Всесокрушающими солдатами Родины».
А когда служивый народ, как следует заправившись мужеством и силой, занимал посты согласно боевому расписанию, Исса шла в свой кабинет. Там она проводила сеансы гипноза для офицеров, желающих бросить курить, пить и сквернословить.
В свободное же от «всесокрушающих солдат Родины» и начинающих абстинентов время моя Исса принимала участие в работе флотского хорового кружка.
Как можно было не влюбиться в такую девушку?
Поэтому я сразу согласился на предложение Иссы пойти в синематограф. Мне было все равно куда идти, лишь бы с ней. Ибо таких девушек у нас, в Объединенных Нациях, просто не было.
Такие девушки у нас еще не были изобретены.
К синематографу у них в Конкордии отношение особое. Можно сказать – как к Священному Огню, священнее которого может быть только Родина.
А потому синематографов у них в Клоне мало. Разве может быть много священного?
Точнее, не то чтобы уж совсем мало было синематографов. Просто на всех желающих не хватало. То есть хватало-то на всех. Но только в обрез. И не каждый вечер. Тут все дело было в желающих, которых – с избытком.
Вот займи очередь, постой в ней, дождись сеанса – и тебя вместе с тремя сотнями таких же, как ты, любителей прекрасного впустят в чистый просторный зал с высоким потолком.
И покажут что-нибудь такое, от чего твоя душа первосортными чувствами переполнится – любовью, ненавистью и несгибаемой решимостью.
Когда мы подошли к синематографу, там уже стояли человек двести. Признаться, мне это зрелище было в диковинку.
У нас-то, на Земле, стереокино – развлечение бросовое, дешевое, особой популярностью не пользующееся.
Только от большого безделья можно в городе в синемашку завернуть. Или если назначил свидание с девушкой, а на улице – дождь с градом. Но в этом случае тебе, понятно, уже не до фильмов.
Володя Гуркин, самый завзятый казанова нашего курса, любил пожаловаться (а на самом же деле – похвастаться), что ни одного фильма дольше двадцати минут не видел. Вроде как не до того ему было. Вроде как Володя без девушек в синемашки-то и не ходит.
И потом, у нас ведь, на Земле, все залы маленькие, человек на сорок—сорок пять рассчитанные. А у них в среднем зале человек триста.
Вот что значит чувство локтя!
Кстати, об этом легендарном чувстве. Уж сколько нам твердили про него на курсе «Этика военнослужащего»! Уж сколько убеждали, что его нужно иметь. Что пилоту без чувства локтя никуда. И что? В нашей Академии десять стереозалов (их и синемашками-то назвать язык не поворачивается), а в каждом – по десять мест, чтобы, значит, локтями не толкались и воздух друг другу не портили…
Скучно!
Из этого я делаю философский вывод: сколько нам ни тверди про чувство локтя, а находиться в обществе себе подобных мы, люди Объединенных Наций, не любим, не привыкли.
Индивидуализм у нас зашит в каждой хромосоме.
Иное дело – клоны. Они, когда локтя соседа не ощущают, когда никто им в затылок не дышит, нервничать начинают. Сразу подозревают западню. И нет для клона лучшего развлечения, чем поплавать в океане людском…
Что ж, потолкаться и я был не против, мне это было в новинку. Тем более – в обществе Иссы, которая смотрела на меня очень многообещающе.
Конечно, повторить баснословные подвиги Володи Гуркина мне не светило, я и не обольщался. Но, может быть, хоть один-единственный поцелуй? А?
Мы с Иссой остановились возле афиш, прицениваясь, на какой из фильмов лучше взять билет.
Вариантов было ровно два. Первый назывался патетически, «Рыжие дюны Ишкаты», и повествовал о вооруженной борьбе народа Конкордии с чоругами, нашими ракообразными соседями.
Чоруги-де взяли да и напали на Конкордию. И вот что из этого вышло.
На афише сообщалось, что в ролях чоругов снимались настоящие чоруги, а не какие-нибудь люди с рачьими бошками из пластика. Сразу вслед за этим следовала примечательная ремарка:
В КАЧЕСТВЕ ТРУПОВ ПОКАЗАНЫ
РЕАЛЬНЫЕ ТРУПЫ ЧОРУГОВ
Признаться, после такого анонса я воспылал неподдельной любознательностью. Подать сюда «Рыжие дюны»! Желаю видеть реальные трупы чоругов! И вообще, реализма, реализма побольше!
И все же я решил ради справедливости ознакомиться и с аннотацией фильма-конкурента.
Блокбастер «Эра Людоеда-4» повествовал о вооруженной борьбе народа Конкордии с… с… Объединенными Нациями.
Я потер глаза кулаками – в смысле, все ли я хорошо вижу? Нет ли галлюцинаций?
Нет, галлюцинации тут были ни при чем.
«Сигурд» повторил, что так и написано: «Объединенные Нации».
У меня челюсть отвисла. Так, с отвисшей челюстью, я и читал – точнее, слушал «Сигурд» – дальше.
«Без объявления войны десантные армады Объединенных Наций атаковали планету Арэзахи. Гвэн Ор, командир непобедимого отряда особого назначения „Скорпион“, знает: это не провокация. Это начало Эры Людоеда, предсказанной древними пророками. „Скорпиону“ пришло время жалить – молниеносно и беспощадно».
Ну и дела!
Вот тебе и «братья навек»!
Мы с ними плечом к плечу только что джипсов били, кровь свою проливали, между прочим. Мы их в Академии нашей бесплатно учим военным премудростям, как бедных сироток. Мы по всей Галактике трубим, что клоны – наши братья по Великорасе. Наши главные союзники. А они?
А они в это время снимают фильмы про то, как нас, вероломных людоедов, будет жалить осназ «Скорпион»!
И даже не трудятся клонские режиссеры и сценаристы нас как-нибудь иносказательно обозвать – так, чтобы в одно и то же время всем понятно было, о ком речь, и чтобы оскорбления прямого избегнуть. Назвали бы нас хоть Соединенными Нациями для приличия, а? Или Конфедерацией какой-нибудь…
Ан нет! Заложить им на приличия!
А ведь это «Эра Людоеда-4». Значит, были и «Эра Людоеда‑3», и «-2»? И там что, тоже жалят нашего брата?
В душе я просто кипел от возмущения.
– Что случилось, Александр? – спросила Исса, внимательно глядя мне в глаза. – Ты не хочешь смотреть фильм?
– Хочу. Только вот удивляюсь. Что за странные фильмы вы тут показываете?! – Хоть я и старался выглядеть саркастически-ироничным и ничего более, видимо, мне это удавалось слабо. По крайней мере Исса сразу почувствовала в моем тоне фальшь.
– А что в них странного? – спокойно спросила она.
– Сама посуди. Мы тут с тобой гуляем, я из Объединенных Наций, ты – из Конкордии. Дружим вроде. А в синемашке показывают, как мы друг друга из лазерных пушек расстреливаем. Разве это не странно?
– Но это же выдумка, Александр! – Глаза Иссы изумленно округлились. – Это же просто фантазия! Такого же не было в действительности! И не будет!
Она говорила с таким жаром, будто я – деревенщина с Мурома или Вавилона с махровым таким ретроспективным государственным устройством и совершенно не секу разницы между документальными и художественными фильмами. Спорить с ней было трудно. Но я попытался.
– Я понимаю, что это выдумка. Но разве нельзя снять какую-нибудь жизнеутверждающую выдумку? Мирную? Что-нибудь приключенческое, про давние времена, например. Или просто про жизнь молодежи, а?
– Не интересно «про жизнь». Простые люди не будут смотреть, – довольно категорично возразила Исса.
– Почему?!
– Потому, что жизнь – это скучно. Работа, работа, снова работа… Людям нужен враг, чтобы им было интересно. Ты же понимаешь, большинство людей, населяющих нашу Родину, обладают пока довольно низкой культурой восприятия. Им хочется прийти в синематограф – и, образно выражаясь, спустить пар. Душевно попереживать. А какое самое лучшее душевное переживание? Чувство, что ты победил врага. Ты согласен, Александр?
– Согласен, – процедил я, хотя, по правде говоря, считал, что есть переживания и получше торжества по поводу победы над врагом.
Например, чувство духовной общности со своими друзьями. Сопереживание чужим историям любви. Может быть, я сентиментальный человек. Когда я сам ходил в синемашку, я предпочитал, как правило, лав сториз…
Я не стал говорить все это Иссе. Лишь спросил:
– Но почему мы? Ведь Объединенные Нации никогда не воевали с Конкордией!
– Мы и с чоругами никогда не воевали, – спокойно парировала Исса. – Невзирая на это, на наши экраны ежегодно выходит не менее тридцати фильмов про войну с чоругами.
– Ого!
– И вдвое меньше про войну с Объединенными Нациями.
– Гм… Но почему бы не взять какого-нибудь абстрактного врага? Можно ведь придумать каких-нибудь вуалехвостых восьмиголовых разумных змей. Очень-очень враждебных! Очень-очень агрессивных!
– Демы не понимают ничего абстрактного, Александр! Они не понимают никаких вуалехвостых змей!
– Но ведь в Конкордии есть еще три касты: пехлеваны, заотары и энтли. Нужно ведь снимать фильмы и для них? Они ведь поумнее демов?
– А почему ты думаешь, что энтли и пехлеванам эти фильмы не нравятся? Вот взять хотя бы Риши. Она – пехлеван. При этом она смотрела все «Эры Людоеда» и была в восторге!
Я не нашелся, что ответить.
– Да выкинь ты из головы эти глупые фильмы! – сказала наконец Исса. Сказала так искренне и улыбнулась мне так ласково, что все мои претензии враз показались мне глупыми и надуманными. – Может, просто уйдем отсюда? – предложила она.
– Ну уж нет. Теперь я просто обязан посмотреть «Рыжие дюны Ишкаты».
– Что случилось?
– Они нападают!
– Мы должны дать им отпор!
– Но у них численное превосходство!
– Это ничего не значит! Мы должны выстоять!
– Но у нас кончается горючее! Нужно отходить!
– Никогда! Мы никогда не доставим чоругам удовольствия увидеть наши спины!
– Но они могут нас уничтожить!
– Я не боюсь смерти! Позор хуже смерти!
– А-а-а-ах, г-а-а-а-ды!
– Что с тобой, сержант? Сержант? Ты живой? Родина гордится тобой, сержант…
Вот такие там были диалоги. Кто не верит, может посмотреть «Рыжие дюны Ишкаты» самостоятельно. Обещаю: не забудете еще долго.
Фильм баловал зрителя детальным показом бесконечной бойни, которая шла одновременно и в космосе, и в небе, и на земле, и на море (откуда на пустынной Ишкате взялось море – это отдельный вопрос, кстати).
Сюжет в нашем, земном, понимании практически отсутствовал. То чоруги режут на куски клонов, то, наоборот, клоны испепеляют чоругов, да так, что летят клочки по закоулочкам.
То, благодаря каким-то загадочным оперативным преимуществам, чоруги наносят удар в тыл клонам, то клоны, благодаря еще более загадочным загодя принятым стратегическим решениям, выходят целые и невредимые из окружения и вламывают чоругам по первое число.
И при этом совершенно не понятно, за что, собственно, воюем? За ресурсы? За территории? Из-за идеологических разногласий по вопросу о том, имеют ли люди моральное право употреблять в пищу обычных, неразумных раков, коль скоро те – ближайшие фенотипические родственники чоругов?
Операторская работа меня тоже немало потешила. Самым популярным режиссерским приемом был показ общих планов с последующим стоп-кадром и повторением особо ударной сцены.
Вот, например, нам рассказывают, как клоны накрывают ракетным огнем глинистую высотку, где окопались четыре десятка раков в бронескафах – авангард вражеского батальона.
Вначале камера горным орлом парит над полем боя. Доводит до нашего сведения совершенно необязательный факт наличия неподалеку соляного озера. Показывает несомые ураганным ветром перистые облака. Ударяясь в непонятное мне эстетство, с минуту наблюдает за движением пыльной поземки. Любуется чахленьким тюльпаном…
И – резко бросается вниз. Вступает громкая патетическая музыка.
Сразу на высотке чоругов начинают рваться ракеты. Шарообразная командирская палатка, которую обдало разбушевавшимся пламенем, раскрывается подобно цветку, обнажая вкопанную в землю стальную ось с острым блестящим наконечником.
Ткань палатки горит. В земле множатся воронки – одна, две, десять.
Не ожидавшие нападения чоруги методично взлетают на воздух. Вот командира чоругов поднимает взрывом и бросает прямо на стальную ось палатки. Ось протыкает рака насквозь в районе сочленения головогруди со спинкой. Бронескаф командира подозрительно легко обугливается и облазит лохмотьями, обнажая рачье тело. Фонтанами хлещет дурная кровь салатно-зеленого цвета. Смерть гада близка. Чоруг шепчет проклятия своим хитиновым ртом. Его малосимпатичное пупырчатое «лицо» искажено ненавистью ко всему живому.
И тут, когда мы уже ожидаем чего-то новенького, начинается… повтор сцены!
Вот стальная ось палатки снова протыкает высокопогонного чоруга, вот он шепчет проклятия и грозит клешней, и все это ме-е-едленно, очень медленно.
В миг конечного издыхания вредоносного рака камера делает стоп-кадр. Словно хочет сказать: «Запомните его таким».
Ох и накрошили же там, кстати сказать, этих несчастных чоругов. Я, конечно, не считал, но уверен, что число убитых «в камеру» раков исчислялось сотнями. Вот это ненависть, между прочим!
Почему я рассказываю все это так подробно?
Во-первых, потому что никогда раньше я такой кровожадной и однообразной чуши не смотрел. У нас в Объединенных Нациях тоже имеются свои боевики. Но даже самые тупые из них (вроде «Фрегата „Меркурий“) по сравнению с этим – шедевры психологизма и связности!
В наших «Смертельных ударах» или «Пощады не будет» всегда какой-нибудь Даня или Серега по ходу пьесы мужает, решает свои личные проблемы, мстит за погибших друзей или спасает сироток из лап негодяев. Но чтобы просто мочить три часа каких-то инопланетян безо всякого предлога…
Но это во-первых. А главное – во-вторых. Я рассказываю про фильм потому, что хочу намекнуть: не от хорошей жизни я всю эту галиматью смотрел.
Какие уж там поцелуи… Все, что позволила мне Исса в синематографе, – держать ее руку в своей. Что может быть безгрешнее?
Впрочем, и за то ей большое человеческое спасибо.
Потому, что рука у нее была такой же волшебной, как и она сама. Потому, что каждый пальчик на ее не знавшей маникюра руке был прекрасен.
Само присутствие Иссы кардинально подсластило для меня дебилистические «Рыжие дюны». Я вышел из синемашки, блаженно улыбаясь.
– Тебе понравилось? – спросила Исса.
– Очень! – ответил я.
А потом я вдумчиво провожал ее до корпуса, где жили она, Риши и еще две девушки с линкора «Видевдат».
Мы исходили весь парк, мы дышали влажным теплым воздухом и болтали о ерунде. А когда мы пришли, я просто сказал ей: «До завтра».
Я собрался уходить, когда Исса, уже стоя на крыльце, шепотом спросила: «А что, разве ты не хочешь поцеловать меня на прощание?»
Вот потому-то я и называю тот вечер сильным эротическим переживанием…
Глава 10
Впервые в жизни
Октябрь, 2621 г.
Необитаемый полуостров
Планета Фелиция, система Львиного Зева
Те первые сутки на Фелиции Эстерсон мог с полным правом назвать днем своего второго рождения.
В свой первый день на Земле младенец Роланд Эстерсон учился дышать воздухом, а не околоплодными водами, брать грудь и громогласно кричать, пытаясь таким образом довести до сведения незнакомых великанов в сиреневых медицинских халатах факт наличия у себя характера и сложной душевной организации.
Ничего из перечисленного младенец Эстерсон делать как следует не умел, к большому сожалению его матери, Марты Бух – ревностной католички, которая представляла себе младенцев преимущественно по картинам, изображающим Богоматерь и сияющее, довольное дитя.
День второго рождения, уже на Фелиции, при всей несхожести того трехкилограммового Роланда и этого, восьмидесятикилограммового, был во многом копией первого.
Как и тогда, позади была смертельная опасность. Как и тогда, многое приходилось делать впервые в жизни.
Например, плакать.
Когда Эстерсон был пай-мальчиком в хорошо скроенной униформе престижной частной школы имени Оксеншерна, он, конечно, частенько ревел.
Его с удовольствием побивали физически развитые сверстники. Его учителя бывали черствыми, несправедливыми и чересчур требовательными, а любимый мультсериал ни с того ни с сего снимался с программы вещания. Как тут не зареветь?
Но с тех пор как он стал осознавать себя взрослым, то есть где-то с тринадцати лет, Роланд Эстерсон не плакал никогда. И хотя случалось разное (умерли родители, ушла к другому жена), броня его разума крепко оберегала Роланда от «немужских» способов выражения своих эмоций.
Итак, на Фелиции Эстерсон заплакал впервые за четверть века.
Гибель Станислава Песа, его случайного компаньона и даже, как теперь думал Эстерсон, друга, совершенно деморализовала конструктора.
И хотя, наверное, он, Эстерсон, ничегошеньки не мог сделать ради спасения коллеги, разве что погибнуть вместе с ним, какой-то гнусный голосок шептал на ухо: «Мог! Еще как мог! Нужно только было сажать машину поаккуратнее!»
В тот день Эстерсон впервые в жизни сам приготовил себе еду.
На Земле «готовить еду» обычно означает что-то пафосное. Как минимум говяжью печень в сметанном соусе. А лучше бы фаршированного орехами и сочной курагой кролика, царящего среди жаренного на сливочном масле картофеля и листьев молодого салата.
Достижение Эстерсона было куда более прозаическим. Он всего лишь отфильтровал пол-литра соленой воды, залил ею банку саморазогревающихся высококалорийных консервов «Цыпленок мечты» и как следует размешал получившуюся комковатую массу. Но и это было для него впервой.
И то сказать. В детстве его кормила бабушка Матильда, у которой было такое хобби: всех вокруг себя кормить. «Есть будешь?» – спрашивала она вместо приветствия каждого, кто появлялся на пороге.
Потом бабушку на этом ответственном посту сменила мать. Она готовила завтраки и ужины, а обеды маленький Роланд получал в школе, где, конечно, никто не рвался учить его шинковать капусту или заваривать чай.
В колледж он не ходил, поскольку был признан чересчур башковитым.
В университете таким башковитым, каким выявил себя Роланд, полагались специальные льготы. В том числе бесплатное питание в особой экспериментальной столовой, предназначенной для поддержания физических и моральных сил подающих надежды интеллектуалов. Чтобы те не очень отвлекались от своего интеллектуализма.
Затем Роланд женился. В те редкие деньки, когда он все же появлялся дома, жена сдувала с него пылинки и откармливала штруделями и душистыми грибными супами (пока не выплеснула Эстерсона из своей жизни словно тарелку скисшего бульона). И уж конечно, ни о каких приготовлениях яичницы не могло быть и речи.
А дальше были конструкторские бюро и авиакосмические концерны. Везде его считали необходимым откармливать, бдительно следя за тем, чтобы рука великого Роланда не касалась таких бренных материй, как шумовка, сковородка или хотя бы консервная банка.
И вот: Фелиция…
На великого Роланда здесь всем было насрать.
Было еще много разных «впервые».
Например, впервые Роланд заснул не в нормальной человеческой кровати, крепко обхватив тугую ортопедическую подушку, а в слезах и соплях, в обнимку с отвалившейся от «Дюрандаля» стойкой шасси, прямо под открытым небом.
Под чужим небом с незнакомыми, зловещими звездами.
Среди колючих песков и вулканической лавы. С видом на море, где обитают существа, которым такие правильные и веские слова, как «неприкосновенность разумного индивида» и «всегалактические права личности», ровным счетом ничего не говорят.
Эти существа, судя по их размерам, вполне могли по пояс высунуться из своей родной пучины и прибрать в свои щупальца Эстерсона точно так же, как Песа вместе с истребителем.
Но в тот момент Эстерсону было действительно все равно.
Его равнодушие в ту ночь было уже далеко не тем леностным чувством, которое испытывают обычные люди, когда они устали или разочаровались. Нет. Это почти мистической мощи чувство шло из самых глубин души. Оно было сильнее даже инстинкта самосохранения.
И хотя Роланд знал – умом знал, – что сейчас нужно, просто необходимо до зарезу, подняться и спрятать стойку шасси вместе с другими мелкими обломками, сложить парашюты, а также зарыть (или утопить) кресло на случай, если завтра по его горячим следам на Фелицию нагрянут недобрые мальчики из концерна «Дитерхази и Родригес», заставить себя подняться он не мог.
«Прилетайте, вояки недобитые. Патриоты картонные. Давайте, я тут, – вполголоса повторял Эстерсон. – Что вы со мной можете сделать? В крайнем случае убьете. Не велика потеря для общества».
В целом же думать о родном концерне ему было так же лень, как и о спасении. Сознание Эстерсона гораздо охотнее возвращалось ко временам детства. К бабушке Матильде и ее сливовому пирогу. К буйным школьным переменам, где мальчишки играли в «конячек», запрыгивая друг другу на закорки. На тех переменах было так весело, как никогда не бывало конструктору после.
С мыслями о школьных «конячках» Эстерсон в ту ночь и заснул. То был сон без сновидений. Липкий и вязкий, как Х-матрица.
Когда Роланд Эстерсон проснулся, солнце уже стояло высоко и палило нещадно. С океана дул сильный ветер.
Он встал. Потянулся. Отбросил со лба липкую от пота прядь волос и взглядом киношного ковбоя посмотрел в сторону рифа. Не всплыл ли за ночь «Дюрандаль»?
Не всплыл.
Тишь да гладь. Теплая, с изумрудным отблеском вода, подернутая легкой рябью. Совершенно курортные дали. Чистый, не загаженный цивилизацией желтый песочек. Нарядный коралловый риф, в котором смешались все яркие оттенки красного. Кто бы мог подумать, что в этой дружелюбной теплой водице водится нечто, способное проглотить огромный многотонный истребитель?
«Права была бабушка Матильда. Было бы болото, а черти найдутся», – пробурчал мрачный, как грозовая туча, Эстерсон и спустился с обрыва к воде.
Он все-таки тешил себя надеждой, что, может, хоть не истребитель, так косточки пана Станислава проклятая пучина изрыгнула.
Ему во что бы то ни стало хотелось достойно похоронить погибшего. И хотя за Эстерсоном не водилось особо требовательной религиозности, на этот раз он знал точно: если не похоронить Песа или того, что от него осталось, честь по чести, он будет казнить себя всю оставшуюся жизнь. Даже если ее, этой жизни, и осталось-то ровно на полдня.
Нет, берег был пуст.
Не подходя близко к кромке воды, Эстерсон прошелся по побережью – пятьсот шагов на северо-восток, пятьсот на юго-запад. Опасность повстречаться с океанскими гадами была велика, но страха он не испытывал.
– Станислав, э-ге-гей! – крикнул Эстерсон.
Никто не откликнулся. Тишина была совершенно мертвой, если не считать бандитского посвиста ветра в ушах.
«Как в чертовой Патагонии», – подумал Эстерсон.
По мере того как безрезультатность этой тревожной прогулки по пляжу становилась все более очевидной, на Эстерсона накатывало отчаяние.
Он остановился и похлопал себя по карману, где лежал «ЗИГ-Зауэр».
«Нужно было застрелиться тогда. В туалете перед зеркалом. По крайней мере не вовлек бы человека во все это дерьмо, проклятый убийца, – подумал Эстерсон, под убийцей разумея, конечно, себя. – Впрочем, еще не поздно… Никогда не поздно… И никто не заплачет».
Одному Богу известно, до чего еще додумался бы в то утро Эстерсон, одержимый комплексом вины, если бы на песке перед ним не замаячило что-то мокрое, темно-синее, похожее на выстиранную тряпицу.
Эстерсон сел на корточки и поднял синюю вещицу. Присмотрелся. И, тихо застонав, в изнеможении закрыл глаза.
Это был воротник синего шерстяного свитера, выброшенный волнами на берег.
Ткань была мокрой, отяжелевшей от воды, но казалась свежей и совсем не пахла гнилью. Не будучи экспертом по мокрым тряпкам, Эстерсон, однако, был готов свидетельствовать в суде: тряпка, пролежавшая на пляже пару недель, выглядит совершенно не так.
«Воротник свитера пана Станислава…» – пронеслось в голове Эстерсона.
«А вдруг нет? Какого цвета свитер был на нем вчера? И был ли вообще какой-нибудь свитер?» – спросил он себя минутой позже.
Но как ни напрягал Эстерсон память, а вспомнить не мог.
Он, знавший все спецификации истребителя «Дюрандаль» с точностью до пятого знака, не помнил, во что был одет человек, рисковавший рядом с ним своей единственной жизнью ради свободы. Впрочем, чего можно было ждать от него, никогда так и не запомнившего фамилию своей бывшей жены?
Нелестно отозвавшись насчет своей очень уж избирательной наблюдательности, Роланд после долгих торгов с самим собой уговорил себя, что в его руках – фрагмент свитера пана Песа.
Настроение его упало ниже низкого.
Уровень агрессивности, напротив, взлетел до небес. Наверное, вся та старательно подавляемая ненависть, которую, как скряга копит деньги, Эстерсон копил на Церере, вдруг отыскала себе лазейку.
Он уже был готов броситься в море, чтобы голыми руками задушить подводного монстра или погибнуть, как его взгляд упал на изнанку воротника с уцелевшим кожаным лейблом.
На лейбле было написано одно-единственное слово: «Hoffnung».
Взгляд Эстерсона намертво прилип к лейблу. На глаза навернулись непрошеные слезы.
Нет, он не был сентиментальным сумасшедшим и знал, что «Hoffnung» – это название известной и о-очень крупной немецкой фирмы-производителя модной одежды. Такой крупной, что даже он, Эстерсон, эту марку помнил с детства. Его слезы не имели к модной одежде никакого отношения.
Дело было в другом. Он прочел название буквально. Не как фамилию основателя фирмы, а как обыкновенное немецкое слово. Это одинокое человеческое слово на пустынном пляже в тысячах световых лет от Земли было как глас свыше. И глас этот рек: «Надежда».
В то утро Эстерсон впервые улыбнулся на планете Фелиция дерзкой, вызывающей улыбкой.