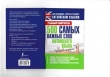Текст книги "Русская стилистика - 1 (Фонетика, Графика, Орфография, Пунктуация)"
Автор книги: Александр Флоря
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Эту неполную адекватность обусловливает его сочетание с метафорическими словами великих и полн. Буквально понимаемому слову придаются метафорические атрибуты, на него падает тень метафоризации: ведь на самом деле эти думы не материальны, не огромного размера и не способны заполнить некий полый предмет, стоявший на берегу и обозначенный местоимением он.
Трактовка местоимения, на первый взгляд, не вызывает затруднений. Понятно, что Пушкин знает, кого имеет в виду, но не только это: он строит текст, исходя из этого знания.
Первые читатели поэмы, конечно, не могли исходить из сюжета об оживающей статуе, но вряд ли слово он было загадкой и для них. В самых тривиальных случаях человек ассоциирует местоимение с предшествующим существительным того же рода, что и сделал Обломиевский, глупо предположив, что если "он" – это не Петр, значит, Медный всадник, т.е. наименование, предшествующее местоимению. Трактовка, разумеется, курьезная, но курьезность имеет свои пределы. Ведь, строго говоря, к местоимению он гораздо ближе стоит, просто примыкает к нему, другое существительное – имя В.Н. Берх, упомянутое в Предисловии: Любопытствующие могут справиться с известием (о наводнении в Петербурге – А.Ф.), составленным В.Н. Берхом. Более того, это имя выделено курсивом, как и местоимение он, что могло бы облегчить акт сопоставления этих слов. Излишне говорить, что такая процедура может быть проделана только формально. Смысл ее настолько нелеп, что ни профессору, ни даже студентам мысль о возможности такого прочтения не приходит в голову.
Формальное истолкование местоимения он оказывается абсурдным, однако мы трактуем его без затруднений. Почему? Прежде всего, оно оформлено особым образом: выделено курсивом. Курсив сигнализирует нам об ослаблении синтагматики и активизации парадигматики – о том, что местоимение он не следует мотивировать ближайшим предшествующим контекстом, что понять его нам поможет тезаурус (т.е. система наших знаний о мире), причем понять однозначно. Хотя "он" – это не Медный всадник, но сегмент Медный всадник (т.е. явный конный монумент – в этом сомнений нет) в сочетании с "великими" думами позволяет ассоциировать "его" с Медным всадником по принципу не тождества, а метонимии. Упоминание Петербурга в подзаголовке ("Петербургская повесть") и наводнений в Предисловии (т.е. укрепление петербургского топоса) не оставляет никаких сомнений, что "он" – это Петр I. В тексте сказано достаточно для активизации наших экстралингвистических знаний, посредством которых мы однозначно идентифицируем и "берег пустынных волн"* и "его" и уясняем характер "великих дум". Сопоставить "его" и Медного всадника нам помогают и формальные признаки: инициальная позиция обоих сегментов и их особое выделение – пунктуационное и пунктуационно-графическое: местоимение выделено курсивом, заглавие сплошными прописными и разрядкой.
Предположения тут же подтверждаются – тройным повторением имени Петра и "стенограммой" его "великих дум".
Почему же Петр сразу не называется прямо – как, например, в "Полтаве" (Выходит Петр, хотя с тем же успехом можно было бы сказать: Выходит он)? В "Полтаве" это действующее лицо и, главное, живой человек. В "Медном всаднике" это воскресающий покойник. Он существует в двух планах мемориальном, как историческое лицо (и его имя упоминается прямо: Петра творенье, град Петров, тревожить вечный сон Петра – в последнем случае Пушкин, знающий о будущем оживании статуи Петра, как бы прогнозирует его), и в метафизическом – это дух, демон, продолжающий таинственно жить в русской действительности и влиять на судьбу России. В этом аспекте имя Петр табуируется и после Вступления практически отсутствует. Подобно римскому императору, Петр после смерти как бы обожествляется; знак этой сакрализации – монумент, метонимически подменяющий его. Памятник – это "кумир", и он внушает суеверный ужас. Мистически осознаваемый Петр предстает в ореоле перифрастических эвфемизмов: кумир на бронзовом коне; ...того, / Кто неподвижно возвышался / Во мраке медною главой, / Того, чьей волей роковой / Под морем город основался– так воспринимает его Евгений, и ему вторит автор: О мощный властелин судьбы! Даже взбунтовавшийся Евгений опасается назвать Петра по имени: Добро, строитель чудотворный!
Неупоминание имени Петра в начале поэмы получает мотивировку в ее сюжете. Это не просто реальное историческое лицо, но почти божество, пересоздающее мир. Бог, как известно, тоже маркируется местоимением третьего лица, также особо оформляемым (правда, не курсивом, а начальной прописной – Он). Сопоставление Евгения с Иовом вполне прозрачно и уже отмечено исследователями. Идеологема "царь – проекция Бога" очень устойчива в русской культуре. Этой параллелью определяется смысл первых строк "Медного всадника".
Пустынные волны – синтетический троп: метонимический эпитет (метонимия – синекдоха – состоит в замене целого частью). Пустынный – не значит 'пустой' в буквальном смысле слова (Пушкиным упоминаются избы и "бедный челн"). Пустынный – почти не тронутый человеком. Пустыня – место торжества дикой природы. Семантика обоих тропеиче-ских сдвигов, представленных в этом словосочетании, одна и та же: уход от конкретности. Конкретный гидроним Нева – дробится на какие-то абстрактные волны. Вода подменяется "пустыней". Пушкин даже идет дальше: примечательно, что он говорит о воде, а не о земле (о волнах, а не о побережье). Усиливаются мотивы безжизненности (вряд ли кто-то станет жить в "волнах") и неопределенности (пусть не очень твердая, но почва подменяется водной стихией). Все это работает на образ неоформленного хаоса4, который будет претворен творческой волей богоподобного Петра. Вот тогда описание приобретает предельную конкретность и отчетливость:
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова ...>
Люблю тебя, Петра творенье
и далее гимн во славу Петербурга, с подробным его описанием. Здесь появляются и детали, и имена. Возникает отчетливость, из хаоса создается новый мир.
Ранее было сказано, что неверное предположение студента, будто местоимение он означает Медного всадника, все же не лишено смысла, и теперь следует это пояснить. Конечно, Пушкин подразумевает Петра, но репрезентует его образ двусмысленно. В реальном, живом историческом Петре уже "дремлет" будущий мифологизированный, "монументальный" Петр.
На это указывают и прономинализация, подкрепленная курсивом, и думы, осознаваемые автором post factum как "великие". Он даже стоит на берегу реки, будто на импровизированном пьедестале. Итак, "на берегу пустынных волн" стоял не Медный всадник, но тот, кто потенциально нес в себе этот роковой образ.
Наконец, оборот дум великих полн также работает на тот же эффект деконкретизации. Здесь тоже, как и в сочетании пустынных волн, содержатся эпитеты и синекдоха – на сей раз целое выступает вместо части (он вместо разума, который, собственно, и был наполнен "великими думами"). Синекдохой подчеркивается максимальная сосредоточенность Петра на своих мыслях. В предыдущей строке синекдоха строится на сужении образа, здесь – на расширении. Отметим также, что эти строки пронизаны антонимией, как на вербальном, так и на образном и логическом уровнях. Противопоставлены суша и вода, статуарность царя и подвижность воды, антонимичны слова пустынных и полн. Напряженность, "разность потенциалов" задается с самого начала поэмы.
Таким образом, отмеченные Л.В. Щербой смысловые несоответствия объясняются эстетической семантикой данных строк. Это восхищение историческим Петром и страх перед Петром метафизическим, уподобление его творящему божеству, создающему свей мир из бесприютного невского пейзажа, сопоставляемого с пустыней. Все это не содержится в денотате и создается через языковые смещения.
Итак, теперь нам ясно, что такое "эстетический объект". Не эстетический объект – это просто предмет речи: референт или денотат. Референт – это вещь, о которой мы говорим, вещь абсолютно конкретная. Например: Дайте мне, пожалуйста, это яблоко – именно это и никакое другое: видимое, осязаемое и т.п. Денотат – это понятие о вещи. Например: Дайте мне, пожалуйста, яблоко – любое, какое-нибудь: мыслимое, представляемое. В реальной речи денотат и референт неразъединимы. Например: Я сижу за письменным столом – разумеется, я не могу сидеть за абстракцией (т.е. за денотатом); конечно, для меня это определенный предмет (референт), который мне не безразличен (за другим столом я, возможно, буду чувствовать себя неуютно), но для меня важнее факт работы, нежели сидения за столом, который имеет второстепенное значение. "Я сижу за письменным столом" фактически означает: "Я работаю", "Я пишу", поэтому письменный стол как бы игнорируется мною (превращается в денотат). Только сев за другой стол, я обратил бы внимание на место работы. Этим далеко не исчерпываются сложные взаимоотношения референта и денотата, но, полагаю, что в целом вопрос ясен.
У начальных строк "Медного всадника" есть свой референт – реальная ситуация: живой Петр I, действительно стоявший в мае 1703 г. – на берегу Невы в ее устье и думавший о преобразовании России, в том числе о новой столице. Денотат – наше знание об этом, то есть знак.
Эстетический объект – это денотат, одушевленный художественным сознанием Пушкина, а через него – и нашим. Это и трепет перед Петром, восхищение им, сравнение Петра с творящим Богом (все смысловые нюансы, заключенные в местоимении "он", выделенном курсивом), и сопоставление бесприютного невского пейзажа с пустыней. В самом денотате этого нет, все смыслы привнесены Пушкиным и выражены через языковые смещения (главным образом лексико-семантические: метафоры, эпитеты, метонимии).
Эстетический подход к языку в ХIХ-нач. XX вв. культивировали А.А. Потебня (концепция "внутренней формы" слова как следа анимистического мышления наших далеких предков) и "эстетические идеалисты" (Б. Кроче, Дж. Бонфанте, К. Фосслер, Л. Шпитцер, Г. Шухардт), причем все эти ученые были последователями В. фон Гум-больта, полагавшего, что в национальном языке заключен животворящий дух данного народа. В XX в. оформление лингвоэстетики как науки связано с именами Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, но особенно М.М. Бахтина и Б.А. Ларина.
Основные признаки эстетического значения слова: невозможность слишком конкретных толкований, внешний (и часто мнимый) алогизм связей, слабое соотношение с ближайшими по семантике словами (эстетически значимое слово "служит намеком включенных мыслей, эмоций, волнений"), неразрывная связь с художественным целым (Ларин 1974: 33; Ковтун 1968: 21). Философ Б. Бозанкет пишет: "слово, очень строго говоря, никогда не употребляется в одном и том же смысле" (Бозанкет 1957: 280), то есть оно всегда окрашено конкретными эмоциями, с ним связаны определенные ассоциации, оно употребляется в данном контексте, и вряд ли все это может буквально повториться, да еще и в одинаковых соотношениях. Здесь имеется в виду обыкновенное, не художественное слово, но если даже у него всегда есть индивидуальная (более того, уникальная) окраска, то это тем более относится к слову поэтическому. Всех его смыслов мы не выявим никогда, ибо не можем знать, о чем именно думал автор, создавая данные текст, наша цель – максимальное раскрытие семантики, которую способен понять и / или почувствовать читатель.
Во многих отношениях лингвоэстетика – не только наука, но и искусство толкования текста, т.е. герменевтика. Собственно герменевтика (экзегетика, феноменология) – это целая философия (идеалистическая), рассматривающая сложные отношения между человеческим сознанием, действительностью, миром языка и текстом, причем главная роль здесь принадлежит Богу: ведь анализировались поначалу именно духовные тексты. Жрецы – герменевты через них пытались постичь волю богов. Даже само слово "герменевтика" происходит от имени Гермеса, посредника между обитателями Олимпа и людьми. Недаром один из первых герменевтов нового времени Ф. Шлейермахер, заложил основы этой науки (о ее научности мы говорим, не забывая, что это не только наука) в "Речах о религии". Отвлекаясь от богословских и философских аспектов герменевтики, а также от ее социологии (Ю. Хабермас, П. Рикер, Ж. Деррида, Дж. Уолфф и др.), можно сформулировать следующие собственно филологические итоги, важные для нас.
Главная проблема герменевтики – понимание. Шлейермахер полагал, что интерпретатор способен стать на место автора, воспроизвести процесс создания текста и понять произведение лучше, чем его создатель. Г. Гадамер и М.М. Бахтин сделали уточнение: мы не просто замещаем автора, то есть превращаемся в него, но воспринимает произведение через себя, свою эпоху и многие другие социальные и культурные факторы. Это диалог двух сознаний (авторского и читательского). Впрочем, реальная картина сложнее.
Приступая к прочтению текста, мы обладаем "предпроектом понимания", видим (представляем себе) некий "горизонт ожидания", т. е. еще до чтения незнакомого произведения кое-что знаем о нем: какую-то информацию дают имя автора, его предыдущие книги, род и жанр литературы, заглавие, оформление обложки и т.д. У нас складывается определенное прогностическое (от слова "прогноз") представление о книге: общее ожидание, которое подтверждается или обманывается. Исходя из него, мы лучше уясняем детали, которые, в свою очередь, помогают понять целое. Это напоминает движение по кругу, процесс "челночного движения" между общим и частным так и называется: "герменевтический круг", но круг не порочный (замкнутый), а, скорее, расширяющаяся спираль, потому что наше понимание текста постоянно переносится на более высокие уровни.
По выражению Гадамера, текст задает нам вопросы. Это не совсем метафора. Его слова фактически означают следующее: самим автором в текст заложены структуры, специально обращенные к читателю, в том числе и приемы, то есть необычные употребления языковых единиц, требующие интенсивной работы мышления, провоцирующие участие читателя в активном диалоге с автором.
На основании этих трех положений была создана стилистика декодирования.
Норма.
"Дирижером" стилистической системы является норма – совокупность ее наиболее устойчивых реализаций, узаконенных в процессе общественной коммуникации. Если мы составим семантическую парадигму, то нормой окажется самый употребительный вариант, чья семантика присутствует во всех ее членах. Можно сказать, что нормативность литературного языка объективно приближается к понятию стилистической нейтральности. Нормой функционального или другого стиля является, конечно, не стилистически-нейтральный, а наиболее типичный, частотный языковой (субъязыковой) элемент.
По Э. Косериу, норма – это "система обязательных реализаций", причем филолог отмечает, что "в силу стремления к парадигматическому разнообразию норма может даже требовать реализаций, противоречащих системе" (Косериу 1963: 175, 231). Впрочем, системность и несистемность – понятия относительные.
Что это значит на практике? Возьмем знаменитое лермонтовское четверостишие:
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово.
А.А. Краевский указал автору на ошибку. М.Ю. Лермонтов несколько раз пытался ее исправить, хотел "изорвать" стихотворение, переписывал его, опуская эти строки (см.: Андроников 1967: 463-468), т.е. сам не был доволен своим вариантом, но именно эта редакция, в конце концов, осталась единственной. Почему? Помимо звукописи и ритмики, есть еще одна – важнейшая – причина: пламя – существительное, как нельзя лучше соответствующее и своему собственному значению, и эстетическому эффекту употребления его в данном тексте. Оно колеблется между двумя склонениями и двумя родами (пламя и пламень, а есть еще полымя), как само пламя колеблется на ветру. Неустойчивость, переходность слова пламя идеально вписывается в контекст его употребления: ведь здесь говорится о слове, рождающемся из огня, и сам текст иллюстрирует этот процесс. Пламя – слово "не готовое" и как бы рождающееся на наших глазах. Лермонтов не просто нарушает установившуюся норму – он будто приводит слово к его завершенности, восстанавливает его окончательную форму, по-настоящему соответствующую системе, которой противоречат разносклоняемые существительные. Возможно, они со временем слились бы с I склонением (по академической Грамматике), т.е. пламя превратилось бы в пламе, как это произошло с большинством болгарских слов того же происхождения (знаме, племе, правда, пламя там превратилось в пламен), и тогда вариант из пламя и света оказался бы нормативным.
Однако следует сказать, что в ту же самую эпоху лермонтовский вариант не был чем-то экстраординарным. Подобные "аномалии" допускали и другие писатели, даже классики. Мы помним крыловскую мартышку, прижимавшую очки "к темю". У В.А. Жуковского в переводе "Одиссеи" встречается "по стремю", у К.Ф. Рылеева в "Наливайко": "из стремя" и т.п. (см.: Булаховский 1954: 75). Итак, лермонтовское "из пламя" нарушает вариант, который в грамматической системе данной эпохи был узаконен как норма (напр., у А.А. Барсова). Однако "из пламя", с одной стороны, согласуется с другими формоупотреблениями такого же типа, распространенными в лермонтовскую эпоху, с другой – не противоречит глубинным тенденциям самой грамматической системы, которые, возможно, реализовались бы, если бы архаичная парадигма не была зафиксирована в письменной речи и грамматиках. Нормативность – понятие более сложное, чем представляется на первый взгляд. Говоря о норме, следует уточнять: о какой именно.
Можно выделить три вида норм:
а) прескриптивные, или предписательные, выражающие языковой идеал ("так следовало бы говорить") – напр., кофе среднего рода;
б) дескриптивные, описательные, отражающие традицию формоупотребления ("так принято говорить") – напр., кофе мужского рода;
в) ретроспективные, исторические ("так было принято говорить") напр., кофий. (Об этом подробнее см..: Мыркин 1998: 29).
Норма – понятие динамическое и относительное. Поясним это на самом тривиальном примере. Возьмем цепочку синонимов: лицо – лик – морда. Понятно, что первое слово – общеупотребительное, второе – книжное, третье просторечное, если, конечно, все три слова относятся к человеческому лицу. Подчеркнем: обычно не к одному и тому же. Вспомним, как у К.И. Чуковского маленькая девочка сообщает:
– Баба мылом морду моет!
– У бабы не морда, а лицо.
Пошла поглядела опять.
– Нет, все-таки немножко морда.
("От двух до пяти")
Вспомним и булгаковское замечание: "(...) что это вы так выражаетесь: по морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо" ("Мастер и Маргарита"). Лицо и морда плохо совмещаются по отношению к общему денотату и воспринимаются именно как альтернативы.
Итак, морда и лик – существительные стилистически отмеченные, а лицо нейтральное. Однако оно нейтрально лишь в определенном значении: передняя часть головы. Если же мы возьмем метонимическое значение – персона: частное лицо, официальное лицо и т.п., – то мы войдем в сферу официально-делового стиля, для которого именно такая семантика будет нормативной.
Напротив, слово морда, грубо-просторечное в приложении к человеческому лицу нельзя считать нормой даже в рамках просторечного стиля – т.е. нормой для этого стиля, – т.к. нет обязательного гласного или негласного предписания называть человеческое лицо именно мордой, а не физией и т.п. По отношению к данному стилю вульгаризм морда не нормативен, а лишь нормален, т.е. органичен. Превратить это слово в норму нетрудно: достаточно употребить его в прямом значении по отношению к животному. И, напротив, переместив на животное слово лицо, мы превратим эту нейтральную лексему в высокий поэтизм, поскольку подвергнем животное антропоморфной прозопопее (человекообразному олицетворению, или, вернее, одухотворению). Таково, напр., лицо коня в стихотворении Н.А. Заболоцкого. Лицо в этом значении перестает быть нормой, но не становится аномалией. Такое словоупотребление тоже нормально, поскольку в поэзии нормально, естественно само "очеловечивание" животного.
Эти примеры демонстрируют относительность, подвижность понятий нормы и стилистической нейтральности. Отметим и то, что отклонения от норм – это не обязательно грубые нарушения последних: это и легкие, порой почти незаметные сдвиги, вариации главного значения, допускаемые или даже предполагаемые системой (ярчайший пример – полисемия). Определенно можно сказать одно: возникновение или изменение стилистического значения обусловливается переменой контекста. Норма – явление насквозь стилистичное.
Функции стилистики
Стилистической науке присущи следующие основные функции.
1) Нормативная – определение норм, стандартов, т.е. наиболее эффективных форм функционирования литературного языка и конкретных субъязыков.
2) Дескриптивная – описание систем языка и речи, определение выразительных возможностей языковых единиц.
3) Прескриптивная – выработка оптимальных моделей коммуникации в различных условиях.
4) Культурная – стилистика отбирает лучшие литературные образцы, оберегает языковую и речевую культуру общества. Борьба человека и человечества за существование – это в решающей степени борьба за информацию, которую сохраняет культура. Но "культура – не склад информации", а "гибкий и сложно организованный инструмент познания" (Лотман 1970: 6). Сущность культуры – информация. И это в том числе информация стилистическая: представления о красоте, гармонии, духовности, мировосприятии народа.
5) Этологическая – воспитательная, дисциплинирующая: благодаря проработке тонких языковых и речевых значений человек приучается к их тщательному их использованию. Он учится мыслить, привыкает уважать язык, культуру, так или иначе облагораживается, потому что, как было сказано, "стиль – это человек", и, следовательно, стилистическое – воспользуемся выражением Ф. Ницше, – это "человеческое, слишком человеческое".
Стилистика ресурсов
В.В. Виноградов выделяет три "стилистики": языка, речи и художественной литературы (см.: Виноградов 1963: 5-6). Эта схема в целом соотносится с триадой Л.В. Щербы: речевая деятельность – языковая система языковой материал (см.: Щерба 1974: 24-26).
Ученые традиционно выделяют стилистику ресурсов – дисциплину, изучающую выразительные возможности различных языковых единиц на всех уровнях. Она также называется описательной (или дескриптивной) стилистикой, а с некоторых пор – и риторикой. В 1986 г. в СССР была переведена бельгийская "Общая риторика", построенная именно как стилистика ресурсов. В той же монографии риторике дается (С.И. Гиндиным в Послесловии) определение, фактически совпадающее со стилистикой: "(...) риторика есть наука об условиях и формах эффективной коммуникации" (Общая риторика 1986: 364).
Правда, не следует забывать, что почти любому утверждению соответствует противоположное, столь же верное (Дж. Сантаяна). Предшествующая фраза означает, что риторика – дисциплина, изучающая аутентичную речь. Иными словами, она помогает человеку максимально точно и эффективно выразить собственную мысль. Но можно сказать и прямо противоположное: риторика помогает человеку эффективно скрывать свои мысли – говорить то, что нужно сказать в данной ситуации, а не то, что мы на самом деле думаем. В этой связи приведем высказывание М.Л. Гаспарова о том, что возможен и третий вариант: "Напрасно думают, что это – умение говорить то, чего на самом деле не думаешь. Это – умение сказать именно то, что думаешь, но так, чтобы не удивлялись и не возмущались. Умение сказать свое чужими словами – именно то, чем всю жизнь занимался ненавистник риторики Бахтин" (НЛО. – 1997. – № 25. – С. 442). Наблюдение замечательное, но риторика, по-видимому, подразумевает и то, и другое, и третье. Учтем, конечно, и полисемию самого слова "риторика".
Г.О. Винокур высказывался против стилистики как особой науки: "Легко было бы (...) предложить для стилистики внутреннее разделение на фонетику, грамматику и семасиологию, тем более что она, действительно, занимается всеми этими тремя проблемами. Но это было бы серьезной ошибкой, потому что (...) звук речи как стилистический факт не существует без соотнесенных с ним фактов грамматических и семасиологических. Иначе говоря, построение стилистики по отдельным частям языковой структуры уничтожило бы собственный предмет стилистики, состоящий из соединения отдельных членов языковой структуры в одно и качественно новое целое" (Винокур 1960: 317-318). Даже если автор в чем-то не совсем прав (разве языкознание как таковое – а не только стилистика – не строится так же комплексно, однако мы не отрицаем языкознания, разделенного на языковые уровни), то преувеличения такого ученого все равно оказываются плодотворными. А плодотворный смысл фразы Г.О. Винокура состоит в том, что мало указать выразительные функции тех или иных языковых единиц: вне контекста и вне взаимодействия данных единиц с другими любые рассуждения о стилистике ресурсов останутся схоластическими. А вот с чем нельзя согласиться – так это с ошибочностью структурирования стилистики в соответствии с языковыми уровнями. Фактически это должно означать, что не существует устойчивых значений у языковых единиц (а также добавим: и последовательностей единиц) различных уровней. Это неверно, в чем мы убедимся в дальнейшем. Более того, даже звук, как показывают исследования по фоносемантике, может обладать собственным значением напр., эмотивным, – хотя Г.О. Винокур утверждал обратное.
Сейчас мы увидим, как одно и то же слово – допустим, "дуб" – на различных языковых уровнях изучается собственно лингвистикой и стилистикой.
Фонетический уровень
Лингвистика
Слово "дуб" состоит из трех фонем: /д, у, п2/. В слабой финальной позиции нейтрализован признак звонкости/глухости. Фонемы реализованы в виде аллофонов [дуп].
Д – согласный шумный звонкий парный, высокий, диффузный, недиезный, прерванный, нерезкий; переднеязычный передненебный, смычный взрывной, твердый парный.
У – гласный, низкий диффузный, бемольный, непрерывный; заднего ряда, лабиализованный, верхнего подъема.
П – согласный шумный глухой парный, низкий, диффузный, недиезный, прерванный, нерезкий; губно-губной, смычный взрывной, твердый парный.
Один слог, прикрытый, закрытый. Акцентный тип С1.
Стилистика
Возьмем строки Б.Л. Пастернака о младенце Христе
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Здесь используются два фонетико-стилистических приема: фоника (звукопись) и анаграмма. В основе первой лежит вторая. Базой для ассонанса (повторения гласных) и аллитерации (повторения согласных) служат слово "дуб", в котором компактно собраны опорные фонемы этого стиха, и "дупло", где добавляется сонорная /Л/, обрамляющая данные фонемы.
Если мы обратимся к фоносемантическим характеристикам звуков, из которых состоит слово "дуб" (см. таблицы звуковых значений в: Журавлев 1974), то увидим, что они довольно противоречивы. Д – прекрасный, радостный, возвышенный, бодрый, яркий, сильный, стремительный, суровый, темный, тяжелый, угрюмый, зловещий (курсивом выделяем наиболее проявленный признаки). У – нежный, возвышенный, сильный, медлительный, суровый, печальный, темный, тоскливый, зловещий. П – стремительный, медлительный, тихий, минорный, печальный, темный, тоскливый, устрашающий. Л/Л', выполняющие функцию рамки, в максимальной степени передают следующие признаки: прекрасный, светлый, радостный, сильный. Если учесть, что перечисленный звуки создают фоническую основу данных строк стихотворения, то общее настроение этого фрагмента можно охарактеризовать как меланхолическое и просветленное, проникнутое надеждой и тревогой. Излишне объяснять, насколько это сложное чувство естественно и для этих строк, и для всего пастернаковского стихотворения.
Лексический уровень
Лингвистика
У слова "дуб" два денотативных значения: дерево из семейства буковых (Дуб растет) и материал (мебель из дуба).
Стилистика
У того же слова есть переносное эмотивное значение: тупой, неотесанный человек (Ну, ты и дуб!).
Словообразовательный уровень
Лингвистика
В слове "дуб" непроизводная основа. От него можно образовать слова "дубняк", "дубовый", "дубина" (палица) и т.п.
Стилистика
С помощью суффиксов субъективной оценки от слова "дуб" можно образовать слова "дубок", "дубочек", "дубина" (дурак) и т.п., причем в последнем случае суффикс -ин– уже не нейтральный, а преувеличительный (срав.: детина, домина). Особый случай – неморфологическое (лексико-синтаксическое) образование фамилии Дуб в романе Я. Гашека "Похождения бравого солдата Швейка".
Морфологический уровень
Лингвистика
"Дуб" – существительное I склонения (твердый вариант), конкретное или вещественное (если означает материал), нарицательное, неодушевленное, мужского рода, изменяется по числам (конкретное) и падежам.
Стилистика
В этом аспекте имеет значение падежный вариант на дубу (разговорный или народно-поэтический – напр., у П.П. Ершова:
Сидит ворон на дубу.
Он играет во дуду)
в сравнении с нейтральным на дубе. Кроме того, существительное "дуб" в значении "тупой человек" становится одушевленным (и тогда можно будет сказать: "Я и раньше встречал таких дубов", но не "такие дубы"). В свою очередь фамилия Дуб становится существительным не только одушевленным, но также именем собственным.
Синтаксический уровень
Лингвистика
Со словом "дуб" можно составлять словосочетания (напр., увидеть дуб глагольное объектное, связь предсказующая обязательная – сильное управление) или предложения (Дуб растет; структурная схема – N1 Vf).
Стилистика
Можно образовать односоставное номинативное предложение – Дуб. Его нельзя считать стилистически нейтральным, потому что "имя существительное, образующее главный член номинативного предложения, совмещает в себе в концентрированном виде образ предмета и идею его существования в плане настоящего. Отсюда богатые экспрессивные возможности номинативных предложений и широкое их использование в статических описаниях, в повествованиях для передачи быстрой смены явлений и предметов, в эмоционально окрашенной речи" и т.д. (Розенталь 1974: 201). Дуб может относиться и к другим стилистически значимым конструкциям: эллиптическим предложениям, именительному темы, заглавиям – художественного, научно-популярного или другого текста, словарной статьи и т.д.