Под музыку Вивальди
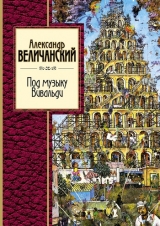
Текст книги "Под музыку Вивальди"
Автор книги: Александр Величанский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Незримо и грозно
Зурабу Кикнадзе
Телави: узки и приземисты камни руин,
оград виноградных, проулков, ведущих в былое.
Фиаты, Фиаты вертлявые еле по ним
форсить исхитряются. Ночь наступает и строит
тяжелую церковь на площади, где ребятня
играет наощупь в футбол. Это маленький город.
И дышит народ на порогах домов после дня
с тяжелым, как олово, солнцем. Лишь храм на запорах.
Вот крепость срослась с вековой алазанской землей.
А вот на одном из проулков кривых перевале
(Фиаты юлили и дети вертелись юлой)
встал дом каменистый: давно уж в нем не обитали
ни люди, ни духи, казалось – ни стекол, ни рам,
ни ставен – чернее, чем ночь, были окон пустоты —
да: дом пустовал, как Телавский заброшенный храм,
и полуразрушен был столь же… Но вдруг поворот, и
в одном из проемов оконных увидели мы —
увидели белую голову – в черном проеме —
седую старинную голову – у головы —
пустые глазницы чернее, чем тьма в этом доме.
Была неподвижна чужой головы седина,
но только по ней было ясно, что это – старуха —
глазниц пустотою куда-то глядела она.
Такой неподвижности чужды движенья и звуки.
И все же куда-то глядели пустоты глазниц
(хоть белые клочья волос ее не шелохнулись),
и ночь исходила незримо и грозно из них
на мир, на Телави, на угол двух сгорбленных улиц.
Старики
Он был смертельно болен, и жена
его состарилась над долгою болезнью,
устала и сама была больна
уже давно. Мы отдыхали вместе
под Вильнюсом. Сосновые леса.
Чуть потускневшие старинные озера.
На мызе жили: старый дом и сад
ухоженный. Сошлись мы очень скоро.
Мы жили в комнатушках проходных.
Он много знал – недуг его не старил.
Я по окрестностям прогуливала их…
Но вот что: я играла на гитаре,
хоть редко, но еще в педвузе бард
один меня привадил к этим звукам.
(Я не любительница болтовни и карт
и прочих девичьих забав). От друга
я получила горькое письмо,
плачевное письмо в тот самый день, и
уж заполночь, самой себе на зло,
я еле слышно стала тенькать
один романс старинный… Вдруг меня
привлек какой-то звук – чужой и жалкий.
Я прервалась. У них был свет. И я
услышала: «Ну, что ж вы? Продолжайте».
Тогда послушно я взяла аккорд
и в дверь вошла к ним. Сидя на постелях,
они тихонько (не тоска, не скорбь,
а счастье прошлое), они тихонько пели…
Он был смертельно болен. Лысоват.
И страшно худ под тонким одеялом.
Я знала лишь мелодию. Слова
от них тогда впервые услыхала.
Отраженья
Отраженья дерев
коренятся в земле.
Но пленительных дев
заземлить не удастся:
не поймешь, не затмишь,
и, как пламень – в золе,
отражали мы лишь
их минутные страсти.
Впрок
«Фривольный пусть сочтет меня фривольным».
К. Кавафис
Про милых дам
сказал я без затей,
своим страстям
бесстрастью ль – потакая.
Я слишком плох,
чтоб не любить людей —
кому же впрок
взаимосвязь такая.
Подземная нимфа (5)
Подземная нимфа, газету сложи:
пора подниматься – сначала на землю,
затем по ступенькам в автобус, где зело
толкают, затем уже – на этажи —
всё выше – пусть лифт отказался от роли —
а там еще выше: встав на табурет,
возвысить газетою гору газет,
растущую на антресоли.
ИНВЕРСИИ
(1980)
«В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море».
А. Пушкин
«То ли дело: среди ночи…»
То ли дело: среди ночи,
когда неба нет —
очевидны многоточья
звезд или планет.
День, и снова небо тонко,
а за небом там —
что – никто не знает толком
из господ и дам.
«Гол король от веры в перья…»
Гол король от веры в перья,
в мантию… А сброд,
сброд стыдится лишь неверья
своего: грядет
царь в парче!.. Пацан-козявка
вякнул: «Гол король!»
Но царю не стыдно – зябко,
только зябко, голь!
«Человек, как волк обложен…»
Человек, как волк обложен
небылью своей.
Как клинок, тебя из ножен
я не выну. Лей,
лей любовь, вино, понеже
льется. Но по мне —
ты лишь небылью своей же
стиснута, а не.
«Мы, как сплетни, пересуды…»
Мы, как сплетни, пересуды
сообщались, как сосуды
силой пустоты,
в нас зиявшей – рты,
пальцы, нервов многоточье…
Колбочки часов песочных:
как их не верти,
срок один в них – ты.
«Хоть отъявленною явью…»
Хоть отъявленною явью,
как стеклом литым.
я и сдавлен, всё же я в ней —
как в сосуде джин —
блики пылью вековою
поросли, как мхом…
Что мне явь? – а мне б: на волю
из нее тайком.
«Сообщилось судно течью…»
Сообщилось судно течью
с вечностью пучин.
Но морские волки, те что
знают, что почём —
судно кинули, и, судя
по всему – спаслись.
Терпят бедствие на судне
только стаи крыс.
«В чем сосудов сообщенье?..»
В чем сосудов сообщенье? —
в том ли, что ни коей щелью
не пренебрегла
влага спрохвала?
В том ли, что чекушку, скажем,
мы до дна допьем
и ее наполним нашим
недобытием?
«Уходите без оглядки!..»
Уходите без оглядки!
Состраданья соль,
даже если слезы сладки,
каменеет… Боль
не застынет изваяньем
ваших, что ль, особ —
не имея очертанья,
станет соли столп.
«Звук, я чист перед тобою…»
Звук, я чист перед тобою,
при моих грехах —
кто нас разольет водою
хоть на вздох и прах?
Безъязыкая музыка,
что тебя я без? —
атмосферы ль синей зыбка
или мрак небес?
«Близ холма, что всем известен…»
Близ холма, что всем известен
как гора Парнас,
я бесхитростных овец и
коз убогих пас.
Крючковатым был мой посох —
им – единый мах —
я ловил ягнят и нес их
в гору на руках.
«Было как-то ненароком…»
Было как-то ненароком
утро, но не дня.
Провода набрякли током.
Транспорта возня
началась. В кофейной гуще
ощущений, плеч
всяк душе своей грядущей
двигался навстречь.
«Зренье видит всё заранье…»
Зренье видит всё заранье.
Вкуса уксус лишь —
блажь. Беспало осязанье —
душ не заголишь.
Высечен из глыбы запах
тлена. Слух оброс
страхом. В порах полосатых —
ухо, горло, нос.
«Кладбище желтее птицы…»
Кладбище желтее птицы
райской. Листопад
средь крестов, оград
пал навеки ниц он.
Выше тишины,
обнаженней Божья страха,
как восставшие из праха,
дерева черны.
«Ради боли утоленья…»
Ради боли утоленья,
втаптывая в грязь
грешных нас (в свои творенья),
станут, открестясь,
воспевать решетки, нары
и параш дерьмо —
кто на родине Эдгара,
кто в краю Рамо.
«На людское поголовье…»
На людское поголовье
погребальной глины комья
падают с небес.
Высь небес их вес
полнит силою ударной —
беспощадной, богоданной…
И глядит толпа,
вздевши черепа.
«Выдохся июль. Всё шире…»
Выдохся июль. Всё шире
времени уход
между нами. Вот
даже тополя в квартире
не клубится пух,
семенем набухший. Впрочем,
во дворе на лавке склочен
сонм седых старух.
«Отвлекаясь от бумаги…»
Отвлекаясь от бумаги,
ну, хотя б на миг,
скажем, что у нас в продмаге
(прямо в нем) мясник
удавился. Были толки,
отчего и как.
Но ни кто не смыслил толком
в смерти, в мясниках.
«Не ночами – утром к чаю…»
Не ночами – утром к чаю
жду ее, вернее чаю
появленья: вдруг
вторгнется и рук,
уст моих коснется бурно,
вспыхнет, как смола…
А уйдет… я пуст, как будто
женщина ушла.
«Не запомнил я, казалось…»
Не запомнил я, казалось,
цвета этих глаз,
но наутро все казалось
цвета этих глаз:
в сквере – лиственницы, ели,
девы, дети, спаниели,
блик асфальта ли,
голый дом вдали.
«Годы сменит вдруг година…»
Годы сменит вдруг година.
Человек в свой срок
к Богу лепится, как глина,
жаждет, как песок.
Бог на черепки воззрится
с чистой высоты
или на песок – крупицы
кварца и слюды.
«Как сквозь землю провалилось…»
Как сквозь землю провалилось
солнце в море. Свет
стал рассеян, словно вспомнил
что-то. Мчались с дюн
в волны три наяды юных,
тешась прытью ног.
Сколько же им было десять
наших лет назад?
«Ты ушла из жизни. Да, я…»
Ты ушла из жизни. Да, я
знаю – из моей
(я живьем не погребаю
женщин ли, друзей).
Жутко ладя шутки те же,
плоть, тоску, тщеславье теша,
злая, как молва,
ты еще жива.
«Воробьи. Скворцы. Вороны…»
Воробьи. Скворцы. Вороны.
Голуби с ленцой.
Каски из пластмассы. Робы.
Ватники. Лицо
черной «Волги» из. Ухабы
лезут на бугры.
Псы бездомные. Прорабы.
Крысы и воры.
«Не склониться мне привычно…»
Не склониться мне привычно
над загаром безграничным,
не очнуться вдруг
средь уснувших рук.
Жажда обернулась местью:
сух колодец – в нем
родинок твоих созвездья
не увижу днем.
«Глухоты лохань…»
Глухоты лохань
собственную всклянь —
чу! – качнула… Но покуда
в мире Бах и Букстехуде
существуют, всё же как-то
можно слышать вдруг
хоть тревожных пиччикато
моцартовский звук.
«Сторонитесь душ…»
Сторонитесь душ,
тех, что слишком уж
одиноки. Ведь они-то
так и льнут к вам. Что же скрыто
за злосчастным их
одиночеством – средь пыли
в однокомнатной квартире
где-то между книг.
«Ночь. Кварталов электрички…»
Ночь. Кварталов электрички
вкруг столицы мчат ритмично —
ветер пустырей
гасит поскорей
в мимолетных окнах тени —
паранойя сновидений
до ненастных утр
гонит спящих внутрь.
«В бурю, в вёдро, как младенцев…»
В бурю, в вёдро, как младенцев,
к платьицам, к дубленкам – к сердцу,
прижимая их,
из домов нагих
клочья комнатных собачек
(всех их как-то звать)
вынесут и чуть не плача,
ставят на асфальт.
«Истеричная беспечность…»
Истеричная беспечность
вечеринок. Чок!
С девочками, из-за плеч нас
зрящими. Дичок
(чок!) с бородкой, словно ключик
от чужих квартир, —
надокучили мне, внучек,
и чума, и пир.
«Лот в Содоме мимоходом…»
Лот в Содоме мимоходом
жил. В тоске на дом,
окруженный пьяным сбродом,
что глядеть? – огнем
он гори! Но движет ею
та же страсть одна:
в любопытстве каменеет
Лотова жена.
«Сосны в синеве и бельма…»
Сосны в синеве и бельма
облачности глыб.
Несмотря на корабельный,
просмоленный скрип,
покачнувшись, точно пьяный
сушей мореход,
бор стоит, навек отпрянув
от балтийских вод.
«В душной дюне навзничь лягу…»
В душной дюне навзничь лягу.
Как росы ночную влагу,
дюн дневных песок —
лап, когтей и ног
тысячи следов впитал он,
их рассыпал, разметал он,
оттого в песках
днем бесследно так.
«Оттепель теперь – наслышка…»
Оттепель теперь – наслышка.
Стужа: ни гу-гу.
Слесарю, что, выпив лишку,
ночь проспал в снегу,
ампутировали пару
тароватых рук:
«Уж не то слесарить, падло,
нечем выпить, друг!»
«Рос я при социализме…»
Рос я при социализме
победившем. Поздно в жизни
я очнулся. Звук
изо всех наук
поздно выбрав понаслышке,
я с тех пор поднесь —
весь – вокзальная одышка:
опоздал… конец.
«Пропаганды гной ли, бомбы…»
Пропаганды гной ли, бомбы,
ампул ли напалм,
как инверсии в любовных
сопряженьях – нам
столь привычных компанейски —
или негде? или не с кем? —
пухнут города —
или некогда?
«Облик ли, душа ль из слов, не…»
Облик ли, душа ль из слов, не
проясненных в ней
человек куда условней,
относительней,
нежли тот язык, на коем
говорят о нем
иногда… но будь покоен —
редко: днем с огнем.
«А на улице-тихоне…»
А на улице-тихоне —
покупатели,
дети, патрули в законе,
тот же дом вдали,
что и рядом, те же моды
прячут женщин тук…
Даже странно, что погода
изменилась вдруг.
«Сердце суть насос из мышц и…»
Сердце суть насос из мышц и
клапанов и т.
д. – качает кровь и мысли,
коих в темноте
удивляться надоело —
МОЗГ НА ВСЕ ГОТОВ.
Лишь душа – сей призрак тела —
состоит из слов.
«Вопросил приятель в раже…»
Вопросил приятель в раже
литра на двоих:
«Чья же все ж страна-пропажа —
наша или их?» —
Их охрана и острастка,
страх, как у ворья.
Наши – страсть и страха ряска.
А страна – ничья.
«Снег завесил угасанье…»
Снег завесил угасанье
дачного денька.
Станцией и небесами
пахло. Вспомни-ка:
сумерки и снег сгущали
ощущение —
будто все еще в начале,
все еще вчерне.
«Но в стране такой ничейной…»
Но в стране такой ничейной,
чтоб не стать частицей черни,
знаком плюс иль знаком минус
похваляясь – здесь, на вынос
ли – в земле ничьей,
чтобы слиться с ней,
путь единый вем:
трудно быть никем.
«Из сторожки душной мы с ней…»
Из сторожки душной мы с ней
вышли в душный мраз.
(Я принес собакам миску
хлебной тюри). Нас
обступила ночь окрестных
пустырей, и ты
сорняки рвала над настом
снежным, как цветы.
«Не была, а показалась…»
Не была, а показалась
щек твоих святая впалость,
полыханье глаз —
весь твой экс-экстаз.
Днесь иному жришь экстазу.
Чтением и я не разу
писем твоих пыл —
зря не охладил.
«Сгоряча и на крылечко…»
Сгоряча и на крылечко
ночью выйти – вах! —
в небе – звезд! в ущелье – речки
горный грохот – страх! —
воздуха рвануть ноздрею,
и перил дойдя,
выплеснуть вместе с водою
грязное – дитя.
(Цитата)
О, трепещут ми (мне) уди
(члены), всеми бо
сотворих вину: отчима
(я) взираяй, у —
шима слышай (и) языком
злая (я) глаго —
ляй, всего себе геенне
(я) придаяй – о!
«Мозг горазд. Душа кривая…»
Мозг горазд. Душа кривая,
ничего не прозревая,
тлением живет
аминокислот.
Нечего иль поздно ждать, но
мой угрюмый стих
в их глаза глядится жадно,
в эти студни их.
«Речи почву под ногами…»
Речи почву под ногами
шатко обретя,
вечность – памяти комками
чует ли дитя?
Так не ведал войн ли, розни
волевой финал,
что того, что начиналось, ни —
кто не начинал.
«Непричастность к речи вязкой…»
Непричастность к речи вязкой —
дар. Голосовые связки
не связуют звук
с провещавшим вдруг:
так заблещет влагой линий
тело лепестка —
из воды, безмозглой глины,
скудного песка.
«За грехи себя карая…»
За грехи себя карая,
как из познанного рая
(рай был глуп и вял)
сам себя изгнал
лирик из своих напевов,
и остался в них
беспризорный призрак Евы —
совести двойник.
«Грех судить эгоцентриста…»
Грех судить эгоцентриста
так он богодан:
у него с собою чистый,
истовый роман.
Самотяготенья сила
цельности ли род?
Для горбатого могила —
горб навыворот.
«Пепел влас ли, нос ли, брови ль…»
Пепел влас ли, нос ли, брови ль —
чуть полупрозрачный профиль —
месяца топаз
на заре. А фас:
переполнены печально
взглядом очи. От молчанья
чуть припухла рта
точная черта.
«Смолкла семиструнна лира…»
Смолкла семиструнна лира.
Занавес упал.
Погребение кумира.
Холм цветочный ал.
Средь еще живых несметной
в полутьме толпы —
вспышки магния – как смертной
вспышки пустоты.
«Крупноблочен монолитный…»
Крупноблочен монолитный
сахар-рафинад
зданий. Ал желто-блакитный
меж домов закат,
если не лилов… и если
на него глядеть —
ясно: мы не будем вместе
ни с тобой, ни впредь.
«Ты бесследнее тех пеших…»
Ты бесследнее тех пеших
вод, бесследней, чем
тот песок, что так заслежен
неизвестно кем,
ты бесследнее досады ль,
злобы ли, но ад
в том, что ты бесследней самых
сладостных услад.
«Так из праха в прах – но самый…»
Так из праха в прах – но самый
след свой – в небесах —
шли они и отрясали
с ног подножный прах.
Так из праха в прах – по горло
в собственной крови —
безоглядно, робко, гордо
в прах из праха шли.
«Над огромной и багровой…»
Над огромной и багровой
баней – небо. В нем —
воронье. Светло и громко.
Ярко-серый дом.
Каплет с кислого сарая
в грунт: падений нить…
Хочется, не умирая,
до смерти дожить.
«Праха горсть, часть отчей почвы…»
Праха горсть, часть отчей почвы
(судьбы в ней, следы)
я пошлю тебе по почте
частной – если ты
в пух праотческого грунта
ляжешь, не дай Бог,
бросят пусть тебе на грудь хоть
этот вот комок.
«Средь крыловского оркестра…»
Мстиславу Ростроповичу
Средь крыловского оркестра,
где идет борьба за место
и за унисон
(отческий закон) —
лишь одной виолончели
звук извечно чист —
так, как если бы запели
тысячи отчизн.
«Изваяние из звука…»
Изваяние из звука,
разве это – ты? —
лишь набросок ног и рук и
прочей наготы.
Все подобья лгут, исход свой
обратив в абсурд.
Не бывает в мире сходства:
бесподобна суть.
«От стихов и до оконца…»
От стихов и до оконца
подавать рукой —
слишком близко. Холм, что солнце
скрыл вечор собой,
высветлен небес до кромки:
изб, берез на нем
несколько – да столб, да тропки
спуск или подъем.
«Под серебряною дранкой…»
Под серебряною дранкой
кровли (блеск воды),
средь земли, созвездий ранних
над крыльцом, среди
косо поведенных стен и
трав, дерев в окне
с истиною запустенья
жить наедине.
«Зорька в небе беспризорном…»
Зорька в небе беспризорном.
Безъюдольна даль
разнотравья сорным дерном
зарастает – «Аль
мы не…» и так далье. Блики
ветра на лесах
лиственных. Ростов Великий
за холмом иссяк.
«Прячется за косогоры…»
Прячется за косогоры
сей простор – в леса.
На водоразделе голом
озирается.
К ночи жмется воровато
на задах у изб.
И претит ему заката
гиперреализм.
«Криво в горнице и гнило…»
Криво в горнице и гнило.
Три оконца – глянь.
Телевизора горнило.
Алая герань.
А из красного угла-то,
кружевцем убран,
Николай-Угодник свято
смотрит на экран.
«Средовечие не душ, а…»
«Мы теряем лета наши, как звук».
Пс., 89,9
«Вы мне на слово не верьте…»
Вы мне на слово не верьте —
верьте мне на звук
иль на отзвук лучше. Ведь я
сам лишь отзвук. Слух
всколыхнется, как разлука —
отзыв тайных уз —
и заблещут слитки звука,
вспыхнут сгустки уст.
«Леты мы пойдем по брегу…»
Леты мы пойдем по брегу.
Трое нас, считая реку.
Двое, коль не в счет
подоплека вод.
Иль один, коль не считать из
нас с тобой кого.
С бренностью пути считаясь —
вовсе никого.
«Чтоб не унижались горы…»
Чтоб не унижались горы,
надобно горам —
не сравнительные взоры —
пропасти. А там —
холод низок, холод илист,
и слова малы…
До чего же опустились
губ твоих углы.
«Дуализм любви нагляден…»
Дуализм любви нагляден:
отчуждений двух —
будто глаз – двух бойких градин —
блеск един… И вдруг,
ты, как в первый миг, чужая,
вновь чужая, как
отчужденные душа и
тело – пух и прах.
«Произвол окрестных склонов…»
Произвол окрестных склонов.
Бессловесны вспышки кленов.
И подспудно тих
живописный стык
косогоров и прогалин.
Ворс пространств вдали,
словно юность, неприкаян,
словно старость ли.
«У пивных ломают руки…»
У пивных ломают руки
старикам их, ай да, внуки,
бьют по синякам
и ведут… к сынкам
в околоток среди алых
кленов… иже в генералах —
синь как высоки —
те же старики.
«Печь из мела и из сажи…»
Печь из мела и из сажи.
Кочерга. Ухват.
Мозг горазд. Душа гораже,
хоть мудрей стократ.
Мозг – изба. Душа – в оконце
поле без конца.
…Но гремят дверные кольца,
гнется матица.
«Над подвыпившею дачей…»
Над подвыпившею дачей —
звезд далеких лай собачий.
Черная труба.
Яблонь голытьба
вкруг. До заморозков сивых —
сверху ли? из-под?
ледяные рос приливы —
лета смертный пот.
«За окном – холмы, холмы и…»
За окном – холмы, холмы и
вновь – холмы, холмы.
Небо маленькое в мыле
облачности. Тьмы
до явления окольной
из щелей, застрех —
в косяке оконца – холмы,
холмы, холмы… эх!
«Отрешен от мира толщей…»
Отрешен от мира толщей
годовых колец,
человек внутри всё тот же —
старый сей корец
той же полной влагой полон,
но не можно ей
расплескаться произволом
влажности своей.
«Праха ль гной, зерна полон ли…»
Праха ль гной, зерна полон ли —
позабыл росток-паломник.
От ростка побег
вмиг отрекся, вверх
возносясь. Но до побега
ли цветку, хотя поблек и
он во свой черед.
Плод – забвенья плод.
«Позади Романов, иже…»
И.К. Сафонову
Позади Романов, иже
с ним Борисоглебск.
Фиолетовей, чем ниже
солнце. Сизый блеск
у шоссейного наката.
Радио со дна
вдруг плеснул концерт двадцатый
(Моцарт. Юдина).
«Женской преданности стансы…»
Женской преданности стансы,
словно полустанков, станций
замерший на миг
заоконный блик.
Нам до нас – короче жеста —
час езды едва —
как от преданности женской
до предательства.
«К ноябрю вода в пруду вдруг…»
К ноябрю вода в пруду вдруг
прояснилась и
глянула окрест прозрачней.
Вышли нагишом,
как утопленники, вязы
отражений из.
И листва под ними слиплась,
словно веки глаз.
«Храм он пуст, но пуст, как прах он…»
Храм он пуст, но пуст, как прах он —
прах не празден, но
в нем лежит с подкожным злаком
влажное зерно.
Прах он пуст, но пуст, как храм он:
праздника страда
отошла с толпой незнамо
как или куда.
«Так о чем же тосковати…»
Так о чем же тосковати,
песни пети – на закате
лета, года, дня?
и кого виня?
Люди вспыхивают, окна,
стоп-сигналы… Как
хороши деревьев – охра,
умбра и краплак.
«О клише в мышленье или…»
О клише в мышленье или
об иных и тех —
но пока мы говорили,
выпал первый снег
в сумерки свои за шторой
и лежал там день который,
месяц ли, но вот
и который год.
«Расставаться нам…»
Расставаться нам
настает пора. В передней,
словно в первый раз, в последний
мы друг друга на
глянем удивленно через
не порог, а рок… Оделись.
Но идти домой
всякому впервой.
«Вот с известием ужасным…»
Вот с известием ужасным
прибыл вестник, но
не допущен к пировавшим
коим всё равно.
Вот другой за первым сразу
мчится… Нет конца
здравицам, пока проказа
не пришлет гонца.
«Между тем, сама…»
Между тем, сама
не душа – сама природа
наша – за год? За три года? —
изменилась – ба! —
ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ МЫ ЖЕ!
И душа тоскует, иже
хорошо кому
не в своем дому?
ПРИ СЛИЯНИИ
1982–1983
ПСКОВУ,
граду речному и «вечному»
Дому Животворящей Троицы
«Нет, ни в верстах и не в часах дорожных…»
Нет, ни в верстах и не в часах дорожных
стоит от нас сей Псков, а много дальше —
за младости неладной пеленою,
за отрочества призрачностью чистой —
в младенчества потусторонних вспышках
ярчайших он является нам, будто
зарница-озорница вырывает
из вязкой ночи звуки – клочья мрака…
а хочется нам верить в озаренье.
«Во Изборске Старом…»
«И в З́апсковье – закат…»
И в З́апсковье – закат.
И в З́авеличье – вечер.
(Ко вечере звонят
средь бела дня).
Уже сошел народ
со службы – спины, плечи —
над ними восстает
оплот Кремля —
прозрачный силуэт
сих башен, стен высоких —
пройти его иль нет
насквозь? Гляди:
всё по местам своим —
Никола со Усохи,
Василий, Михаил,
а впереди —
углы на склоне дня
Козьмы и Дамиана,
храм Богоявленья —
сей сколок лет,
и звонницы фасад
могуч. Хоть ночь, но рано:
и в З́апсковье – закат,
и в З́авеличье – свет.








