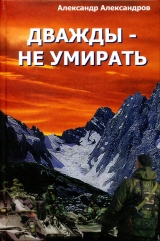
Текст книги "Дважды – не умирать"
Автор книги: Александр Александров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Где?.. – произнес, наконец, Бадмаев, нервно подрагивая изогнутой бровью. – Где магазин, я спрашиваю?!
Побледневший как снег, курсант подавленно молчал.
– Что у тебя там? – поинтересовался Гуссейнов.
– Да вот, че-пэ, Джафарыч! – обреченно произнес сержант. – Боец магазин потерял.
Гуссейнов молча подошел, встал рядом. Под его испепеляющим взглядом Пантюхин совсем поник.
Повисла напряженная тишина. Все понимали: магазин потерять – это не шутка. За такое по головке не погладят. И где его теперь найдешь в этих снегах?
– В каком месте ты мог его потерять? – спросил Гуссейнов. – Хотя бы примерно…
Пантюхин задумался.
– Ну, может, там, на холме… – неуверенно сказал он. – Когда бежали в противогазах.
Гуссейнов помолчал, поигрывая желваками на скулах. Видно было, что он обеспокоен пропажей.
– Короче… – старший сержант обвел взглядом неподвижный строй. – Никто отсюда не уйдет, пока не найдем… Никто… Включая командиров отделений.
Урманов вдруг ощутил, как замерз. Холодный ветер насквозь пронизывал его. Пальцы рук в промокших, оледеневших рукавицах застыли, и отзывалась мучительной, ноющей болью. Ступни ног в задубевших на морозе кирзовых сапогах онемели от холода. Казалось, он стоит босиком прямо на снегу… Мелкая противная дрожь сотрясала тело. И если раньше его согревала мысль, что надо потерпеть еще чуть-чуть – и все кончится; то теперь эта неопределенность лишала последней опоры. Ведь даже минута на таком холоде длилась бесконечно. А тут… Невозможно представить, что будет, если поиски затянутся до вечера.
– Становись! – властно скомандовал Гуссейнов. – Положить… Оружие!.. Снять подсумки!
Курсанты послушно разоружились.
– Часовым возле оружия остается сержант Левин.
– Есть!
– Остальные в колонну по одному, за мной бего-о-ом… Марш!
Курсанты вместе с командирами отделений легкой рысью затрусили вслед за Гуссейновым.
Выстроившись у подножия холма в разомкнутую на шаг влево-вправо шеренгу, учебная рота обреченно замерла.
– Вспышка с тыла!
Курсанты привычно попадали в снег… На сержантов команда не распространялась. Сутулясь от ветра, они стояли возле своих отделений.
– По-пластунски, вперед, марш!
Загребая руками и ногами взрыхленный, взбитый снег, Урманов вместе со всеми пополз к вершине. Снег забивался ему в рукава, за голенища сапог, неприятно холодило и без того застывшее тело.
«Это безумие… Мы все здесь погибнем… Зазря… Ведь все равно ничего не найти!»
Ползти по глубокому снегу было тяжело. Только головы курсантов виднелись из глубоких борозд. Урманов отчаянно работал локтями, метр за метром продвигаясь вперед. Путь до вершины холма казался бесконечным. Даже летом по твердой земле доползти туда по-пластунски было бы не просто. А сейчас, по горло в снегу и вовсе немыслимо… Но никто не роптал, и Урманов, выбиваясь из сил, полз вместе со всеми.
Багровое солнце склонялось к горизонту. В его красноватых лучах клубились розовые облачка пара, поднимавшиеся над головами отчаянно барахтающихся в снегу курсантов. Ветер стих, и в предвечерней тишине слышалось только многоголосое тяжелое дыхание, сопение, кряхтение, иногда сопровождаемое невнятным бормотанием, в котором можно было угадать слова, с детства знакомые уху каждого русского человека.
Вот и вершина… Урманов обессилено уронил голову на сложенные перед собой руки. Чувства притупились, и мыслей тоже не было уже никаких. На уме только одно – сейчас развернут и отправят ползком вниз, и опять все снова…
– На-а-а-ше-о-о-ол!.. На-а-аше-о-о-ол!
Урманов вскинул голову. Не может быть! Неужели? Этот дикий, отчаянный крик прозвучал, как колокол спасения. Это было похоже на чудо.
– Наше-о-о-ол! Наше-о-о-ол! – продолжал орать курсант Мазаев, вскидывая над головой злополучный магазин.
Со всех сторон ему откликнулись радостные голоса. Учебная рота ликовала.
Пользуясь тем, что есть время, Урманов решил быстро перемотать портянки. С трудом стянув кирзовый сапог, он вытряхнул из него набившийся снег и стоя на одной ноге, как аист, поджав другую, босую, засунул руку в голенище. Нащупав скомканную заледеневшую портянку, он потянул ее, но она не поддалась. Оказалось – примерзла к подошве… Дернув сильнее, Урманов все же выдрал ее из сапога и потер в озябших руках, придавая ткани хоть какую-то гибкость. Затем быстро обмотал этим полуледяным куском материи покрасневшую от холода ступню и сунул обратно в сапог… Вторую ногу пришлось переобувать так же.
Спустившись вниз, курсанты построились возле оставленного оружия. Гуссейнов приказал снова проверить наличие вооружения и снаряжения. На этот раз все сошлось.
– Пусть это послужит вам хорошим уроком, – сказал напоследок Гуссейнов. – Утеря военного снаряжения – серьезный проступок. И отвечать за это, в случае чего, придется не только вам, но и вашим сержантам. Так что имейте ввиду…
Курсанты стояли с ног до головы облепленные снегом. В сизых вечерних сумерках у них за спиной, на смотровой вышке, зажигались яркие огни.
– Ну, что нахохлился, как воробей? – Гуссейнов шутливо потрепал Пантюхина по щеке. – Замерз?
– Так точно, – смущенно ответил он.
– Ничего… Десять минут – и мы дома… Рота! Напра-а-аво! Бегом марш!
Глава 5
В пол седьмого утра в декабре еще темно. Озябшая, полусонная колонна строем двигается по пустынным городским улицам. Сегодня в учебной роте – банный день. А это значит, что вместо привычной утренней зарядки, курсантов ждут более приятные дела. Попариться вволю, отогреть застывшие тела и души. Кроме того, день сегодня особенный, праздничный – тридцать первое декабря. Новый год… Курсант Панчук в строю негромко шутит: «А у нас традиция такая… Тридцать первого декабря мы всегда с друзьями ходим в баню…» Это он намекает на фильм, который уже не один десяток лет крутят на телеэкранах страны в канун праздника. Все, кто рядом, понимающе смеются… И лишь курсант Широкорад скептически ухмыляется: «Только не надейтесь, что кому-нибудь из вас удастся сегодня улететь в Ленинград».
Курсанты шагают, держа под мышкой свертки с новой парой белья, чистым полотенцем и прочими «мылорыльными» принадлежностями. Урманов идет рядом с Гвоздевым. Тот, полуприкрыв глаза, кажется, спит на ходу… Урманов мечтательно вздыхает. Ему вспоминается детство, далекий и родной северный городок. Там, недалеко от его дома тоже была баня. Он с друзьями иногда ходил туда… Конечно, дома под душем тоже можно помыться, но баня… Это особое удовольствие. Для некоторых – устоявшийся ритуал.
Урманов вспомнил, как каждую пятницу, прямо с утра, тянулись к банному комплексу вереницы местных мужчин. Так было заведено: попариться, потом выпить пивка или чего покрепче, посидеть, поговорить… Мальчишкой еще застал он то время, когда приходили в баню много повидавшие, старые фронтовики. Убеленные сединами, важно и неторопливо поднимались они на парной полок. Молодежь с готовностью теснилась, уступая им место… В бане все равны и на голую грудь орденские планки не нацепишь. Но их иссеченные пулями и осколками тела говорили о многом. Мальчишки украдкой поглядывали на эти страшные боевые рубцы и мысленно представляли их на поле боя. Они были настоящими героями, эти Кузьмичи, Ивановичи, Петровичи… Казалось, сама эпоха оставила на них свои особые отметины, как ставят пробу на золотых слитках.
– Подтянись! Шире шаг!
Колонна втягивается в банный дворик. Здесь еще ни души… Баня начинает работать с девяти часов. До этого времени курсанты уже должны помыться.
Подъезжает ротный старшина Гладченко на командирском УАЗике. Два курсанта выгружают из машины объемные баулы, набитые новыми байковыми портянками. Сонный сторож, гремя ключами открывает навесной замок и пропускает их внутрь. Следом, один за другим, ныряют в ласковое банное тепло продрогшие на морозе курсанты.
Урманов, Гвоздев и Кольцов, скинувшись на троих, покупают у сторожа сухой березовый веник. Потом встают в очередь за новыми портянками. Прапорщик Гладченко контролирует процесс, а выдает их – ротный каптерщик, курсант Гомзиков.
– Дай мне вон те, с краю, – просит Кольцов.
– Бери любые, они все новые, – невозмутимо роняет каптерщик.
– Да, а в прошлый раз кто мне рваные впарил?
– Ну, так заменили же…
– Заменили, – недовольно морщится Кольцов. – А если бы вовремя не заметил? Ходи потом с дыркой на пятке.
– Да какая разница, – парирует Гомзиков. – Все равно они новые только до первых полевых занятий. А там…
Каптерщик прав. Новыми, безупречно белыми и нежно-мягкими портянки оставались недолго. Но хоть полдня в такой роскоши походить – и то за счастье.
Выстывшая за ночь баня была еще как следует не прогрета. Однако курсанты не замечали этого. Быстро скинув в расстеленную на полу простынь старое белье и портянки, они шумной гурьбой устремились в моечное отделение.
Кольцов замочил веник в тазу с горячей водой, а Гвоздев тем временем обдал кипятком скамейку. Урманов, сполоснув таз, наполнил его водой и поставил на край скамьи.
– Пойдем в парилку?
– Пойдем…
В парной уже было полно народу. Урманов, осторожно ступая по горячим половицам, поднялся на самый верх. Гвоздев и Кольцов забрались следом.
– Поддайте парку, пацаны!
– А дурно вам там не станет? – Мазаев, как заправский банщик, в матерчатых рукавицах-верхонках, наполнил горячей водой объемистый медный ковш на длинной ручке.
– Не станет, – в тон ему ответил Кольцов. – Плесни-ка давай на камеленочку.
Глухо лязгает металлический засов на высокой стене, со скрипом открывается железная, закопченная до черноты дверца. За ней в темной глубине едва угадываются сложенные друг на друга большие раскаленные камни. Мазаев осторожно отводит ковш назад, изготавливается к броску.
– Ш-ш-ш-ш-у-ух! – струя горячего пара с силой вырывается из узкого закопченного проема и мгновенно заполняет собой пространство. Все, кто наверху, инстинктивно пригибаются, закрывая ладонями уши.
– О-о-о-о!
– У-у-у-у!
Урманов с Гвоздевым не могут сдержать эмоций.
– Еще? – спрашивает Мазаев, картинно опираясь на длинную рукоять ковша.
– Нет, хватит… Пока достаточно.
Урманов чувствует, как горячая волна пара накрывает его, обволакивает со всех сторон, и от этого всепроникающего ласкового тепла щемит в груди, перехватывает дыхание. Хорошо… Он ощущает это каждой клеточкой своего намерзшегося, уставшего от холода тела.
В последнюю неделю морозы были особенно сильными. Даже в казарме не всегда удавалось согреться. Только под одеялом можно было недолго побыть в тепле. Да и то, под утро, сквозь сон, уже начинало знобить. Поэтому Урманов, дорвавшись до щедрого, настоящего тепла жадно спешил вобрать его в себя как можно больше, с запасом, чтобы хватило хотя бы до вечера.
Хлесткие удары мокрых веников по распаренной коже, довольное урчание и стоны… Праздник души и тела. Урманов обвел взглядом парилку. В тусклом желто-красном свете проступали очертания сослуживцев. Крепкие, мускулистые, молодые… Гвоздев, Чухломин, Кольцов – сложены, как античные боги. Бери любого и лепи скульптуру. Мекеланджело бы обзавидовался… На их фоне худой и жилистый Мазаев выглядит не очень убедительно. Но это только на первый взгляд. Присказка: «Не смотри, что я плохо скроен. Зато крепко сшит», – это про него. Нет здесь слабаков. Все как на подбор – сильные, крепкие, выносливые. Каждый двоих, а то и троих стоит. Настоящие воины… Жаль только, что любоваться некому – невесты далеко.
– На, – Гвоздев протянул Урманову взлохмаченный веник. – Твоя очередь.
Урманов спустился вниз, промыл его под струей горячей воды и снова поднялся на полок.
«Ш-ш-ш-у-у-ух!» – очередная порция горячего, обжигающего пара с шипением вырвалась из узкого закопченного проема, как из жерла вулкана.
– О-о-о-о-о! – восторженно откликнулись курсанты, продолжая охаживать себя вениками по мокрым распаренным телам.
Урманов вдоволь нахлестался, нагрелся, напарился… До изнеможения, до темноты в глазах. Что называется, отвел душу. Пора было на выход.
Держась за горячий деревянный поручень, он медленно спустился с полка, толкнул тяжелую пружинистую дверь и вышел из парной в моечный зал. Пойдя мимо скамьи, где намыливались Кольцов с Гвоздевым, он окатился заранее приготовленной чуть теплой водой из таза и двинулся дальше в прохладный предбанник – надо было немного придти в себя.
Тяжело опустившись на окрашенную серой краской прохладную скамью, Урманов откинулся спиной к деревянной спинке и расслабленно вытянул ноги. От разгоряченного, раскрасневшегося тела поднимался пар… Он вспомнил, как в детстве мылся в дедовской бане, а после любил посидеть в саду, под раскидистой черемухой. Прохладный ветер обдувал разгоряченное лицо; запахи трав, цветов и буйной зелени сливаясь в один, особенный аромат, кружили голову; а на душе царили – покой и блаженство…
– Заканчивай помывку! Через пятнадцать минут построение!
Команда сержанта оборвала сладостную негу. Урманов нехотя поднялся и двинулся в моечное отделение. Надо было еще успеть намылиться, потереться мочалкой и выпить пару стаканов прохладного клюквенного морса, которым приторговывал на входе все тот же пронырливый банный смотритель.
На построении в роте Урманов узнал, что заступает во внутренний наряд. Это означало, что в течение суток, он и еще двое курсантов с их отделения будут посменно, по четыре часа, стоять одетые в парадную форму по стойке смирно возле входа и при появлении посторонних давать команду «Дежурный по роте, на выход!», а так же – встречать своих офицеров командой: «Рота смирно!» Дежурным по роте всегда назначался тот сержант, из чьего отделения заступали в наряд дневальные. Значит, сегодня им будет командир второго отделения сержант Бадмаев.
В обязанности дневальных – а именно так именуется должность курсанта, заступающего во внутренний наряд – кроме восьмичасового, с разбивкой на четыре часа бдения на «тумбочке», входят еще многочисленные обязанности по поддержанию в расположении образцовой чистоты и порядка. На сон за сутки предусматривается не более шести часов, и то, в большинстве своем, – с перерывом.
Давным-давно, еще школьником, услышанное где-то выражение «стоять на тумбочке», Урманов воспринимал почти буквально. Он думал, что солдат забирается на какое-то специальное возвышение, и стоит себе, службу несет… Но на самом деле оказалось, что солдат стоит не на тумбочке, а возле нее. И для чего она ему нужна – тоже не ясно. Вроде там ничего ценного не лежит, и опереться он на нее не имеет права, а уж присесть – тем более. Не дай бог офицеры или сержанты увидят – сразу накажут. Однако, так, видимо, в армии положено – где дневальный, там и тумбочка… Свободного времени у дневального немного. Все время надо что-то мыть, тереть, драить, заправлять. Причем, делать это надо очень качественно, на совесть. Потому что если сержант проведет где-либо белоснежным платочком и на этом платочке обнаружится грязь – тут же последуют определенные выводы.
Конечно, в сержантской школе, да и вообще в армии физические наказания официально запрещены. Но и по Уставу человека можно так грамотно запрессовать, что мало не покажется… Допустим, если вдруг какой-нибудь молодой солдат решит показать свою гордыню, типа «а пошли вы все…», то у сержантов на это имеется несколько способов воздействия.
Во-первых, физические упражнения… Если для основной массы солдат они начинаются и заканчиваются на спортгородке или в спортивном зале, то для непокорного индивидуума они могут продолжиться и в казарме. А так же в учебном классе, на улице, где угодно. Любой перерыв в занятиях, любая свободная минута превращаются в мучительную пытку. «Курсант Иванов! Упор лежа принять!.. Делай раз! Делай два!» И так – до полного физического истощения. А на внезапный вопрос кого-нибудь из старшего офицерского состава, можно будет ответить: «С курсантом проводятся индивидуальные дополнительные занятия по физической подготовке» – «В связи с чем?» – «В связи с тем, что регулярно показывает слабые результаты» – «Отлично! Продолжайте, сержант… Слабые результаты отдельного солдата – это минус всему подразделению в целом»
Во-вторых, еще одним не менее эффективным способом может быть моральное воздействие. Постоянное, ни на минуту не ослабевающее давление на психику. «Курсант Иванов! Ко мне!» – «Отставить!» – «Ко мне!» – «Отставить!.. Команда ко мне выполняется бегом!» – «Кру-у-у-гом! Бегом марш!» – «Курсант Иванов, ко мне!» – «Отставить!» – «Ко мне!» – «Отставить!.. По команде отставить курсант обязан вернуться в исходное положение» – «Ко мне!» – «Отставить!» – «Вспышка с тыла!» – «Отставить!» Выполняя команды, отдаваемые сержантом, казалось бы, в полном соответствии с уставом, курсант тем не менее понимает их агрессивную сущность. Но формально не выполнить, не имеет повода. А на внезапный вопрос какого-нибудь старшего офицера «Что, собственно, здесь происходит?» есть убедительный ответ: «С курсантом проводятся индивидуальные дополнительные занятия по изучению Устава» – «Продолжайте, сержант. Устав, это-о-о…» Кроме того в Уставе ведь написано не только правильное выполнение той или иной команды. Там в законном порядке зафиксировано множество мелочей, на которые в обыденной жизни мало кто обращает внимание. Ну, подумаешь, шеврон нарукавный на полтора миллиметра ниже пришит, или подворотничок вместо двух миллиметров, на два с половиной выглядывает? Кто на это смотрит? А так – будьте любезны… Можно специально подойти с линейкой и померить, какое расстояние между пуговицами, например? Или еще что-нибудь придумать… Устав – очень толстая книжка. Там много чего написано.
В третьих, тяжелая, утомительная и не очень приятная в эстетическом отношении работа… Например, чистка унитазов и умывальников в туалете. С последующим мытьем полов. Причем, это только кажется, что такая работа может быть когда-либо закончена. При отношении предвзятом, всегда можно найти какую-нибудь грязь. И устранять, устранять недоделки…
В четвертых, лишение сна… Это один из самых эффективных способов воздействия. Когда курсант заступает из наряда в наряд, когда на вполне, казалось бы, законных основаниях, продолжает трудиться вместо отбоя или изучать положения Устава вместо сна.
Для наиболее быстрого достижения результата все эти способы можно применять в совокупности. И тогда через два-три дня взбрыкнувший было военнослужащий, становится шелковым. Для особо строптивых можно растянуть это удовольствие на неделю. Больше-то вряд ли кто выдержит… В итоге служивому ничего не остается, как беспрекословно выполнять приказания своих непосредственных командиров. Или идти жаловаться вышестоящему командованию, в комитет солдатских матерей, в комиссию по правам человека или еще куда… Но при таком раскладе теряется весь смысл восставшей гордыни. Человек автоматически в глазах коллектива становится стукачом, изгоем… Ведь никто же его не заставлял свой гонор показывать, крутого из себя изображать. Вот и получай свое!
Урманов знал обо всех этих способах воздействия на непокорных и был с ними абсолютно согласен. Надо соблюдать правила игры. И не только в армии, но и вообще, в жизни… Самому Урманову не пришло бы в голову перечить сержантам. Уважение к старшим было у него в крови. Да и против суровых армейских порядков он ничего не имел. Какая же это армия без дисциплины?
– Кто в наряд идет – парадки получать!
Курсант Гомзиков, каптерщик учебной роты, поигрывая увесистой связкой ключей, важно подбоченился на проходе. Он вальяжен, нетороплив, значителен… Новая зимняя ушанка, сияя желтой кокардой, небрежно сдвинута на левое ухо. Выразительный мясистый нос, полные губы, слегка одутловатые гладко выбритые щеки. Под белесыми редкими бровями в обрамлении бесцветных коротких ресниц – светло-голубые глаза. Такого же цвета, как весенние подтаявшие льдинки. Почти прозрачные…
Вообще-то, официально должности каптерщик в роте нет. Но все называют его именно так. От слова каптенармус. Как когда-то давно в русской армии именовали должностное лицо, отвечающее за учет и хранение оружия и имущества в ротном складе.
– Вот тебя угораздило… На Новый год – в наряд попасть, – Гомзиков сочувственно покачивая головой, подает Урманову парадный китель на вешалке. Они с Урмановым земляки, призывались с одного военкомата.
– Да какая разница? – беспечно отвечает Урманов.
Хотя разница, конечно, есть. В праздничные дни курсанты освобождаются от занятий – отдыхай себе, развлекайся. В кино, вон, сегодня поведут… Да и вообще, праздник он и в армии праздник.
Гомзиков, как всегда, деловит и серьезен – должность обязывает. Еще бы… Правая рука старшины. Даже сержанты относятся к нему с уважением. Если что-то где-то нужно достать – это к нему.
Урманов оглядывает каптерку. Сколько здесь всякого добра… И тихо, и тепло, и даже музыка из радиоприемника играет. Красота… Как только люди на такие должности попадают?
Вместе с Урмановым переодеваются в парадные мундиры еще двое: Нечаев и Пантюхин. Нечаев – длинный, нескладный деревенский парень, откуда-то из-под Рязани. Первое время трудно было привыкнуть к его необычно высокому тембру голоса и странному произношению. Стоило ему, будучи дневальным, подать команду «Рота, смирно!», как тут же все начинали улыбаться. Команда из его уст звучала примерно так: «Рота-а-й, смир-р-рна-а-ай!» Да еще подавалась таким писклявым голосом, который никак не соответствовал его почти двухметровому росту. Тут уж хочешь, не хочешь, а заулыбаешься.Пантюхин призывался с Кирова. Добрый, обаятельный парень… В свободное время Урманов обучал его азам бокса. Первую смену выпало стоять ему. Значит и в Новый год он заступит на свой пост как раз под звон курантов, меняя Нечаева… Урманову повезло больше. По крайне мере Новый год он встретит вместе со всеми, за праздничным столом.
Переодевшись, курсанты получили в ружпарке свои штык-ножи, надели красные повязки – обязательные атрибуты дневального – и прошли положенный в этом случае инструктаж. Потом Пантюхин заступил на пост, а Урманов с Нечаевым отправились в учебный класс мыть полы.
Только в армии Урманов узнал, что полы, оказывается, можно мыть с мылом. По крайней мере, в учебной роте влажную уборку делали именно так.
Нечаев принес в класс ведро теплой воды и тонким ножичком, сделанным из лезвия пилы-ножовки, принялся строгать большой кусок светло-коричневого хозяйственного мыла. Стружка падала в воду и медленно тонула. Когда кусок мыла уменьшился почти наполовину, курсант взял швабру и как на миксере, взбил воду до образования густой белой пены. Потом к делу подключился Урманов. Он разбросал пену по полу и начал методично, метр за метром, тереть его шваброй. Белая пышная пена постепенно таяла, становилась все тоньше, превращаясь в грязные мелкие лужицы. Следом шел Нечаев и протирал пол начисто.
Когда с делом было покончено, в учебный класс внесли елку – настоящую, резко пахнущую свежей хвоей, лесную красавицу.
– Вот подставка, – раскрыл картонную коробку ротный старшина прапорщик Гладченко. – Вот инструмент… Сами установите?
– Разберемся, – уверенно ответил Урманов.
– Игрушки и гирлянды возьмете у Гомзикова… И смотрите, чтобы все красиво было. Сам командир части придет вас поздравить.
Елочная подставка представляла собой выкрашенный зеленой краской обрезок железной трубы со складной треногой. Сбоку торчал регулировочный болт, с помощью которого ствол фиксировался в трубе. Урманов легко разобрался в конструкции – точно такая же была у него дома.
Приподняв одной рукой, лежащую на полу ель, Урманов слегка обтесал топориком основание ствола, очистив его от сучьев. Потом надел на него трубу и ударом обуха посадил на место. Затянув регулировочный болт, он проверил – не шатается ли? Нет, все крепко…
– Взяли!
Вместе с Нечаевым они подняли ель и установили ее вертикально. Густые еловые ветви упруго закачались, наполняя воздух свежим лесным ароматом.
– Пойду, игрушки принесу, – сказал Урманов.
Он сбегал в каптерку, взял у Гомзикова коробку с игрушками и гирляндами. Расщедрившись ради праздника, тот дал Урманову несколько конфет и пару мандарин.
– Ух, ты-ы! – изумленно воскликнул Нечаев, принимая из его рук половину подарка. – Мандаринка-а… Настоящая-а.
Тому, кто не служил, трудно понять эту восторженную радость. На гражданке многое воспринимается по-другому… Там ты можешь есть все, что захочешь. А здесь – только то, что дадут. Редкая возможность отовариться в магазинчике «военторга» – не в счет. И хотя армейская пища сытная и калорийная, все же хочется чего-нибудь вкусненького. Такого, что на солдатский стол не подают. Урманова в последнее время преследовали разные гастрономические фантазии. Ну, допустим, такая… Открывается банка сгущенного молока, туда крошится много-много шоколадных конфет, потом все это тщательно перемешивается – и ложкой, ложкой… Можно даже без чаю. А Кольцов тоже недавно поделился: «Пойду на дембель, зайду в первый попавшийся магазин и куплю настоящий свежий батон. Такой, чтобы был румяный, с хрустящей корочкой… И пару банок кильки в томате. Представляешь?.. Вот такое странное желание. Но очень хочется…»
Запах мандарин, перемешанный с запахом свежей хвои, разноцветные яркие огоньки на еловых ветках, блестящие новогодние игрушки – все это напоминает Урманову детство. Столько радостного и светлого было в эти зимние дни…
Пока наряжали елку, пришло время Урманову заступать на дежурство. Сержант Бадмаев в качестве разводящего сопроводил его на пост.
Оставшись в одиночестве, Урманов слегка ослабил левую ногу, и чуть-чуть, незаметно, оперся правой ладонью о тумбочку. Пока никто не видел, можно было расслабиться. Ведь стоять ему предстояло еще долго – целых четыре часа.
В расположении было тихо. Рота ушла на фильм… Скучая, Урманов рассматривал свое отражение в стеклянной двери напротив, на которой большими красными буквами было написано: «Комната для хранения оружия». В толстом полупрозрачном стекле отражались очертания высокого, подтянутого солдата, с молодцеватой выправкой: в шапке ушанке, c желтой кокардой на козырьке; с красной нарукавной повязкой, с висящим на поясе штык-ножом. А чуть дальше, за отражением, угадывались стоящие рядами закрытые на замки темно-серые ящики оружейных пирамид.
Время тянулось неспешно. Круглые настенные часы над входом мерно отстукивали секунды: «Тик-так, тик-так». Мысли сами собой подхватили и понесли Урманова вспять, туда, где он был еще совсем недавно – в последнее доармейское лето.
Над открытой танцевальной площадкой раскинулось звездное небо. Конец августа… Громкая музыка далеко разносится окрест. В центре освещенного круга энергично танцует молодежь.
Сашка стоит, прижавшись спиной к ребристой высокой ограде, и отрешенно смотрит перед собой. Недавний разрыв с Ниной тягостной болью отдается в душе… Знакомые девчонки призывно машут руками, приглашая присоединиться, но он только грустно улыбается в ответ. Не до этого ему сейчас…
Согласно неписанным законам, танцплощадка условно поделена на сектора. В каждом – своя тусовка. Как правило, это обусловлено районом проживания: «привокзалка», «тульские», «горьковские», «новый район»… Сашка с друзьями относится к последним. Они, что называется, держат верхушку – самые сильные здесь и самые многочисленные.
Периодически, в пределах танцплощадки или в непосредственной близости от нее происходят скоротечные драки. Бывает – район на район, а чаще – просто банальное выяснение отношений. Обычно до серьезных травм дело не доходит, но адреналина хватает.
Сашка, хоть и занимался боксом с восьмого класса, драться никогда не любил. Одно дело на ринге, в перчатках… И совсем другое – просто так.
В школе он не дрался ни разу. Хотя поводы иной раз имелись, и можно было бы приложить забияку хуком справа, но Сашка словно не мог переступить какую-то запретную черту. Как так? Ударить по лицу человека… Тем более – одноклассника. Это было табу.
А вот просто продемонстрировать силу удара – это он мог с удовольствием. Однажды по осени они всем классом выехали в ближайшее село на уборку турнепса. Это такие корнеплоды, по вкусу напоминающие репу, а по форме – человеческую голову. Идут в основном на корм скоту… И вот, во время обеденного перерыва Сашка под настроение устроил такое шоу – разбивание кулаком этих самых корнеплодов. Две девушки, одноклассницы, на вытянутых руках держали за хвостик крупный, тяжелый и твердый турнепс, а Сашка одним ударом, под громкий визг ассистенток, разбивал его вдребезги… Только брызги во все стороны летели. Вот это было зрелище.
В общем, он был довольно миролюбивым и безобидным парнем. Но после расставания со своей девушкой его как будто подменили. Если раньше Сашка старался особо не конфликтовать, то теперь чуть что – сразу бросался в драку. Только вчера за день он участвовал в трех потасовках.
Громкая, резкая музыка бьет по ушам. Вспышки яркого света выхватывают из полумрака пеструю толпу. Десятки тел движутся в ритме танца.
Внезапно сквозь музыку слышится женский визг. По толпе пробегает паническая волна. Где-то там, в глубине вспыхнула драка… Оторвавшись от ограды, Сашка движется к эпицентру. Взгляд бесстрастно фиксирует происходящее.
«Наши с «привокзалкой» схватились»
Музыка обрывается, в микрофоне звучит искаженный помехами голос «Что вы делаете! Прекратите немедленно!.. Милицию вызову!»
По нескольку человек с той и другой стороны яростно месят друг друга. Пары секунд Сашке хватает, чтобы оценить обстановку. Увернулся от удара, кого-то толкнул – и вот он у цели. Трое чужаков с «привокзалки» дубасят одного из «нового района». Шаг, другой… Двое, увидев его, отскочили. Третий продолжает увлеченно мутузить несчастного. Сашка левой рукой крепко хватает противника за кисть. Тот мгновенно вскидывает глаза и, увидев соперника, растерянно цепенеет. Он выше почти на голову, но узок в плечах и костист… Не отводя взгляд, Сашка чуть откидывается, припадает на правую ногу, затем резко выпрямляет ее, и, разворачивая одновременно таз и плечи, бьет коротким крюком справа в подбородок. Удар!.. Противник словно ломается сразу в нескольких местах: колени – в одну сторону, зад – в другую, голова – в третью; и безвольной тряпичной куклой валится к его ногам.
Сашка делает шаг назад. Взгляд налево, взгляд направо… Опасности нет. Он медленно опускает руки. Драка затихает так же быстро, как и началась.
Рядом с ним оказывается девушка. Она что-то говорит. Сквозь громкую музыку не совсем понятно, что именно… Сашка разбирает только: «Вы меня спасли».
– Да ну, что вы… Пустяк… – смутившись, Сашка не знает что ответить. Каким образом он мог ее спасти? Что она выдумывает?
Высокая стройная блондинка с распущенными длинными волосами стоит рядом. Улыбка играет на смуглом лице.







