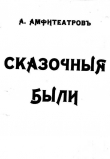Текст книги "Грезы и тени"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
ЗОЭ
Элегія
Зачѣмъ ты снова явилась мнѣ въ эту ночь – тяжкую и долгую, какъ дорога въ адъ, когда, спотыкаясь подъ ношей воспоминаній, бредетъ по ней обреченная мукамъ душа? Чѣмъ дальше ведетъ ее грозный путь, тѣмъ мельче становятся образы оставшейся позади жизни, тѣмъ глуше и тише ея незабвенные отзвуки. A дьяволы вѣчнаго отчаянія, ждущіе добычу, все ростуть и ростутъ впереди – и выростаютъ, какъ столѣтніе дубы, и язвительный хохотъ ихъ переходитъ въ раскаты грома.
Да! я былъ близокъ къ мысли, что громъ – хохотъ дьявола въ эту ночь, когда тучи черною медвѣжьей шкурою лежали надъ Римомъ, ливень хлесталъ Палатинъ и Капитолій, a Тибръ вздувался въ оковахъ набережной, пытаясь, какъ узникъ, вырваться на свободу и затопить Трастевере мутной волной.
Щели въ ставняхъ вспыхивали голубыми огнями непрерывно струившихся молній. Я жмурилъ глаза. Я кутался въ одѣяло. Я пряталъ голову подъ подушки. Ничто не помогало: кто чувствуетъ грозу, тому не надо видѣть молніи, не надо слышать грома, чтобы страдать отъ нея.
Гроза затихла, но не прошла. Она висѣла въ воздухѣ, какъ отдыхающая орлица. Ея дыханіе отравило ночь – ночь, чернѣе Мамертенскаго подземелья и столько же полную призраковъ. О, тоска тьмы, напитанной электричествомъ! Ты хуже кошмара: ты смѣлѣе его. Кошмаръ, какъ воръ, подкрадывается къ сонному. Ты же – огромное привидѣніе въ траурной мантіи – дерзко садишься на грудь человѣка въ твердой памяти, со свободною волей и, положивъ на его горло тяжелыя лапы, любуешься, когда онъ задыхаясь, бьется въ своей постели, точно рыба на пескѣ.
Въ такую то минуту – о, Зоэ! – ты пролетѣла предо мною… во снѣ или на яву?
Яркій лучъ несъ тебя сквозь мракъ, ничего не озаряя въ немъ, кромѣ тебя. Ты сверкнула, подобно осеннему метеору, и полоса свѣта, какъ на небѣ послѣ метеора, долго лежала предъ моими глазами твоимъ слѣдомъ, медленно выцвѣтая.
Ахъ! и сейчасъ я вижу тебя въ этомъ лучѣ: бѣлую и прозрачную, точно фарфоръ, окутанную въ голубой шелкъ, съ вѣнкомъ серебряныхъ колосьевъ на золотистомъ пеплѣ волосъ, разсыпанныхъ по полудѣтскимъ плечамъ. Вижу тебя такою, какъ очаровала ты впервые мое воображеніе! ты – женщина сѣвера, съ стальными глазами! ты, дитя вѣчнаго горя и минутныхъ торжествъ!
Бѣломраморный залъ сіялъ огнями. Ты пѣла. Тысячи глазъ впивались въ тебя. На красномъ сукнѣ эстрады ты казалась свѣтлымъ ангеломъ, слетѣвшимъ изъ рая въ адскій огонь, чтобы освѣжить каплею влаги запекшіяся уста грѣшника. Я не помню звуковъ, пѣтыхъ тобою. Что въ нихъ? Ты сама была живою симфоніей молодой и богатой жизни, ты, какъ пташка, свободно и счастливо летѣла на крыльяхъ торжественной гармоніи, слагавшейся десятками инструментовъ, послушныхъ жезлу сѣдого капельмейстера.
И, когда я снова увидѣлъ тебя такою, долго потомъ сидѣлъ впотьмахъ на своей одинокой кровати, полный воспоминаній и волненій. Зачѣмъ ты явилась мнѣ сейчасъ? Зачѣмъ являешься вообще? Кто былъ я тебѣ, кто была ты мнѣ, что теперь твое загробное дыханіе вѣетъ въ мою жизнь, и никогда струны моей души не звучатъ звонче и грустнѣе, чѣмъ – если коснется ихъ твоя мертвая рука?
Мы рѣдко видались, когда ты была жива. Мы не были друзьями. Больше: мы не любили другъ друга. Правда: я любовался тобой, – но вчужѣ, какъ любуются картиной, проникнутой духомъ могучей художественной силы.
Она дышала въ тебѣ на встрѣчу каждому и тянула къ себѣ людей, какъ магнитъ – желѣзо. Казалось, богатство твоей души тяготило тебя самые. Демонъ, служащій чародѣю, если нѣтъ ему работы, начинаетъ мучить самого чародѣя. Талантъ – тотъ же демонъ. Тебя волновала смутная жажда дѣятельности – могучей и великолѣпной. A я думалъ:
– Эта дѣвушка – не знаю, чѣмъ будетъ, но способна быть всѣмъ, чѣмъ захочетъ. Но, на свое горе, она сама не знаетъ, чѣмъ ей быть… и, быть можетъ никогда не узнаетъ.
Ты знала, что я такъ думаю, и не любила меня именно за это. Я гордился твоею нелюбовью; она выдѣляла меня изъ толпы поклонявшихся тебѣ друзей – рабовъ, которыхъ ты и любила, и презирала.
Такова уже судьба человѣка; не уважать тѣхъ, кто любитъ насъ слишкомъ наивно, и не любить тѣхъ, кто понимаетъ насъ слишкомъ хорошо. Потому что, разъ человѣкъ понялъ другого, – между ними нѣтъ уже мѣста поклоненію: они осуждены на равенство, ненавистное гордому духу. Женскому – въ особенности. Женщина должна быть или рабою, или царицею; въ равенствѣ ей скучно и душно. Наши встрѣчи и бесѣды – дружескія на видъ – были полны тайнаго недоброжелательства, замѣтнаго лишь для насъ двоихъ. Наши шутки были слишкомъ злы. Мы любили ловить другъ друга на неловкомъ словѣ, неловкомъ оборотѣ рѣчи, на каждой недомолвкѣ, каждой не послѣдовательности. За глаза и въ глаза мы трунили другъ надъ другомъ, стараясь нанести какъ можно больше ударовъ и моему, и твоему самолюбію, и чтобы удары попадали какъ можно больнѣе и глубже. A самолюбія были огромныя…
Часто наблюдалъ я, какъ твой взоръ – глубокій взоръ сѣроглазой королевы эльфовъ: мечтательный и властный, туканный и повелительный, – неподвижно застывалъ гдѣ то вдали, на воображаемой точкѣ, видной тебѣ одной. И мнѣ хотѣлось спросить:
– Какой тронъ рисуетъ вамъ гордый полетъ воображенія? Какого сказочнаго принца, чтобы взвести васъ на этотъ тронъ?
Пришелъ и принцъ. Ты полюбила и стала женою любимаго человѣка. Я равнодушно привѣтствовалъ твое молодое счастье… короткое, жалкое счастье нѣсколькихъ дней.
Королева фей! Ты на сцену смотрѣла, какъ на жизнь, a на жизнь, какъ на сцену… Когда спектакль любви кончился, когда упали пестро раскрашенныя кулисы, когда очаровательный театральный принцъ снялъ съ лица румяна и бѣлила, a съ плечъ мишурный кафтанъ, – ты растерялась… смутилась… ужаснулась.
Вся юность твоя была поэтическимъ самообманомъ величія и красоты. И все – рухнуло. Нѣтъ ни трона, ни принца, – есть красавецъ-мужъ въ толстомъ пиджакѣ и широкихъ штанахъ, который больше всего на свѣтѣ боится, какъ бы твои фантазіи не перешли въ истерику. Ты, какъ статуя, жила на пьедесталѣ: гордою, уединенной богиней, выше міра и людей. Женщина одиночества отдалась человѣку толпы. Жизнь звала. Пришлось сойти съ пьедестала и смѣшаться съ толпой. Ты оказалась въ ней чужою, какъ голубка въ стаѣ черныхъ вороновъ: робка, странна, неумна, неловка… всегда жалка, иногда смѣшна.
Сказки сѣвера передали намъ образы лебединыхъ женъ, которыя увлекались любовью къ смертнымъ богатырямъ; тогда оставляла ихъ сверхъестественная сила, и прикованныя къ заботамъ земли влача вялую жизнь жены-рабыни, онѣ изнемогая въ мятежной тоскѣ по голубому небу плавающимъ въ его просторѣ сестрамъ – облакамъ. И, если не отростали вновь ихъ обрубленныя лебединыя крылья, онѣ хирѣли, чахли, умирали, какъ зачахла и умерла ты; обманутая самой собою и людьми, съ ненавистью къ землѣ и безъ надежды на небо.
Бѣжали годы, я встрѣчалъ тебя чаще, чѣмъ прежде, разъ отъ раза все болѣе и болѣе отцвѣтающею: ты умирала тѣломъ, угасала душой. Твоя красота разрушилась. Твой талантъ увялъ. Невѣрующимъ глазомъ смотрѣла ты впередъ. A когда озиралась на пройденный тобою путь, – о, какою язвительною тоской звучали твои холодныя металлическія рѣчи! То былъ хохотъ трагическаго демона ироніи, вселеннаго въ тебя отчаяніемъ. Его острый, угрожающій взглядъ сверкалъ въ суровомъ блескѣ твоихъ, точно оледенѣлыхъ, глазъ. Ты старательно избѣгала встрѣчаться съ моимъ взоромъ, потому что знала, какъ ясно я читаю въ душѣ твоей послѣднюю радость: скорѣе бы умереть!.. – и тебѣ не надо было чужого участья. Ты умерла. Я не имѣлъ духа взглянуть на тебя въ гробу – обезображенную смертью. Я счастливъ этимъ: иначе твое имя подсказывало бы теперь моей памяти не свѣтлый голубой образъ, мелькнувшій предо мною въ лучѣ ночной молніи, но раздутый трупъ – отвратительный сарказмъ смерти и разложенія.
Друзья несли на плечахъ къ могилѣ твой обвитый вѣнками, сверкающій бѣлою парчою гробъ и забросали его мокрою глиной. Монахи пѣли тебѣ вѣчную память, однако всѣ тебя скоро забыли… всѣ, – и я, быть можетъ, скорѣе другихъ.
Но, однажды, зеленою весною, когда въ окна моего кабинета задумчиво глядѣла таинственная луна, a я, сидя верхомъ на подоконникѣ открытаго настежь окна, слушалъ мѣрный шумъ засыпающаго города, какой то звукъ въ этомъ шумѣ внятно сказалъ мнѣ:
– Зоэ!
И вдругъ мнѣ стало безмѣрно жаль твоей погибшей жизни, и стыдно! стыдно!! Непонятно стыдно!!! что я забылъ тебя… Я долго разсматривалъ твой портретъ. На немъ лежало яркое лунное пятно. Мнѣ казалось, что ты улыбаешься длинною, печальною улыбкой – важною улыбкой смерти надъ безполезнымъ сномъ жизни. О, бѣдная! бѣдная! Прекрасная, какъ цвѣтокъ, увядшая, какъ цвѣтокъ, и, какъ цвѣтокъ, забвенная – цвѣтокъ безъ завязи, не оставившій по себѣ ни плода, ни слѣда… Пустоцвѣтъ!..
Какъ горько звучитъ это опошленное слово, когда звучитъ оно про тебя!
Жалость росла, глаза были мокры, я впервые понялъ, что мы съ тобой были друзьями больше, чѣмъ думали. Но вѣдь это была одна минута – только одна чувствительная минута, прогнанная стаканомъ вина за ужиномъ и крѣпкимъ семичасовымъ сномъ…
Но – затѣмъ потомъ… черезъ недѣлю, можетъ быть, черезъ двѣ недѣли – не помню… потянуло меня въ монастырь, гдѣ мы тебя зарыли въ землю. Я удивился, какъ хорошо тамъ. Падалъ вечеръ; бѣлое море цвѣтущихъ яблонь и вишенъ монастырскаго сада, что позади кладбища, стало розовымъ. Колоколъ, – маленькій, будничный колоколъ – медленно звякалъ, призывая братію ко всенощной… и, когда отзвякалъ, грустный, дребезжащій звукъ долго тянулся и умиралъ въ трепещущемъ воздухѣ. Я смотрѣлъ на твой черный мраморный крестъ, на дернъ, которымъ затянуло твою могилу, и думалъ: это потому онъ такой зеленый и сочный, что она напитала его своимъ тѣломъ… На крестѣ налипли лепестки яблоннаго цвѣта… По зарѣ тянуло тонкимъ холодкомъ, и духъ яблонь тихою струею колыхался надъ могилами… Я, какъ всегда, не вѣрилъ въ смерть и мертвецовъ и чувствовалъ, что я – живой съ живыми, хоть и незримыми. И ты, Зоэ, была тогда тамъ! Была, разлитая въ благоуханіи цвѣтовъ, въ розовомъ трепетѣ вечера, въ плачѣ отзвучавшаго колокола…
Я помню раскаленную зноемъ синеву неба и силуэты ломбардскаго городка, прилѣпленнаго къ скаламъ. Когда y маленькой проходной станціи на минуту замеръ грохотъ нашего поѣзда, – высоко надъ нами звонили къ agnuis dei, a въ окно вагона пахнуло яблоннымъ духомъ, и мнѣ захотѣлось думать о твоей могилѣ – тамъ, на мутномъ сѣверѣ, въ оградѣ стараго монастыря.
– Pronti! крикнулъ кондукторъ. Поѣздъ рванулся впередъ. Но, когда онъ пробѣжалъ платформу, ты мелькнула отъ окна къ окну моего купэ! Я видѣлъ твою склоненную голову съ развитымъ локономъ на снѣжно-блѣдной щекѣ. Я едва не протянулъ руку, чтобы поймать порхнувшій въ окно дымчатый лоскутъ твоего длиннаго шарфа.
Была тоже странная ночь… Круглая и желтая луна щитомъ плыла мимо Колизея; съ робкою поспѣшностью мигала подъ нею зеленая Вега. Амфитеатръ на половину сіялъ голубымъ свѣтомъ, на половину тонулъ въ голубой мглѣ. Огромныя, внbмательныя звѣзды глядѣли въ его просвѣты. Я сидѣлъ на аренѣ, спустивъ ноги въ черную бездну развалинъ водоема, и думалъ о сотняхъ тысячъ людей, что до меня топтали эту пропитанную кровью арену. Думалъ о томъ испанскомъ художникѣ, которыя прославился «Видѣніемъ въ Колизеѣ», но – сдавъ картину на выставку – самъ былъ сданъ въ больницу для душевно-больныхъ.
Образы его картины безотвязно гнались за нимъ. Онъ видѣлъ бѣлую дѣвушку передъ кровавою пастью голоднаго льва и видѣлъ, какъ падала къ ногамъ мученицы алая роза – послѣдній привѣтъ невѣдомаго друга. Онъ видѣлъ, какъ – вонъ изъ той зіяющей черной дыры направо – выходилъ зарѣзанный въ подземномъ ходѣ Коммодъ. Онъ слышалъ рыкъ звѣрей, крутящихъ смерчи песку на аренѣ. Тяжелый, неповоротливый германецъ падалъ предъ его глазами, охваченный рыбачьей сѣтью ретіарія, и умиралъ подъ острымъ трезубцемъ, при оглушительныхъ вопляхъ толпы. Боевыя колесницы стаптывали тяжело вооруженныхъ, едва въ состояніи двигаться, людей, пересѣкали встрѣчнымъ лошадямъ ноги косами, укрѣпленными въ осяхъ колесъ. A тамъ, вверху, на уступахъ этого зданія-горы, десятки тысячъ злорадно-внимательныхъ глазъ впились – не оторвутся отъ длинной цѣпи меченосцевъ, строгимъ воинскимъ строемъ движущихся вокругъ арены. Вотъ, по командѣ магистра, въ разъ брякнуло ихъ оружіе, двѣ сотни голосовъ въ разъ рявкнули и оборвали по-солдатски послѣднее привѣтствіе… «Ave, Caesar imperator, morituri te salutant»…
Я думалъ объ этихъ красивыхъ снахъ, yо тщетно напрягалъ свое воображеніе, чтобы вызвать ихъ изъ темныхъ пещеръ Колизея: старые мертвецы крѣпко спали. Однако… я чувствовалъ, что недалеко отъ меня живетъ и волнуется другое существо: пришло нежданное и незванное… стоитъ, ходитъ, рѣетъ, вѣеть, – не знаю, какъ сказать, что о немъ подумать – гдѣ-то близко-близко. Онъ трепещется, какъ бабочка подъ сѣткой, и дышетъ яблоннымъ цвѣтомъ… И, смѣло глядя въ угрюмыя галлереи цирка-призрака, я избѣгалъ взоромъ лишь одного косого выступа налѣво, гдѣ играла узенькая полоска луннаго свѣта. Я зналъ, что эта полоска – ты, Зоэ! Что это ты повисла въ воздухѣ струей свѣтящагося тумана, качаясь на мѣсячномъ лучѣ…
Но – тамъ на кладбищѣ, въ поѣздѣ, въ Колизеѣ – ты все-таки была скорѣе предчувствіемъ, чѣмъ видѣніемъ. Теперь же я видѣлъ тебя… Какъ? Я не знаю. Что ты? Я не понимаю. Сновидѣніе? Призракъ? Галлюцинація? Или, наконецъ, просто непроизвольное воспоминаніе зрѣнія? Давнее впечатлѣніе твоей красоты спало въ моемъ мозгу, забытое и неподвижное; невѣдомый толчекъ разбудилъ его, и оно воскресло свѣжее, нарядное, полное блистающихъ красокъ, точно все это было только вчера! Какъ бы то ни было: внѣшнее ли ты явленіе, или я вижу тебя только духовными глазами, внутри своего сознанія, – все равно. Главное, что я тебя видѣлъ. И не смутился, не испугался, но былъ счастливъ тѣмъ, что вижу. Я знаю: это было не въ послѣдній разъ. Я чувствую: между мною, живымъ, и тобою, мертвою, внезапно установилась таинственная связь, которой никогда не проявиться бы, пока насъ обоихъ одинаково грѣло земное солнце. Наши воли сроднились. Ты мнѣ близка. Я хочу думать о тебѣ, хочу сладкихъ и сильныхъ волненій ожиданія… хочу стоять на границѣ загадки, которую разгадать – и желанное, и боязное счастье.
Я стараюсь вспомнить каждое слово, каждый жестъ твой во время нашихъ былыхъ встрѣчъ. О, какъ жаль, что ихъ было такъ мало, что ихъ не достаетъ мнѣ, когда я стараюсь дополнить воображеніемъ то, чего не подсказываетъ мнѣ о тебѣ память. Я сочиняю тебя, какъ легенду, какъ миѳъ, какъ безплодную фантастическую поэму; ея звуки и ароматъ назойливо врываются въ каждую минуту моей жизни. Ты стоишь рядомъ съ каждою мыслью, возбуждаемой въ моемъ умѣ. И знаешь ли… это странно… Но мнѣ начинаетъ представляться, будто это не теперь только, a и всегда такъ было… Только я этого не замѣчалъ…
Да! Не замѣчаешь воздуха, которымъ дышишь, не замѣчаешь закона тяжести, которымъ движется миръ… Не замѣчаешь и великой духовной любви, которой власть узнаешь лишь тогда, когда ея фіалъ разбитъ, когда пролилось и въ землю всосалось заключенное въ немъ вино…
Любовь!.. Страшное слово: сильнѣе смерти. Оно нечаянно сорвалось съ моего языка… a думалось все время!.. Да неужели же его непремѣнно надо здѣсь произнести?
Неужели… неужели я – твой равнодушный, насмѣшливый полу-другъ, полу-врагъ – въ самомъ дѣлѣ любилъ тебя, Зоэ?.. Любилъ – и не зналъ?!..
КИММЕРІЙСКАЯ БОЛѢЗНЬ
Земля, какъ и вода, содержитъ газы —
И это были пузыри земли…
«Макбетъ».
О, покончивъ съ нимъ,
Я пойду къ другимъ —
Я должна итти за жизнью вновь.
Коринфская невѣста.
Милый Саша!
Ты конечно, очень изумишься, узнавъ, что я въ Корфу, a не на Плющихѣ. Корфу… это дѣйствительно, какъ-то мнѣ не къ лицу. Я человѣкъ самый московскій: сытый, облѣненный легкою службою и холостымъ комфортомъ, сидячій, постоянный и не мечтающій. И смолоду пылокъ не былъ, a къ тридцатипяти годамъ вовсе разучился понимать васъ, безпокойныхъ шатуновъ по бѣлому свѣту, охотниковъ до сильныхъ ощущеній, новостей и необыкновенностей. Взамѣнъ бушующихъ морей, гордыхъ альпійскихъ вершинъ, классическихъ развалинъ и мраморныхъ боговъ, русскому интеллигенту отпущены: мягкая кушетка, пылающій каминъ, интересная книга и воспріимчивое воображеніе. Я не отрицаю потребности въ сильныхъ ощущеніяхъ; но нѣтъ надобности испытывать ихъ лично, если возможно ихъ воображать, не выходя ни изъ душевнаго равновѣсія, ни изъ комнаты, и притомъ вчужѣ… ну, хоть по Пьеру Лоти или Гюи де-Мопассану. Подставлять же необыкновенностямъ свою собственную шкуру, скучать безъ нихъ, напрашиваться на нихъ, какъ дѣлаешь ты и тебѣ подобные, – страсть, для меня не понятная. Она – извини за вульгарность! – напоминаетъ мнѣ старую мою пріятельницу, калужскую купчиху-дворничиху, которая скучала, когда ее не кусали блохи. Я не перемѣнилъ своего мнѣнія и теперь, такъ неожиданно свалившись съ сѣрой Плющихи на сверкающій Корфу, гдѣ вѣчно синее небо, какъ опрокинутая чаша, переливается въ вѣчно синее море. Красиво; но воображеніе создаетъ красоту… не лучше, a – какъ бы тебѣ сказать? – уютнѣе, что ли, чѣмъ дѣйствительность. Я глубоко сожалѣю о своемъ московскомъ кабинетѣ, каминѣ, кушеткѣ, о службѣ, о моихъ книгахъ и друзьяхъ, обо всемъ, во что сливается для меня сѣверъ. Въ гостяхъ хорошо, a дома лучше, и, если бы я могъ, я бы сейчасъ вернулся. Но я не могу, и мнѣ никогда уже не быть дома… Никогда, никогда!
Я уѣхалъ изъ Москвы ни съ кѣмъ не простясь, безразсчетно порвавъ съ выгодною службой, бросивъ оплаченую за годъ впередъ квартиру, не устроивъ своихъ дѣлъ…Ты видишь, что это – не путешествіе, но бѣгство. Да, я бѣжалъ. Не отъ враговъ и не отъ самого себя: первыхъ y меня нѣтъ, совѣсть же моя – какъ y всякаго средняго человѣка; ей нечѣмъ ни похвалиться, ни мучиться. Бѣжалъ потому, что тамъ y себя на Плющихѣ, невзначай заглянулъ въ великую тайну, которой не зналъ и знать не хотѣлъ… боялся знать. Потому что эта тайна раньше, въ рѣдкія минуты, когда я касался до нея разсѣянной мыслью, мерещилась мнѣ въ образахъ, полныхъ грозной, мрачно-величавой поэзіи; она угнетала меня, заставляла терять счастливое равновѣсіе моей жизни. Храня свое спокойствіе, здоровую душу въ здоровомъ тѣлѣ, я старался позабыть о ней. И позабылъ, и никогда о ней не думалъ. Но она сама навязалась мнѣ, непрошенная. И она вовсе не величавая, но мѣщанская, сѣрая, будничная… И это очень тяжело. Ты знаешь мою послѣднюю квартиру на Плющихѣ, въ домѣ Арефьева, № 20. Она славная – просторная и свѣтленькая, для одинокаго холостяка съ семейными привычками – кладъ. Я занялъ ее съ августа, послѣ дачи, заново отдѣланную послѣ съѣхавшаго весною жильца, адвоката Петрова. Я его хорошо знаю: большой дѣлецъ и еще большій кутила. Нанимая квартиру, я было поѣхалъ къ нему за справками, какъ онъ былъ ею доволенъ, но и на новой его квартирѣ красовались билетики о сдачѣ; a дворникъ сообщилъ мнѣ, что не такъ давно Петровъ допился до бѣлой горячки и помѣщенъ родными въ лѣчебницу для нервно-больныхъ.
Я поселился y Арефьева безъ справокъ и не раскаялся. Уютно жилось. Ты y меня бывалъ, – знаешь. Вечеромъ, 18 ноября, я собрался было въ гости… чуть ли даже не къ тебѣ. Но термометръ стоялъ на нулѣ, что въ эту пору года для Москвы хуже всякаго мороза: значитъ, и вѣтеръ, и сырость, и слякоть; тучи лежали обложныя, стекла залипали талымъ слезящимся снѣгомъ. Я остался дома за самоваромъ и книгою; кстати, Денисовъ, третьяго дня, снабдилъ меня «La Bas» Гюисманса и просилъ поскорѣе возвратить.
Часовъ около десяти – звонокъ. Сергѣй докладываетъ:
– Тамъ пришла какая-то… спрашиваетъ.
Я удивился.
– Дама? въ такую пору?
– Да и не такъ, чтобы дама; на мамзюльку смахиваетъ.
– Раньше бывала?
– Не примѣчалъ…
– Зови.
Вошла «мамзюлька». Брюнетка. Маленькая, тощенькая, но совсѣмъ молодая и очень красивая. Рѣсницы длинныя, строгія и такія дремучія, что за ними не видать глазъ. Спрашиваю:
– Чѣмъ могу служить?
Она, не поднимая глазъ, отвѣчаетъ мнѣ этакимъ тихимъ голосомъ и немного сиповатымъ:
– Я отъ Петрова.
– Петрова? какого Петрова?
– Присяжнаго повѣреннаго…
– Который прежде жилъ на этой квартирѣ?
– Да.
– Но позвольте: я слышалъ, что онъ очень боленъ, пользуется въ лѣчебницѣ душевно-больныхъ.
– Да.
– Какъ же онъ могъ послать васъ ко мнѣ и зачѣмъ?
– Онъ мнѣ сказалъ: Анна! что ты ко мнѣ пристала, отвязаться не хочешь? У меня ничего уже нѣтъ, я сумасшедшій и скоро умру. Ты не имѣешь больше права меня мучить. Иди къ другимъ! Я спросила: Вася, куда же я пойду? Я никого кромѣ тебя не знаю. Онъ отвѣтилъ: ступай въ квартиру, гдѣ мы съ тобой жили; тамъ есть Алексѣй Леонидовичъ Дебрянскій; онъ тебя приметъ.
Это походило на ложь: откуда бы Петрову знать, что я занялъ его бывшую квартиру? A говорить – точь въ точь не очень памятливое дитя отвѣчаетъ урокъ: ровно, и съ растяжкою, каждое слово само по себѣ, – совсѣмъ капель изъ жолоба: капъ… капъ… капъ…
– Что же вамъ угодно? – повторилъ я, но, оглядѣвъ ея хрупкую фигурку, невольно прибавилъ: – прошу васъ садиться, и не угодно ли вамъ чашку чаю? Кажется, вамъ не лишнее согрѣться. Я бы даже посовѣтывалъ вамъ прибавить вина или коньяку.
Иззябла она ужасно: зеленое лицо, синія губы, юбка въ грязи и мокра по колѣно. Видимое дѣло: издалека и пѣшкомъ.
Она молча опустилась на стулъ. Я подалъ ей чашку. Она выпила залпомъ, кажется, не разбирая, что пьетъ. Чай съ коньякомъ согрѣлъ ее; губы стали алыми, янтарныя щеки подернулись слабымъ румянцемъ. Она была, дѣйствительно очень хороша собою.
Мнѣ хотѣлось видѣть ея глаза, но ея рѣсницы только дрожали, a не поднимались. Всего раза два сверкнулъ на меня ея взглядъ, острый и блестящій, да и то исподтишка, искоса, когда я отворачивался въ сторону. За то, кусая хлѣбъ, она обнаруживала превосходные зубы – мелкіе, ровные, бѣлые.
Послѣ странныхъ откровенностей моей гостьи относительно Петрова, она начала мнѣ казаться и въ самомъ дѣлѣ «мамзюлькой», которую отправилъ на всѣ четыре стороны охладѣвшій любовникъ… и я былъ не въ претензіи на Петрова за новое знакомство, хотя продолжалъ недоумѣвать, зачѣмъ направилъ онъ ко мнѣ эту молчаливую особу. Такъ что, въ третій разъ, что ей угодно, я не спросилъ, сдѣлался очень веселъ и рѣшился – разъ судьба посылаетъ мнѣ романическое приключеніе – извлечь изъ него какъ можно болѣе интереснаго…
Я не изъ сентиментальныхъ ухаживателей и, когда женщина мнѣ нравится, бываю довольно остроуменъ. Однако, моя гостья – хоть бы разъ улыбнулась: будто и не слыхала моихъ шутокъ и комплиментовъ. Лицо ея застыло въ неподвижномъ выраженіи тупого покоя. Она сидѣла, уронивъ руки на колѣна, въ полъоборота ко мнѣ.
– Я здѣсь жила, – вдругъ прервала она меня, не обращая ко мнѣ ни глазъ, ни головы – словно меня и не было въ комнатѣ. Это упорное невниманіе и смѣшило меня, и злило. Думаю:
– Либо психопатка, либо дура непроходимая.
– Все другое, – продолжала она, глядя въ уголъ, – другое… и обои, и полы…
Ага! сентиментальность! Воспользуемся.
– Вы, кажется, очень любите эту квартиру? – спросилъ я, разсчитывая вызвать ее на откровенныя изліянія. Она, не отвѣчая, встала и прошла въ тотъ уголъ, куда глядѣла.
– Здѣсь были пятна, – сказала она.
– Какія пятна? – озадачился я.
– Кровь.
Отрубила и возвратилась къ столу. Я ровно ничего не понималъ. Но эта дурочка была такая красивая, походка y нея была такая легкая, что волновала и влекла она меня до одурѣнія… и какъ-то случилось, что, когда она проходила мимо меня, я обнялъ ее и привлекъ ея голову къ себѣ на плечо. Не знаю, что именно въ моей гостьѣ подсказало мнѣ, что она не обидится на мою дерзость, но я былъ увѣренъ, что не обидится, – и точно, не обидѣлась, даже не удивилась. У нея были холодныя, мягкія ручки и холодныя губки – большая прелесть въ женщинѣ, если она позволяетъ вамъ согрѣвать ихъ.
– Взгляни же на меня, шепталъ я, – зачѣмъ ты такая безучастная? У тебя должны быть чудные глазки. Взгляни.
Она отрицательно качнула головой.
– Ты не хочешь?
– Не могу.
– Не можешь? почему?
– Нельзя.
– Ты всегда такая?
Вмѣсто отвѣта, она медленно подняла руки и обняла мою шею. Стало не до вопросовъ.
Любовный смерчъ пролетѣлъ. Я валялся y ея ногъ, воспаленный, полубезумный; a она стояла, положивъ руку на мои волосы, холодная и невозмутимая, какъ прежде. У меня лицо горѣло отъ ея поцѣлуевъ, a мои не пристали къ ея щекамъ – точно я цѣловалъ мраморъ.
– Мнѣ пора, – сказала она.
– Погоди… погоди…
Она высвободила руку.
– Пора…
– Тебя ждутъ? кто? мужъ? любовникъ?
Молчитъ. Потомъ опять:
– Пора.
– Когда же мы увидимся снова?
– Черезъ мѣсяцъ… я приду…
– Черезъ мѣсяцъ?! такъ долго?
– Раньше нельзя.
– Почему?
Молчитъ.
– Развѣ ты не хочешь видѣть меня раньше?
– Хочу.
– Такъ зачѣмъ же откладывать свиданіе?
– Это не я.
– Тебѣ трудно придти? тебѣ мѣшаютъ?
– Да.
– Семья y тебя что ли?
Молчитъ.
– Гдѣ ты живешь?
Молчитъ.
– Не хочешь сказать? Можетъ быть ты нездѣшняя?
Молчитъ и тянется къ двери…
– Пусти меня…
Я озлился. Сталъ поперекъ двери и говорю:
– Вотъ тебѣ мое слово; я тебя не выпущу, пока ты мнѣ не скажешь, кто ты такая, гдѣ твоя квартира, и почему ты не вольна въ себѣ.
Губы y нея задрожали… и слышу я… ну, ну, слышу… тѣмъ же ровнымъ голосомъ:
– Потому что я мертвая.
Внятно такъ…
И… и я ей сразу повѣрилъ, и вся она вдругъ стала мнѣ ясна. И я не испугался, a только сердце y меня какъ-то ухнуло внизъ, будто упало въ желудокъ, и удивился я очень. Стою, молчу и гляжу во всѣ глаза. Она спокойно прошла мимо меня въ переднюю. Я схватилъ свѣчу и за нею. Тамъ – Сергѣй, и лицо y него странное. Онъ выпустилъ гостью на подъѣздъ. На порогѣ она обернулась, и я наконецъ увидалъ ея глаза… мертвые, неподвижные глаза, въ которыхъ не отразился огонекъ моей свѣчи… Я вернулся въ кабинетъ. Стою и думаю:
«Что такое? развѣ это бываетъ? Развѣ это можно?»
И все не боюсь; только по хребту бѣжитъ вверхъ холодная, холодная струйка, перебирается на затылокъ и ерошитъ волосы. A свѣча все y меня въ рукахъ, и я ею машу, машу, машу… и остановиться никакъ не могу… О, Господи!.. Увидалъ бутылку съ коньякомъ: глотнулъ прямо изъ горлышка… зубы стучатъ, грызутъ стекло.
– Баринъ, а, баринъ! – окликаетъ меня Сергѣй.
Взглянулъ я на него и вижу, что онъ тоже знаетъ. Бѣлъ, какъ мѣлъ, и щеки прыгаютъ, и голосъ срывается. И тутъ только, глядя на него, я догадался, какъ я самъ-то испуганъ.
– Баринъ, осмѣлюсь спросить: какая это госпожа y насъ были?
Я постарался овладѣть собою.
– A что?
– Чтой-то онѣ какія… чудныя? Вродѣ, какъ бы…
И мнется, самъ стѣсняясь нелѣпости необходимаго слова.
– Ну?!
– Вродѣ, какъ бы не живыя?
Я – какъ расхохочусь… да вѣдь во все горло! минуты на три! Ажъ Сергѣй отскочилъ. A потомъ и говоритъ:
– Вы, баринъ, не смѣйтесь. Это бываетъ. Ходятъ.
– Что бываетъ? кто ходитъ?
– Они… неживые то-есть… И дозвольте: такая сейчасъ мзга на дворѣ, что хорошій хозяинъ собаки на улицу не выгонитъ; a онѣ – въ одномъ платьишкѣ, и безъ шляпы… Это что же-съ?
Я ужасно поразился этимъ: въ самомъ дѣлѣ! какъ же я то не обратилъ вниманія?
– И еще доложу вамъ: какъ сейчасъ вы провожали ее въ переднюю, я стоялъ аккуратъ супротивъ зеркала; васъ въ зеркалѣ видать, меня видать, a ея нѣтъ…
Я – опять въ хохотъ, совладать съ собой не могу, чувствую, что вотъ-вотъ – и истерика. A Сергѣй стоитъ, хмуритъ брови и внимательно меня разглядываетъ; и ничуть онъ моей веселости не вѣритъ, a въ томъ убѣжденъ. И это меня остановило. Я умолкъ, меня охватила страшная тоска…
– Ступай спать, Сергѣй.
Онъ вышелъ. Я видѣлъ, какъ онъ, на ходу, крестился.
Не знаю, спалъ ли онъ въ ту ночь. Я – нѣтъ. Я зажегъ свѣчи на всѣхъ столахъ, во всѣхъ углахъ, чтобы въ квартирѣ не осталось ни одного темнаго мѣстечка, и до солнца проходилъ среди этой иллюминаціи. Такъ вотъ что! вотъ что!.. тамъ все – какъ живое, какъ обыкновенное; и однако оно и необыкновенно, и мертво. Я не трусъ. Я не люблю думать… нѣтъ, не люблю рѣшать о загробныхъ тайнахъ, a фантазировать кто же не любитъ? Я интересовался спиритизмомъ, теософистами, новой магіей. Я слѣжу за французской литературой и охотникъ до ея оккультическихъ бредней.
Вонъ и сейчасъ на столѣ валяется La Bas. Но оккультизмъ красивъ, огроменъ, величавъ. Тамъ – Саулъ, вопрошающій Аэндорскую волшебницу, тамъ – боги, выходящіе изъ земли. Манфредъ заклинаетъ Астарту; Гамлетъ слушаетъ тайны мертваго отца; Фаустъ спускается къ «матерямъ». Все эффектныя позы, величавыя декораціи, значительныя слова, хламиды, саваны. Ну, положимъ, я не Саулъ, не Манфредъ, не Фаустъ, a только скромный и благополучный управляющій торговою конторой. Положимъ, что и чертовщина имѣетъ свой табель о рангахъ, и мнѣ досталось привидѣніе – по чину: изъ простенькихъ, поплоше. Но чѣмъ же я хуже, напримѣръ, какого-нибудь Аратова изъ «Клары Миличъ?» A сколько ему досталось поэзіи! «Розы… розы… розы…» – звуковой вихрь, отъ котораго духъ захватываетъ, слезы просятся на глаза. Но, чтобы привидѣніе пришло запросто въ гости и попросило чашку чаю… и, вонъ, лежитъ недоѣденный кусокъ хлѣба, со слѣдами зубовъ…
Это что-то ужъ черезчуръ по фамильному! Даже смѣшно… Только какъ бы мнѣ отъ этого «смѣшного» не сойти съ ума!..
Свѣчи мигаютъ желтымъ пламенемъ; день. Пришелъ Сергѣй; видитъ, что я не ложился, однако, ни слова. И я молчу.
Напившись чаю, я отправился въ лѣчебницу, гдѣ содержался Петровъ. Это оказалось недалеко, на Дѣвичьемъ полѣ, въ какихъ нибудь пяти-шести минутахъ ходьбы. Хозяинъ лѣчебницы – спокойный, рыжій чухонецъ, съ блѣднымъ лицомъ, которое узкая длинная борода такъ вытягивала, что при первомъ взглядѣ на психіатра невольно являлась мысль:
– Этакая лошадь!
Очень удивился, узнавъ мое имя.
– Представьте, какъ вы кстати! Петровъ уже давно твердитъ намъ вашу фамилію и ждетъ, что вы придете.
– Слѣдовательно, вы позволите мнѣ повидать его наединѣ? – спросилъ я, крайне непріятно изумленный этимъ сообщеніемъ.
– Сколько угодно. Онъ изъ меланхоликовъ; смирный. Только врядъ-ли вы разговоритесь съ нимъ.
– Онъ такъ плохъ?
– Безнадеженъ. У него прогрессивный параличъ. Сейчасъ онъ въ періодѣ «маніи преслѣдованія» и всякую рѣчь сворачиваетъ на свои навязчивыя идеи. Путаница, въ которой, какъ сказалъ бы Полоній, есть однако же что-то систематическое.
Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, съ стѣнами, крашеными въ голубой цвѣтъ надъ коричневой панелью, была – какъ рама къ огромному, почти во всю вышину комнаты отъ пола до потолка, окну; на подоконникъ были вдвинуты старинныя кресла-розвальни, a въ креслахъ лежалъ неподвижный узелъ коричневаго тряпья. Этотъ узелъ былъ Петровъ. Я приблизился къ нему, превозмогая трусливое замираніе сердца. Онъ медленно повернулъ ко мнѣ желтое лицо – точно слѣпленное изъ цѣлой системы отечныхъ мѣшковъ: подъ глазами на скулахъ, на вискахъ и выпуклостяхъ лба – всюду обрюзглости, тѣмъ болѣе непріятныя на видъ, что тамъ, гдѣ мѣшковъ не было, лицо казалось очень худымъ, кожа липла къ костямъ.