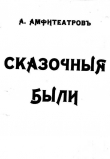Текст книги "Грезы и тени"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
ИЗЪ КАВКАЗСКИХЪ НАБРОСКОВЪ
АРИМАНЪ
Усталые, продрогшіе, брели мы, злополучные туробойцы, по гребню Куросцери – самому проклятому гребню на всемъ Кавказѣ! Снизу, отъ станціи Казбекъ, онъ представляется чѣмъ-то въ родѣ зубчиковъ валансьенскаго кружева, но въ дѣйствительности отъ зубчиковъ-то этихъ и горе. О, Боже мой! Во сколько балокъ пришлось намъ нырнуть! на сколько обрывовъ вскарабкаться! Влѣво отъ насъ была пропасть, вправо – минуя гордую, обвѣянную вѣтрами, каменистую гряду – тянулась снѣжная равнина, еще недавнее пастбище туровъ; теперь имъ не подъ силу стало пробивать копытами крѣпкій настъ, и умные звѣри перекочевали… куда? – Богъ ихъ знаетъ! По крайней мѣрѣ, напрасно проблуждавъ по вершинѣ Куросцери двое сутокъ, мы возвращались, какъ горе-охотники, не видавъ ни шерсти, ни пера.
Свечерѣло. Небесная синева зажглась звѣздами – такими крупными, яркими и близкими, что казалось: вотъ-вотъ еще саженей пятьдесятъ подъема, и мы будемъ уже въ царствѣ звѣздъ. Бѣлая папаха Казбека мерцала тѣмъ таинственнымъ самосвѣтомъ, понятіе о которомъ могутъ составить лишь тѣ, кому случалось наблюдать снѣговыя вершины въ безлунную, но сильно звѣздную ночь. Внизу, подъ туманами, неистовствовали, какъ двѣ озлившихся шавки, Куро и Каташуа – отецъ и мать знаменитой Бѣшеной балки. Имъ въ отвѣтъ глухо рычалъ изъ неизмѣримой глубины Терекъ.
Намъ было очень невесело, особенно, когда случалось переходить горные ручьи. Встрѣчный вѣтеръ, и безъ того уже леденившій наши кости, швырялъ намъ тогда въ лица водяную пыль, коловшую насъ, точно иглами. У меня растрескались губы, болѣли глаза. Было невозможно перекинуться словомъ съ товарищами-грузинами изъ Казбека: вѣтромъ захватывало дыханіе. Онъ вылъ, свисталъ, гайгайкалъ, мяукалъ, домоваго хоронилъ и вѣдьму выдавалъ замужъ… О, кой чортъ понесъ меня на эту галеру!
Была бутылка коньяку – роспили. Начать другую, захваченную про запасъ, не далъ вожатый нашей компаніи Сюмонъ A – дзе, истинный оракулъ горныхъ экспедицій, малый умный и толковый, наметавшійся въ обращеніи съ русскими и даже не безъ нѣкотораго образованія:
– Не пейте: до сакли недалеко. Выпьемъ, что останется, когда придемъ въ тепло. Вина не найдемъ: хозяинъ – бѣдный осетинъ. А, когда попадемъ въ тепло, нельзя не выпить: иначе привяжется лихорадка, будутъ болѣть руки и ноги, кости ломить…
Досаднѣе всего было сознаніе, что аулъ Казбекъ лежалъ какъ разъ подъ нами. Если бы не тучи да туманъ, мы видѣли бы его огни. Если бы не вѣтеръ, да не ревъ потоковъ, мы, вѣроятно, слышали бы звяканье бубенчиковъ и стукъ колесъ по военно-грузинскому шоссе. Но короткая тропинка съ Куросцери къ Казбеку была съ третьяго дня испорчена нашею же неосторожностью [1]1
Этотъ случай разсказанъ мною въ очеркѣ «Между жизнью и смертью» (см. книгу «Сонъ и Явь»).
[Закрыть], и теперь намъ приходилось дѣлать обходъ верстъ въ десять по дебрямъ и кручамъ – чуть не къ самому Дарьяльскому посту.
Какъ мы добрели къ обѣщанному Сюмономъ ночлегу, ужъ и не знаю. Помню только, что отъ устали ни ѣсть не могли, ни сонъ не бралъ. Въ саклѣ осетина было бѣдно, грязно, душно, тѣсно, но – все же тепло и не подъ открытымъ небомъ. Ночь давно померкла; небо заплыло тучами; вѣтеръ выросъ въ бурю; первобытно свалянныя на авось и небось стѣны сакли дрожмя дрожали подъ его бѣшенымъ напоромъ.
Наша хозяйка – молодая, но совершенно истощенная работой, лихорадкой и безкормицей женщина – укачивала дочку, самую чахлую и крикливую дѣвчонку изъ всѣхъ ребятъ Большаго и Малаго Кавказа. Мелодія ея колыбельной пѣсни была заунывна и однообразна, a слова – странны дикою загадочностью. Они походили на заклинанія. Мать не то благословляла свое дитя, не то ворожила надъ нимъ. Сюмонъ, какъ умѣлъ, перевелъ мнѣ этотъ оригинальный текстъ, a я впослѣдствіи – тоже, какъ умѣлъ – попробовалъ переложить его стихами.
Спи, красавица моя,
Будь счастливою всегда
За тебя – пророкъ Илья
И падучая звѣзда.
Палъ надъ Терекомъ туманъ,
Подъ скалою сверчокъ запѣлъ…
На Казбекѣ Ариманъ
Снѣжной бурей зашумѣлъ.
Небесамъ грозитъ войной
Гордый ада исполинъ:
Вамъ тягаться ли со мной?
Я вселенной властелинъ!
Но за дерзостную рѣчь
Воздадутъ ему свое
Михаила грозный мечъ
И Георгія копье!
И погибнетъ сила зла,
И – улыбкою горя —
Благотворна и свѣтла.
Встанетъ красная заря.
Спи, красавица моя,
Будь счастливою всегда!
За тебя – пророкъ Илья,
И падучая звѣзда.
Что осетинка поминала въ своей пѣснѣ св. Илью, Георгія Побѣдоносца и архангела Михаила, удивляться нечего. Религія осетинъ, даже опредѣленно настаивающихъ на своемъ магометанствѣ или христіанствѣ, поражаетъ путанностью вѣрованій и понятій. Магометане чтутъ многихъ христіанскихъ святыхъ; христіане не прочь послушать наставленіе изъ корана; тѣ и другіе съ полной искренностью продѣлываютъ многіе обряды совершенно языческаго характера, идолопоклонствуя, когда того требуетъ обычай, съ рѣдкою наивностью. Св. Илья – молніеносецъ и громовникъ – почитается одинаково всѣми осетинами… Но причемъ же «падучая звѣзда»? Я спросилъ Сюмона. Онъ отвѣчалъ:
– О! падучая звѣзда великая сила. Она мечъ Божій. Когда она сверкаетъ на небѣ, нечистая сила отступается отъ человѣка, теряя надъ нимъ всякую власть. Она глупѣетъ, смущается, изъ шакала обращается въ ишака. Слыхалъ ли ты про Аримана – великаго падишаха джинновъ, что «вѣкуетъ» свою проклятую жизнь въ изгнаніи на Шатъ-горѣ?
– Слыхалъ что-то…
– Онъ огромный, бѣлый, весь въ сѣдой шерсти отъ старости; глаза – красные, какъ огонь, и весь онъ опутанъ золотыми цѣпями. Сидитъ Ариманъ въ хрустальномъ дворцѣ между вѣрными джиннами и не смѣетъ двинуться съ мѣста. И всѣ они – какъ невольники. Тяжко имъ. Тоскуютъ джинны, бранятся, плачутъ, молятъ своего падишаха:
– Разбей свои цѣпи! освободи и насъ, и себя! Отмсти и властвуй!
Но онъ молчитъ. Онъ умную голову имѣетъ: зачѣмъ ему плакать? Онъ мужчина. Зачѣмъ ему говорить пустыя слова? Онъ знаетъ, что судьбы не измѣнить. Посаженъ онъ на цѣпь до конца свѣта. – такъ тому и быть.
Но по осени, когда ледники дохнутъ холодомъ въ долины, падишахъ джинновъ получаетъ свободу на три часа каждую ночь – отъ пѣтуха до пѣтуха. Срывается нечистая сила съ цѣпей. Съ громомъ и воплемъ поднимается на воздухъ бѣлый старикъ, a за нимъ летитъ вся его злая челядь.
Что тогда бѣды въ горахъ! Дунетъ Ариманъ на рѣчку – вздуется рѣчка, балки заливаетъ, баранту топитъ, дороги размываетъ. Схватится за гору – уже грохочетъ обвалъ, рушатся вѣковыя скалы, хороня подъ своими громадами сакли и людей. Махнетъ рукой – и засыплетъ снѣгомъ запоздалый караванъ въ ущельи. Летитъ шайтанъ, вѣтеръ обгоняетъ и самъ своей злобѣ радуется:
– Чую прежнюю силу! еще поборемся!
– Поборемся! воетъ въ отвѣтъ властелину страшная свита, ажъ гулъ идетъ по горамъ, и Терекъ вдвое громче реветъ отъ страха. Вотъ уже и Дарьялъ миновали, вотъ уже и Казбекъ недалеко…
Казбекъ – великая гора; на ней добрые ангелы живутъ. Старые люди сказываютъ, будто на шатрѣ Казбека, тамъ, гдѣ нѣтъ уже ни камня, ни снѣга, a одинъ только чистый ледъ, есть церковь. Не Мта-Стефанъ-Цминда – другая. Ее нельзя видѣть простому человѣку, лишь праведникъ – можетъ быть, одинъ во сто лѣтъ – находитъ къ ней дорогу и доступъ. Ничего внутри той церкви нѣту. Только люлька виситъ, въ люлькѣ лежитъ невѣдомый прекрасный младенецъ, a надъ нимъ, какъ вѣрный сторожъ, сидитъ на шесткѣ голубь – живой, но весь, перышко къ перышку, изъ червоннаго золота.
Затѣмъ и летитъ на Казбекъ нечистая сила, чтобы захватить младенца и уничтожить голубя. Потому что, если бы это случилось, наступила бы власть джинновъ на землѣ, и былъ бы конецъ міру.
Налетитъ дьявольская орда на церковь, шаркаетъ крылами по стѣнамъ, зубами и когтями скрежещетъ, въ окна и двери ломится… вотъ-вотъ уже y колыбели, вотъ и лапы протянула…
Но встрепенется голубь, распуститъ надъ младенцемъ золотыя крылья – и посыпятся съ неба падучія звѣзды и попалятъ злого Аримана съ его неистовымъ воинствомъ. Худо имъ! – бѣгутъ, охаютъ, проклинаютъ, пощады просятъ… A звѣзды все падаютъ и падаютъ, пока не загонятъ падишаха въ его заоблачный хрустальный дворецъ, пока – сами собою – не надѣнутся на него вѣковѣчныя золотыя оковы.
И такъ-то каждый вечеръ во всю позднюю осень и зиму, вплоть до самаго Рождества, бушуетъ нечистая сила; каждый вечеръ мчится она въ вихрѣ и вьюгахъ войною на Казбекъ, и каждый вечеръ гонятъ ее чрезъ Дарьялъ на Эльбрусъ святыя звѣзды.
A таинственный младенецъ въ люлькѣ все спитъ, не просыпаясъ. Только три раза въ годъ – въ полночь подъ Рождество, подъ Крещенье и въ Свѣтлую ночь онъ пробуждается. Едва онъ откроетъ свѣтлые глазки, спускается съ неба цѣпь изъ самоцвѣтныхъ камней и ложится по воздуху между незримой церковью и соборомъ въ древней столицѣ Грузіи, въ Мцхетѣ. И поднимаются по той цѣпи въ незримую церковь избранные Богомъ мцхетскіе священнослужители, повинуясь зову невѣдомаго голоса. Ангелы хранятъ ихъ путь и не даютъ имъ упасть или оступиться. Придутъ, поклонятся младенцу и его голубю, споютъ имъ божественныя службы, a къ разсвѣту возвращаются домой такъ же чудесно, какъ ушли. И, пока творятся эти непостижимыя тайны, пока свершаетъ свое теченіе великая ночь, молчатъ на свѣтѣ всякій грѣхъ и злоба: на землѣ миръ и въ человѣкахъ благоволеніе.
СІОНЪ
Большая сѣрая деревушка высоко взмостилась по желтой горѣ, – одной изъ самыхъ красивыхъ, по изящнымъ очертаніямъ вершины, на всемъ протяженіи военно-грузинской дороги. Эту гору точно не земля родила, a люди для забавы обтесали въ стройный кіоскъ – легкій и воздушный, даромъ что облака ходятъ по его вершинѣ, и надо сутки убить, чтобы обойти кругомъ его подошву. Въ бокахъ кіоска, высоко надъ деревушкою, чернѣють пещеры, остатки древнихъ каменоломенъ. Изъ сіонскаго камня построены почти всѣ церкви между Млетами и Владикавказомъ; еще при царицѣ Тамарѣ, – этой грузинской Семирамидѣ (XI вѣкъ), – брали здѣсь камень. Есть на Казбекѣ Стефанъ-Цминда – та самая заоблачная келья, о которой мечталъ Пушкинъ, и y стѣнъ которой похоронилъ свою Тамару Лермонтовъ. Построилъ ее богатырь-разбойникъ съ Сіонской горы. За восемь верстъ отъ Казбека ломалъ онъ камень и носилъ на плечахъ на заоблачную вышку, нечеловѣческимъ трудомъ искупая свое кровавое прошлое. Долго это дѣло дѣлалось; по одному камню въ день едва одолѣвалъ грѣшникъ, при всей своей богатырской силѣ! Наконецъ, стала изъ того камня на Казбекѣ церковь, простились разбойнику его грѣхи, и онъ умеръ въ мирѣ съ людьми и Богомъ. Такъ разсказываютъ въ аулахъ Сіона и Казбека. Въ настоящее время пещеры каменоломенъ служатъ хлѣвами для баранты. Въ одну изъ нихъ входить тысяча восемьсотъ барановъ; другія менѣе уемисты.
Я приближался къ Сіону пѣшій. Время было полуденное. Въ горахъ шла косьба; аулы стояли пустые, точно мертвые. Великанъ-овчарка, единственный стражъ покинутаго жителями селенія, уныло бродила по ввѣренному ей району; я издали видѣлъ, какъ она перепрыгивала, по плоскимъ крышамъ саклей, съ улицы на улицу или, вѣрнѣе сказать, съ одного яруса Сіона въ другой. Она почуяла меня по вѣтру, бросилась мнѣ на встрѣчу, стала на границѣ своихъ владѣній и зарычала, щетиня бѣлую шерсть. Пройти, значитъ, нельзя. Горныя овчарки имѣютъ характеръ серьезный. Еще вопросъ, съ кѣмъ опаснѣе схватиться – съ мелкимъ ли казбекскимъ медвѣдемъ, увальнемъ и порядочнымъ трусомъ, или съ грузинскою овчаркой – могучей, быстрой, безстрашной. Въ Коби овчарки, среди бѣлаго дня, трепали меня не на животъ, a на смерть; напрасно рубилъ я ихъ своей тяжелой дорожной дубинкой съ желѣзнымъ топорикомъ, вмѣсто набалдашника, – проклятыя только больше свирѣпѣли; не помогъ и револьверъ… Если бы на мои выстрѣлы не прибѣжали пастухи, хозяева овчарокъ, мнѣ не уйти бы живому. A и стрѣлять то опасно: горцы своими собаками дорожатъ, какъ родными дѣтьми, и за убитаго пса легко поплатиться, если не жизнью, то увѣчьемъ.
Въ виду такого опыта, я философически усѣлся на камень, саженяхъ въ пяти отъ овчарки, распаковалъ свой дорожный ранецъ и принялся завтракать, a овчарка не менѣе философически улеглась на солнечномъ припекѣ, не спуская съ меня внимательныхъ глазъ. Горцы собакъ совсѣмъ не кормятъ: чѣмъ кормить? самимъ ѣсть нечего! Тѣмъ не менѣе, отъ чужого человѣка вѣрные звѣри ни за что не возьмутъ пищи. Отчего? – принципъ ли y нихъ такой собачій или по многократному опыту псовъ-сродичей и знакомцевъ – они боятся отравленія, – кто ихъ знаетъ. Я пробовалъ бросать своему стражу кусочки холоднаго ростбифа, но стражъ только косилъ на нихъ налитыми кровью глазами и рычалъ – и гнѣвно, и жалобно вмѣстѣ. Должно быть, въ эти минуты искушенія онъ глубоко меня ненавидѣлъ.
Подошли сіонцы – косцы съ горы Ахалциха – и освободили меня изъ подъ караула. Овчарка мгновенно превратилась изъ врага въ друга, завертѣла хвостомъ и съ голоднымъ проворствомъ подобрала разбросанную мною говядину.
Сіонъ – селеніе священное; его чтутъ и мусульмане. Его церковь – какъ бы отдѣленіе тифлисскаго Сіонскаго собора, этой «Божьей крѣпости», твердыни христіанства въ Закавказьи. Церковь хевскаго Сіона, говорятъ, построена еще царицей Тамарой. Впрочемъ, здѣсь всякое зданіе, если ему за сотню лѣтъ, ложится на совѣсть этой многотерпѣливой Тамары. Въ церкви бѣдно и скромно. Показали мнѣ два-три складня старинной чеканки, древній серебряный крестъ и паникадила, пожертвованныя однимъ изъ второстепенныхъ героевъ послѣдней турецкой войны, – и все тутъ. Въ древностяхъ я ничего не понимаю, паникадила плохи, a архитектура церкви ничѣмъ не отличается отъ архитектуры другихъ грузинскихъ церквей; всѣ онѣ – на одинъ ладъ, всѣ – кубышками, и красивы бываютъ только тогда, когда онѣ громадны.
Лишь весьма большіе размѣры – какъ y храмовъ Мцхета, напримѣръ, – придаютъ имъ величіе и внушительность.
При Сіонѣ есть священная роща. Это чудесная чаща дуба, тополя, рябины, акаціи – чаща заповѣдная и запретная.
– Мы изъ этой рощи даже сучка на палку не беремъ, – объяснялъ мнѣ церковный староста, – Божья роща. A позволь отсюда дрова возить, завтра бы стало голое мѣсто. У насъ лѣса нѣтъ. Въ Капкай [2]2
Владикавказъ.
[Закрыть] за дровами ѣздимъ.
– A охотиться здѣсь позволяется?
– Какъ же нѣтъ? Безъ охоты насъ звѣрь одолѣлъ бы.
– Чекалки?
– Чекалка – какой звѣрь! У насъ большіе волки водятся. Казаки изъ форта сказываютъ, – какъ y васъ въ Россіи. На дняхъ одинъ y насъ убилъ рысь, a прошлою ночью самка подходила къ деревнѣ, кружила около баранты. Нашъ Димитри палилъ по ней, ранилъ… пошелъ теперь по крови искать слѣда… Вотъ онъ самъ идетъ…
Подошелъ Димитри – молодой стройный парень, оборванецъ съ очень недурною двухстволкою за плечами. Завязался быстрый разговоръ по грузински, да еще на горномъ нарѣчіи; я мало что понималъ.
– Нашелъ Димитри рысь, – обратился ко мнѣ староста по-русски, – сдохла. Подъ лопатку пуля пошла. Диво, какъ ушла она въ лѣсъ живая.
– У рыси шкура такая, – возразилъ Димитри: – она не даетъ крови сильно течь, затягиваетъ рану. Если рысь сразу не упала, y нея всегда хватитъ силы добраться до своего мѣста.
– Шкуру дралъ? – спросилъ староста. – Вотъ господинъ купить.
– Нѣтъ. Что драть? гнилой звѣрь. Полдня на солнцѣ пролежалъ, – никуда не годенъ. Мѣхъ – какъ пухъ – лѣзетъ и къ рукамъ пристаетъ… Батоно [3]3
Баринъ.
[Закрыть], – обратился ко мнѣ Димитри, – я и котятъ нашелъ… купи котятъ!
– Гдѣ же они?
– Въ норѣ. Вмѣстѣ брать ихъ пойдемъ.
– Много?
– Почемъ знаю? одинъ звѣрь, два звѣрь… Сколько звѣрь, столько абазъ [4]4
Двугривенный.
[Закрыть].
Отправились. Идя рощею, я удивлялся свѣжести этого заповѣднаго лѣса: тутъ бы вѣковымъ дубамъ стоять, a не молодняку.
– У насъ дерево недолго растетъ, – объяснилъ Димитри, – дереву земля нужна. У насъ земли – аршинъ внизъ, a дальше – камень. Корень найдетъ на камень и завянетъ, или прочь, на сторону, ползетъ. Встрѣтитъ другой корень: либо самъ пропадетъ, либо встрѣчное дерево засохнетъ.
Мы пришли въ глухой уголокъ. Въ носъ шибнулъ спиртуозный запахъ звѣринца. Логовище рыси помѣщалось въ углубленіи, подъ навѣсомъ мшистой сѣрой скалы. Кабы не запахъ, и не найти-бы этого жилья: такъ хорошо прикрыли его частыя вѣтки прислонившейся къ скалѣ молодой рябины. Димитри ткнулъ шомполомъ въ углубленіе. Раздалось ворчанье – гнѣвное, но пресмѣшное: какимъ-то ломаннымъ, кадетскимъ басомъ пополамъ съ хриплымъ дискантомъ. Димитри надѣлъ на руку папаху, сунулъ въ гнѣздо и быстро вытянулъ, точно рыбу на удочкѣ, маленькаго котенка, уцѣпившагося за папаху когтями. Недоумѣніе, гнѣвъ, испугъ звѣрька – не подлежатъ описанію: эту уморительную мордочку надо видѣть, чтобы постичь ее и оцѣнить… За первымъ котенкомъ тѣмъ же самымъ способомъ былъ выуженъ второй и послѣдній.
Отъ звѣрковъ я, конечно, отказался: куда мнѣ было ихъ тащить пѣшему? Но скромную цѣну ихъ я заплатилъ Димитри съ удовольствіемъ: спектакль дикихъ звѣрятъ въ родной имъ обстановкѣ, на свободѣ, стоилъ побольше двухъ двугривенныхъ.
Мы вернулись въ деревню. Димитри сѣлъ на коня и помчался въ Гудушаури:
– Тамъ бекъ живетъ, – онъ y меня моихъ звѣрятъ купитъ… A ты, прохожій, пожди, не уходи, – гость будешь. Вернусь – барана рѣзать будемъ, вина достану…
Я достаточно понаметался въ обхожденіи съ горцами, чтобы знать, что по этикету ихъ гостепріимства позволительно внести чужому человѣку въ хозяйское меню, что – нѣтъ. Поэтому въ вопросъ о баранѣ я и мѣшаться не сталъ, но, когда Димитри выѣхалъ изъ Сіона, спросилъ себѣ другую лошадь и потихоньку съѣздилъ въ духанъ, на полъ-дорогѣ отъ Казбека, откуда и привезъ бурдюкъ вина – свою долю въ предстоящемъ пиршествѣ.
Поили и кормили всю деревню, – по крайней мѣрѣ, всѣхъ, кто не заночевалъ на ахалцихской косьбѣ. Веселились и мужчины, и женщины: грузинки – a въ особенности горянки – не дики и не чуждаются мужского общества, тѣмъ болѣе, что, благодаря истинно-рыцарскимъ нравамъ патріархальныхъ горныхъ захолустій, онѣ dъ этомъ обществѣ настоящія царицы. Пали сумерки. Угасшій дневной свѣтъ мы замѣнили кострами. Духъ кизяка отравлялъ нѣсколько обоняніе, но – «маленькія непріятности не должны мѣшать большому удовольствію» – сказалъ философъ. И долго еще y красныхъ огоньковъ хлопали ладони въ тактъ лезгинкѣ – медленной горной лезгинкѣ, съ дробной выступью и бараньимъ топотомъ носковъ, долго раздавались пѣсни, похожія на завыванія, и завыванія, похожія на пѣсни. Староста и Димитри переводили мнѣ, чего я не понималъ самъ. Одна пѣсня удивила меня своей отвлеченностью. Къ сожалѣнію, я потерялъ ея дословный прозаическій переводъ, a въ стихотворномъ, который я попытался сдѣлать впослѣдствіи, въ Тифлисѣ, мнѣ пришлось все таки немножко «модернировать» подлинникъ. Тѣмъ не менѣе, я предлагаю этотъ текстъ читателю: общее понятіе объ оригинальной, въ особенности для полудикаго грузина, пѣснѣ онъ получитъ. Тема – тоска по родинѣ горца, попавшаго на югъ, въ счастливые сады Персіи:
Здѣсь звѣзды ласковыя свѣтятъ,
Не умираетъ здѣсь весна,
Здѣсь – полюби: тебѣ отвѣтятъ!
Здѣсь – царство солнца и вина!
Здѣсь блещутъ молніями очи,
Полуприкрытыя чадрой…
Здѣсь многопѣсенныя ночи
Проходятъ дивной чередой.
Но дѣвъ прекрасныхъ Гюлистана
Не веселитъ меня напѣвъ:
Мнѣ снится горный край тумана,
Потока плачъ, метели гнѣвъ…
Сквозь пѣсни юга – звуки рая —
Иныя пѣсни слышны мнѣ:
Ихъ пѣла женщина другая
Тамъ, въ этой дикой сторонѣ.
О, сколько въ нихъ тоски и муки —
Что въ чашу яду налито…
Не позабытъ мнѣ эти звуки,
Не промѣнять ихъ ни на что!..
Полночь, подсказанная появленіемъ Большой Медвѣдицы надъ предгорьемъ Казбека, развела насъ по саклямъ. Я ночевалъ y Димитри… Не спалось. Душно было и вонюче. Отъ храпа добраго десятка обитателей этого тѣснаго пріюта, можно было сойти съ ума… Я выбрался изъ сакли и до разсвѣта просидѣлъ на крышѣ сакли, начинавшейся ярусомъ ниже, почти отъ самаго нашего порога, выжидая, когда позолотятся гребни убѣгающихъ вдаль отъ Сіона хребтовъ. Верхушка Сіона стала розовая… Утро пришло въ горы. Оселъ гдѣ-то далеко, въ ущельи, привѣтствовалъ новорожденный день оглушительнымъ крикомъ…
Часомъ позже, я – освѣженный послѣ безсонной ночи и вчерашней пирушки мискою мацони (кислое молоко) – уже бодро шагалъ въ Коби. Солнце пекло, кузнечики трещали. Вѣтеръ изъ ущелій дулъ порывистый, но теплый: точно неуклюжая ласка слишкомъ сильнаго человѣка. Впереди грозно хмурились подъ шапками сизыхъ тучъ горы Цихэ, какъ зовутъ ихъ грузины: башни-горы Главнаго хребта… Весело и хорошо становилось. Въ душу просился восторгъ, умъ охватывало очарованіе пустыни – то настроеніе, какимъ полонъ былъ поэтъ-странникъ, когда хотѣлось ему благословить отъ полноты сердечной:
И одинокую тропинку,
По коей нищій я бреду,
И въ полѣ каждую былинку,
И въ небѣ каждую звѣзду!..