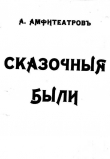Текст книги "Грезы и тени"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
ЗОЛОТАЯ ПЛАНЕТА
Легенда острова Корфу
«Мы были вдвоемъ на пустынной скалѣ, оторванной подземнымъ огнемъ отъ острова чудной и дикой красоты и одиноко брошенной въ глубокое море.
„Солнце тонуло въ западныхъ водахъ, a наростающій полумѣсяцъ уже стоялъ въ небѣ бѣлымъ пятномъ, готовый загорѣться, едва послѣдній красный лучъ сбѣжитъ съ лысыхъ вершинъ за проливомъ, едва померкнетъ морская даль, окрашенная золотомъ и кровью.
„И солнце утонуло, и синяя ночь вышла, на смѣну ему, изъ прохладнаго воднаго царства. Мертвый мѣсяцъ ожилъ, и длинный золотой столбъ закачался въ спокойныхъ водахъ; дрожа и сверкая, тянулся онъ отъ нашей скалы… Казалось – то былъ таинственный путь, по которому мертвые идутъ съ земли въ обитель блаженства. Я смотрѣла въ далекій блѣдный туманъ и искала вереницу бѣлыхъ тѣней, – какъ невѣрно ступаютъ онѣ, слѣпыя, по огненной влагѣ, робко держась другъ за друга, покорныя зову путеводителя душъ. И парусъ, застывшій чернымъ пятномъ на золотѣ моря, не служилъ ли ладьѣ, гдѣ спокойно дремлетъ старыя Харонъ, ожидая, пока до бортовъ уйдетъ въ воду ветшающій челнъ подъ грузомъ незримыхъ сѣдоковъ, пока голосъ тѣни-водящаго бога не прикажетъ ему взять въ мозолистыя руки тяжелыя весла?
«Мы были вдвоемъ – я и Онъ… Какъ всегда, я не видала Его; какъ всегда, Онъ только дышалъ прохладой надъ моими плечами. Но я знала, что Онъ со мною – свѣтлый, какъ бѣлое облако, прозрачный, какъ пламя, зыбкій, какъ туманъ. И былъ Онъ, какъ всегда, задумчивъ и тихъ, могучъ и великъ, и я, какъ всегда, не знала, кто Онъ: демонъ ли, раскаявшійся въ своемъ паденіи? Ангелъ ли, усумнившійся въ своемъ совершенствѣ?
„Его узкая рука холоднымъ мраморомъ лежала на моемъ плечѣ, и – пока шептало засыпавшее море – шепталъ надъ моимъ ухомъ и Его грустный, размѣренный голосъ.
„Смотри въ небеса – найди, гдѣ трепещетъ зеленою искрою мечъ Оріона. Тамъ, въ этотъ часъ, проплывала когда-то планета; она отгорѣла, и осколки ея, расточенные въ мірѣ, время давно уже перемололо въ незримую пыль.
«Какъ прекрасна была она! Люди были на ней – какъ тѣ свѣтлые боги, которыхъ воплощать въ бѣломъ мраморѣ научили васъ творческіе сны.
„О какъ мудры, какъ кротки были они! Тамъ; да, тамъ былъ свѣтлый Эдемъ, возвѣщенный вамъ, людямъ, вдохновенными учителями правды.
„Они были вѣчны. Не знали они ни смерти, ни злобы, ни горя, ни стыда. Тамъ не было женъ и мужей – были только братья и сестры.
«Духъ гнѣва и мести на черныхъ крылахъ поднялся къ блаженной золотой планетѣ. Вражда и зависть къ добру увлекали его. Онъ летѣлъ, чтобы воевать и разрушать. Но ни меча, ни копья, ни громовъ, ни огненной лавы не несъ онъ съ собою. Его оружіе было въ немъ самомъ, – въ одномъ короткомъ словѣ, сильномъ, какъ смерть, коварномъ, какъ змѣй-искуситель…
„Это слово было – любовь.
„Онъ подкрался къ спящему юношѣ и шепнулъ ему на ухо роковое слово и послалъ ему сны, полные сладкой отравы.
«Онъ подкрался къ спящей красавицѣ и отравилъ ея грезы словами и видѣніями любви.
„Когда на завтра пробудились оба, новыми глазами взглянули они на міръ – и новыя мысли, новыя чувства охватили обоихъ.
„Они полюбили другъ друга… «Съ хохотомъ улетѣлъ черный духъ съ блаженной Планеты – и тысячи лѣтъ кружилась она, нося въ себѣ ядъ любви…
„И снова посѣтилъ сатана отравленный міръ. Какъ воръ, крался онъ въ первый разъ по блаженной планетѣ. Какъ царь, онъ вошелъ въ нее теперь и сѣлъ на тронѣ могилъ и надгробныхъ памятниковъ. Потому что любовь – сильная, какъ смерть – и привела съ собою смерть.
„Люди планеты лишились блага вѣчной жизни. Они стали рождать – и умирать. Срокъ ихъ жизни сокращался изъ вѣка въ вѣкъ. Они мельчали ростомъ и силою. Они узнали золото, роскошь, войны, хитрыя измѣны – все зло, какимъ впоследствіи проклялъ Господь и нашу землю, когда осудилъ Адама и Еву.
«Людей стало много – такъ много, что природа планеты, которая была имъ матерью и кормилицей, уже не могла поддерживать ихъ своими простыми средствами. Люди стали насиловать природу, придумали способы истощать ее, сдѣлались ея врагами, воевали съ нею всю жизнь, – и сами истощались въ этой борьбѣ, жизнь, ихъ сгорала, какъ свѣча, зажженная съ двухъ концовъ. Долголѣтіе стало чудомъ. Шестидесятилѣтній старецъ былъ предметомъ зависти и удивленія.
„Чѣмъ больше сокращались сроки, жизни и силы людей, тѣмъ больше одолѣвалъ ихъ врагъ – природа. A она становилась все грознѣе и грознѣе, потому что планета старѣла, охлаждался согрѣвавшій ее огонь, и путь ея отклонился отъ солнца.
„Отъ полюсовъ поползли туманы, снѣга и льды. Они ползли неудержимо, и люди бѣжали отъ нихъ, сталкивались, воевали за лучшія мѣста… Лилась кровь; все было полно ненавистью, родившеюся изъ любви.
«Прошли тысячелѣтія. Сатана снова посѣтилъ отравленный міръ. Тамъ, гдѣ раньше росли пальмы, онъ увидалъ чахлый можжевельникъ.
„Онъ искалъ людей – и нашелъ кучку большеголовыхъ карликовъ, зашитыхъ въ заячьи шкуры, которые старались развести костеръ, чтобы согрѣть своихъ карлицъ, похожихъ на обезьянъ. Но отрава любви жила и въ этомъ жалкомъ племени – они влюблялись, терзались: сходили съ ума, ловили мигъ обладанія, ревновали, дрались и умирали за любовь… все, все, какъ и въ тѣ дни, когда люди были прекрасны и сильны: a небо сине, a солнце свѣтло и жарко!
„А льды все ползли и ползли съ сѣвера и съ юга по застылой планетѣ. И вотъ, они встрѣтились и на планетѣ не стало ничего, кромѣ льда. «Планета умерла. „Долго, долго носилась она, какъ огромный алмазъ, въ нѣмомъ пространствѣ, пока не наткнулась на нее заблудившаяся комета и не разбила ее въ брилліантовый градъ… Куски ея брызнули во всѣ концы вселенной. Нѣтъ планеты, которая бы не приняла хоть частицу погибшаго міра.
„Но больше всѣхъ, дитя мое, приняла ихъ земля.
«Ты слышишь ли эти пѣсни? чувствуешь ли этотъ воздухъ, напоенный любовью? О, дитя мое! Этотъ островъ, это море, берега, что виднѣются за моремъ, – все это упало съ неба ледянымъ кускомъ въ тотъ день, когда разрушилась отравленная любовью планета. Ледъ растаялъ – и кусокъ, полный яда, разлилъ свою отраву по землѣ…
„Дитя мое! Мы – въ родинѣ любви… Бѣги же отъ нея! Спасайся! Потому что нѣтъ въ мірѣ зла и несчастія большаго любви!
„Я спросила:
– Учитель, кто ты, знающій такія тайны?.. почему я должна вѣрить тебѣ?“
Онъ отвѣчалъ:
– Я тотъ, кто первый услыхалъ слово любви на умершей планетѣ, я тотъ, кто первый на ней полюбилъ и сталъ любимымъ, первый, кто отравился самъ любовью и отравилъ ею свой народъ…
„И онъ плакалъ, и ломалъ руки, и стоналъ:
– Не люби! Не люби!“
А ночь уже бѣлѣла, и розовыя пятна блуждали на восточныхъ водахъ“…
СТАТУЯ СНА
… Славно пообѣдали мы y Матрены Медичи, какъ прозываетъ мой пріятель, беллетристъ Утѣховъ, Матрену Игнатьевну Баранкину – милѣйшую изъ всѣхъ покровительницъ искусства и литературы, порожденныхъ новою купеческой Москвой. Баба богатѣйшая и добрѣйшей души, но – какъ водится – не разберешь: не то ужъ мочи нѣтъ интеллигентна, не то съ придурью. Главная ея слабость – извѣстности. Стоитъ появиться на московскомъ горизонтѣ какому-нибудь метеору, – безразлично, будь это артистъ, художникъ, литераторъ, ученый, путешественникъ, – Матрена Медичи вцѣпляется въ него, какъ клещъ, и не успокоится до тѣхъ поръ, пока не покажетъ его почтеннѣйшей публикѣ y себя на обѣдѣ или званомъ вечерѣ. Въ обычное время и съ обычными людьми Матрена Игнатьевна – кремешокъ; въ ея милліонахъ всякая копейка счетъ знаетъ и рубль бережетъ. Но блескъ свѣтилъ общества дѣлаетъ ее совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Тогда она – верхъ уступчивости, участія, щедрости: «грабь – не хочу!» По манію свѣтила, она жертвуетъ тысячи на благотворительныя учрежденія, основываетъ школы и больницы, назначаетъ пенсіи, и, хотя потомъ и кряхтитъ, но – купеческое слово твердо: уплачиваетъ обѣщанное въ аккуратнѣйшемъ и точнѣйшемъ порядкѣ.
Въ настоящее время Матренѣ Игнатьевнѣ, повидимому, предстоитъ раскошелиться на экспедицію въ дебри Тибета или еще къ какому-нибудь азіатскому чорту на кулички. Въ ея воображеніи царитъ сейчасъ графъ де-Рива – всесвѣтный бродяга, свалившійся невѣсть откуда, точно съ облаковъ, въ нашу московскую тишь и гладь. Какого онъ происхожденія, – не знаю: говоритъ одинаково хорошо на всѣхъ европейскихъ языкахъ, даже на русскомъ. Гдѣ онъ раздобылся графскимъ титуломъ, – тоже тайна. Красивъ очень, a благородство манеръ заставляетъ невольно сомнѣваться: ужъ не шулеръ ли онъ? Ради этого де-Рива и устроенъ былъ вчерашній обѣдъ.
Ѣли-ѣли, пили-пили, врали-врали. Говорили спичи. Де-Рива разсказывалъ что-то объ Южной Америкѣ; сочинялъ или нѣтъ, – кто его разберетъ? Южная Америка далеко. Но имена и мѣстности называлъ все такія, что непривычный человѣкъ непремѣнно долженъ сломать на нихъ языкъ. A послѣ обѣда мы, всей компаніей, разсѣлись въ кабинетѣ покойнаго мужа Матрены Игнатьевны и весьма пріятно провели часокъ – другой за превосходнымъ кофе и еще лучшими ликерами.
Въ разговорѣ, проскользнуло имя покойной Блаватской. Зашла рѣчь и разоблаченіяхъ ея тайнъ Всеволодомъ Соловьевымъ. Де-Рива зналъ Блаватскую лично.
– Она была великою фокусницею, сказалъ онъ, – но весьма пріятною женщиной. Я предпочиталъ ея общество всякому другому. Зная мое отвращеніе къ сверхъестественному, она – для меня – снимала свою теософическую оболочку и являлась такою, какъ была въ дѣйствительности: живою, начитанной, много видѣвшей на своемъ вѣку собесѣдницей, съ острымъ и весьма наблюдательнымъ умомъ.
– Неужели, графъ, она такъ-таки ни разу и не показала вамъ чорта въ баночкѣ?
– Нѣтъ. То есть, сперва то она, конечно, пробовала морочить меня своими феноменами: ну, знаете, незримые звоны эти, таинственное перемѣщеніе вещицъ изъ комнаты въ комнату… Но я самъ бывалъ въ передѣлкахъ y индѣйскихъ факировъ и, имѣя въ распоряженіи извѣстные аппараты, берусь продѣлывать чертовскіе фокусы ничуть не хуже, а, можетъ быть, и лучше почтенной Елены Петровны. Все это я ей высказалъ – для большей убѣдительности – на таинственномъ жаргонѣ, условномъ patois, которому обучили меня цейлонскіе буддисты. Блаватская разсердилась, но съ тѣхъ поръ между нами и помина не было о чудесахъ и дьявольщинѣ.
– И никогда ничто не заставляло васъ сомнѣваться въ дѣйствительности, трепетать, бояться?
– Напротивъ, очень часто, и очень многое. Вотъ, напримѣръ, когда, въ верховьяхъ Нила, раненый бегемотъ опрокинулъ нашу лодку. Я нырнулъ и соображалъ подъ водою: вотъ ужъ y меня не хватаетъ дыханія… пора вынырнуть… и – ну, какъ я вынырну прямо подъ эту безобразную тушу?!
– Еще бы! Это страхъ понятный… Мы васъ совсѣмъ о другомъ спрашиваемъ…
– Нѣтъ: я матеріалистъ. Чудесъ не бываетъ.
Графъ немного задумался и потомъ продолжалъ съ прежнею живостью.
– Вѣдь все зависитъ отъ настроенія. Черти, призраки, таинственные звуки – не внѣ насъ; они сидятъ въ самомъ человѣкѣ, въ его гордой охотѣ считать себя выше природы, своей матери, какъ дѣти вообще любятъ воображать себя умнѣе родителей. Это одинаково y всѣхъ народовъ, во всѣ вѣка. Для меня не велика разница между Аполлоніемъ Тіанскимъ и Блаватскою – съ одной стороны, и между ними обоими и какимъ-нибудь сибирскимъ шаманомъ или индійскимъ колдуномъ – съ другой…
– Вотъ еще! Аполлоній Тіанскій вѣрилъ въ свое сверхъестественное могущество, a колдуны – завѣдомые плуты, сознательные обманщики.
– Этого я не скажу. Хорошій колдунъ непремѣнно человѣкъ убѣжденія, самообмана, но убѣжденія. Это такое же правило, какъ и то, что безхарактерный человѣкъ не можетъ быть гипнотизеромъ, зато самъ легко поддается гипнозу… Колдовство – палка о двухъ концахъ: оно и внушеніе, и самовнушеніе. Я видѣлъ заклинателя-негра; онъ изъ чернаго дѣлался пепельнымъ отъ ужаса предъ водяными дьяволами, которыхъ онъ вызывалъ изъ ніагарскихъ пучинъ. О! самовнушеніе – великое несчастіе человѣческаго ума. Я самъ, на зло моей прозаической разсудочности, чуть-чуть было не поддался ему однажды.
– И были испуганы небывалымъ?
– Нѣтъ, только растроганъ тѣмъ, чего не было, но… хотѣлось, чтобы было. Этотъ случай я, пожалуй, вамъ разскажу.
Всѣмъ городамъ сѣверной Италіи я предпочитаю нелюбимую туристами Геную. Можетъ быть, потому, что это – немножко моя родина: я имѣю въ Генуѣ множество друзей и знакомыхъ, кузеновъ и кузинъ. Кто читалъ о Генуѣ, тотъ, я полагаю, знаетъ и о Стальено – этомъ кладбищѣ-музеѣ, гдѣ каждыя новыя похороны – предлогъ для сооруженія статуй и саркофаговъ дивной красоты. Когда я бываю въ Генуѣ, то гуляю въ Стальено каждый день. Это, кстати, и для здоровья очень полезно. Вѣдь Стальено – земной рай. Вообразите холмъ, оплетенный мраморнымъ кружевомъ и огороженный зелеными горами, курчавыми снизу до верха, отъ сѣдой ленты шумнаго Бизаньо до синихъ, полныхъ тихаго свѣта небесъ… Вотъ вамъ Стальено. Я не совсѣмъ итальянецъ, но имѣю слабость считать себя итальянцемъ, a на Стальено сложено въ землю много славныхъ итальянскихъ костей, и я люблю иногда пофилософствовать, въ родѣ Гамлета, надъ ихъ саркофагами. Вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, я усѣлся подъ кипарисами y египетскаго храма, гдѣ спитъ нашъ великій Мадзини, да и замечтался; a замечтавшись, заснулъ. Просыпаюсь: темно. Гдѣ я? что я? Вижу кипарисы, вижу силуэты монументовъ, – постичь не могу: какъ это случилось, что я заснулъ на стальенскомъ холмѣ?.. Да еще гдѣ! – на самой вышкѣ: въ потемкахъ оттуда спускаться – значитъ, навѣрняка сломать себѣ шею; лѣстницы крутыя, дорожки узенькія; ступилъ мимо – и лети съ террасы на террасу, какъ резиновый мячъ… Стальено запирается въ шесть часовъ вечера; я зажегъ спичку, взглянулъ на часы: четверть девятаго… Слѣдовательно я проспалъ часа три, если не больше.
Тишь была, въ полномъ смыслѣ слова, мертвая. Только Бизаньо издалека громыхаетъ волнами, и скрежещутъ увлекаемые теченіемъ камни: въ то время было половодье… Внизу, какъ блуждающій огонекъ, двигалась тускло свѣтящаяся точка: дежурный сторожъ обходилъ дозоромъ нижнія галлереи кладбища. Пока я раздумывалъ: позвать его къ себѣ на выручку или нѣтъ, тусклая точка исчезла: дозорный отбылъ свой срокъ и по шелъ на покой… Я былъ отчасти радъ этому: спуститься съ вышки, когда взойдетъ луна, – a въ то время наступало уже полнолуніе, – я и самъ съумѣю; a все-таки будетъ меньше однимъ свидѣтелемъ, что графъ Де-Рива неизвѣстно какъ, зачѣмъ и почему бродитъ по кладбищу въ неурочное время… Генуэзцы самые болтливые сплетники въ Италіи, и я вполнѣ основательно полагалъ, что мнѣ достаточно уже одного неизбѣжнаго разговора съ главнымъ привратникомъ, чтобы на завтра стать сказкою всего города.
Я сидѣлъ и ждалъ. Край западной горы осеребрился; сумракъ ночи какъ будто затрепеталъ. Всѣ силуэты стали еще чернѣе на просвѣтлѣвшемъ фонѣ; кипарисы обрисовались прямыми и рѣзкими линіями – такіе острые и стройные, что казались копьями, вонзенными землею въ небо… Бѣлая щебневая дорожка ярко опредѣлилась y моихъ ногъ; пора была идти… Я повернулъ налѣво отъ гробницы Мадзини и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, невольно вздрогнулъ и даже попятился отъ неожиданности: изъ-за обрыва верхней террасы глядѣлъ на меня негръ – черный исполинъ, который какъ бы притаился за скалой, высматривая запоздалаго путника.
Что это призракъ или злой духъ, – мнѣ и въ мысль не пришло; но я подумалъ о возможной встрѣчѣ съ какимъ-нибудь разбойникомъ-матросомъ (африканцевъ въ Генуѣ очень много, и всѣ отчаянные мошенники); я схватился за револьверъ, да тутъ же и расхохотался. Вѣдь вотъ какіе курьезы продѣлываютъ съ человѣкомъ неожиданность и фантазія! Какъ было по первому же взгляду не сообразить, что y негра голова разъ въ пять или шесть больше обыкновенной человѣческой!?.. Я принялъ за ночного грабителя бюстъ аббата Піаджіо – суровую громаду грубо вылитаго чугуна, эффектно брошенную безъ пьедестала въ чащѣ колючихъ растеній, на самомъ краю дикой природной скалы.
Этотъ памятникъ и днемъ производитъ большое впечатлѣніе: намъ кажется, что аббатъ лѣзетъ снова на бѣлый свѣтъ изъ наскучившей ему могилы, и вотъ-вотъ выпрыгнетъ и станетъ надъ Стальено, огромный и страшный, въ своемъ длинномъ и черномъ одѣяніи. Ночью же онъ меня, какъ видите, совсѣмъ заколдовалъ, – тѣмъ болѣе, что я совершенно позабылъ объ его существованіи…
Я спокойно сошелъ въ среднюю галлерею усыпальницы Стальено; лунные лучи сюда еще не достигали; статуи чуть виднѣлись въ своихъ нишахъ, полныхъ синяго сумрака. Но когда, быстро пробѣжавъ эту галлерею, я остановился на широкой лѣстницѣ, чуть ли не сотнею ступеней сбѣгающей отъ порога стальенской капеллы къ подошвѣ холма, я замеръ отъ изумленія и восторга. Нижній ярусъ былъ залитъ луннымъ свѣтомъ, – и это царство мертвыхъ мраморовъ ожило подъ лучами негрѣющаго живыхъ свѣтила… Мнѣ вспомнилась поэтическая фраза Альфонса Kappa изъ его «Клотильды».
– «Мертвые только днемъ мертвы, a ночи имъ принадлежатъ, и эта луна, восходящая по небу – ихъ солнце.» Я стоялъ, смотрѣлъ, и въ в душу мою понемногу кралось таинственное волненіе – и жуткое, и пріятное… Расхотѣлось уйти съ кладбища. Тянуло внизъ, – бродить подъ портиками дворца покойниковъ, приглядываться къ блѣдно-зеленымъ фигурамъ, въ которыхъ предалъ ихъ памяти потомства рѣзецъ художника; вѣрить, что въ этихъ нѣмыхъ каменныхъ людяхъ бьются слабые пульсы жизни, подобной нашей; благоговѣть передъ этой непостижимой тайной и любопытно слушать невнятное трепетаніе спящей жизни спящихъ людей.
Я тихо спустился по лѣстницѣ, внутренно смѣясь надъ собою и своимъ фантастическимъ настроеніемъ, a главное – надъ тѣмъ, что это настроеніе мнѣ очень нравилось.
Нижній ярусъ усыпальницы охватилъ меня холодомъ и сыростью: вѣдь Бизаньо здѣсь уже совсѣмъ подъ бокомъ.
– Поэзія поэзіей, a лихорадка – лихорадкой, подумалъ я и направился къ выходу, проклиная предстоявшее мнѣ удовольствіе идти пѣшкомъ нѣсколько километровъ, отдѣлявшихъ меня отъ моей квартиры: я жилъ въ береговой части Генуи, совсѣмъ въ другую сторону отъ Стальено. Я рѣшился уйти съ кладбища, но отъ мистическаго настроенія мнѣ уйти не удавалось. Когда я пробирался между монументами неосвѣщенной части галлереи, мнѣ чудился шелестъ, – точно шопотъ, точно шаркали по полу старческія ноги, точно шуршали полы и шлейфы каменныхъ одеждъ, пріобрѣтшихъ въ эту таинственную ночь мягкость и гибкость шелка. Признаюсь вамъ откровенно: проходя мимо знаменитаго бѣлаго капуцина, читающаго вѣчную молитву надъ прахомъ маркизовъ Серра, я старался смотрѣть въ другую сторону. Реалистическое жизнеподобіе этой работы знаменитаго Рота поражаетъ новичковъ до такой степени, что не одинъ близорукій посѣтитель окликалъ старика, какъ живого монаха, и, только подойдя ближе убѣждался въ своей ошибкѣ. Я зналъ, что теперь онъ покажется мнѣ совсѣмъ живымъ. При солнцѣ, онъ только что не говоритъ, a ну какъ луна развязываетъ ему языкъ, и онъ громко повторяетъ въ ея часы то, что читаетъ про себя въ дневной суетѣ?!
Мнѣ оставалось только повернуть направо – къ кладбищу евреевъ, чтобы постучаться въ контору привратниковъ и добиться пропуска изъ cimitero, какъ вдругъ, уже на поворотѣ изъ портика, я застылъ на мѣстѣ, потрясенный, взволнованный и, можетъ быть даже… влюбленный. Вы не слыхали о скульпторѣ Саккомано? Это левъ стальенскаго ваянія. Лучшія статуи кладбища – его работа. Теперь я стоялъ передъ лучшею изъ лучшихъ: передъ спящею дѣвою надъ склепомъ фамиліи Эрба… Надо вамъ сказать, я не большой охотникъ до нѣжностей въ искусствѣ. Я люблю сюжеты сильные, мужественные, съ немного байронической окраской… Дѣйствіе и мысль интересуютъ меня больше, чѣмъ настроенія; драматическій моментъ, на мой вкусъ, всегда выше лирическаго; поэтому я всегда предпочиталъ дѣвушкѣ Саккомано его же Время – могучаго, задумчиваго старика, воплощенное «vanitas vanitatum et omnia vanitas»… Я и сейчасъ его видѣлъ: онъ сидѣлъ невдалекѣ, скрестивъ на груди мускулистыя руки, и, казалось, покачивалъ бородатой головой въ раздумье еще болѣе тяжеломъ, чѣмъ обыкновенно. Но странно! Сейчасъ я былъ къ нему равнодушенъ. Меня приковала къ себѣ эта не любимая мною мраморная дѣвушка, опрокинутая вѣчною дремотой въ глубь черной ниши. Блѣдно-зеленые блики играли на ея снѣговомъ лицѣ, придавая ему болѣзненное изящество, хрупкую фарфоровую тонкость. Я какъ будто только впервые разглядѣлъ ее и призналъ въ лицо. И мнѣ чудилось, что я лишь позабылъ, не узнавалъ ее прежде, a на самомъ то дѣлѣ давнымъ давно ее знаю; она мнѣ своя, родная, другъ, понятый мою, быть можетъ больше, чѣмъ я самъ себя понимаю. – Ты заснула, страдая, думалъ я. – Горе томило тебя не день, не годъ, a всю жизнь, оно съ тобою родилось; горе души, явившейся въ мірѣ чужою, неудержимымъ полетомъ стремившейся отъ земли къ небу… A подрѣзанныя крылья не пускали тебя въ эту чистую лазурь, гдѣ такъ ласково мерцаютъ твои сестры – звѣзды; и томилась ты, полная смутныхъ желаній, въ неясныхъ мечтахъ, которыя чаровали тебя, какъ музыка безъ словъ: ни о чемъ не говорили, но обо всемъ заставляли догадываться… Жизнь тебѣ выпала на долю, какъ нарочно, суровая и безпощадная. Ты боролась съ нуждою, судьба хлестала тебя потерями, разочарованіями, обманами. Ты задыхалась въ ея когтяхъ, какъ покорное дитя, – безъ споровъ; но велика была твоя нравственная сила, и житейская грязь отскакивала, безсильная и презрѣнная, отъ святой поэзіи твоего сердца… И сны твои были прекрасными снами. Они открывали тебѣ твой родной міръ чистыхъ грезъ и надеждъ. И вотъ ты сидишь, успокоенная, утѣшенная; ты забылась, цвѣты твои – этотъ макъ, эмблема забвенія – разсыпались изъ ослабѣвшей руки по колѣнамъ… Ты уже внѣ міра… Хоръ планетъ поетъ себѣ свои таинственные гимны. Ты хороша, какъ лучшая надежда человѣка, – мечта о вселюбящемъ и всепрощающемъ забвеніи и покоѣ! Я поклоняюсь тебѣ, я тебя люблю.
Не помню, гдѣ, – кажется, въ «Флорентійскихъ ночахъ» – Гейне разсказываетъ, какъ онъ въ своемъ дѣтствѣ влюбился въ разбитую статую и бѣгалъ по ночамъ въ садъ цѣловать ея холодныя губы. Не знаю, съ какими чувствами онъ это дѣлалъ… Но меня, взрослаго, сильнаго, прошедшаго огонь и воду, мужчину одолѣвало желаніе – склониться къ ногамъ этой мраморной полубогини, припасть губами къ ея прекрасной дѣвственной рукѣ и согрѣть ея ледяной холодъ тихими умиленными слезами.
Н-ну… это, конечно, крайне дико… только я такъ и сдѣлалъ. Мнѣ были очень хорошо; право, ни одно изъ моихъ, – каюсь, весьма многочисленныхъ, – дѣйствительныхъ увлеченій не давало мнѣ большаго наслажденія, чѣмъ нѣсколько часовъ, проведенныхъ мною въ благоговѣйномъ восторгѣ y ногъ моей стыдливой, безмолвной возлюбленной. Я чувствовалъ себя, какъ, вѣроятно., тѣ идеалисты-рыцари, что весь свой вѣкъ носили въ головѣ образъ дамы сердца, воображенный въ разрѣзъ съ грубою правдою жизни… Какъ Донъ-Кихотъ, влюбленный въ свой самообманъ, умѣвшій создать изъ невѣжественной коровницы – красавицу изъ красавицъ, несравненную Дульцинею Тобозскую.
Мраморъ холодилъ мнѣ лицо, но мнѣ чудилось, что этотъ холодъ уменьшается, что рука дѣвушки дѣлается мягче и нѣжнѣе, что это уже не камень, но тѣло, медленно наполняемое возвращающейся къ нему жизнью… Я зналъ, что этого быть не можетъ, но – ахъ, если бы такъ было въ эту минуту!
Я поднялъ взоръ на лицо статуи и вскочилъ на ноги, не вѣря своимъ глазамъ. Ея рѣсницы трепетали; губы вздрагивали въ неясной улыбкѣ, а по цѣломудренно бѣлому лицу все гуще и гуще разливался румянецъ радостнаго смущенія… Я видѣлъ, что еще мгновеніе, и она проснется… Я думалъ, что схожу съ ума, и стоялъ предъ зрѣлищемъ этого чуда, какъ загипнотизированный… Да, разумѣется, такъ оно и было.
Но она не проснулась. A меня вѣжливо взялъ за плечо неслышно подошедшій кладбищенскій сторожъ:
– Eccelenza! Какъ эти вы попали сюда въ такую раннюю пору?
И въ отвѣтъ на мой безсмысленный взглядъ, продолжалъ:
– Я, уже три раза окликалъ васъ, да вы не слышите: очень ужъ засмотрѣлись.
Я оглянулся… на дворѣ былъ бѣлый день. Я провелъ въ Стальено цѣлую ночь и, къ своемъ, влюбленномъ забытьи не замѣтилъ разсвѣта… Не понялъ даже зари, когда она заиграла на лицѣ мраморной красавицы… Теперь розовыя краски уже сбѣжали съ камня, и моя возлюбленная спала безпробуднымъ сномъ, сіяя ровными бѣлыми тонами своихъ ослѣпительно сверкающихъ одеждъ. Всплывшее надъ горами солнце разрушило очарованіе зари…