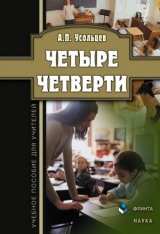
Текст книги "Четыре четверти: учебное пособие"
Автор книги: Александр Усольцев
Жанр:
Детская психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Поднять тост «За силу Архимеда» и выпить эту воду! – выкрикивает Урванцев.
Действительно, я сейчас сильно похож на тамаду, держащего над головой кубок с вином.
Надо бы одернуть Урванцева, но я не могу сдержать смеха.
– Ладно, шутник, – обращаюсь я к нему, – скажи лучше, что же все-таки я буду делать дальше? Только, пожалуйста, без твоих обычно несмешных приколов.
– Выльете воду вон в то верхнее ведерко.
– И что при этом будет наблюдаться?
– Динамометр снова увеличит свои показания, а вода в ведерко нальется доверху, – четко отвечает Леха.
– А можешь еще сказать, какие будут эти показания? – допытываю я Леху.
– Легко! Как раз до красной железки.
– А почему?
– Да потому, что не зря же вы ее прикрепили сюда и нам на нее пальцем тыкали.
Ответ не тот, на который я рассчитывал, но логика железная. Ведь понимает, паразит, что надо сказать, но обязательно подковырнет. Но в его ответе кроется большая глубина, о которой он даже и не подозревает. Часто, когда мы задаем ученикам вопросы, мы ждем от них рассуждений, построения логической цепочки, приводящей к заранее известному нам ответу. Но ученик играет в другую игру – он старается угадать тот ответ, который нам нужен. Как опытный следопыт, он отказывается бродить по сложному и запутанному следу, а сразу показывает на спрятанный конечный ответ, рога и копыта которого предательски торчат из неуклюже сделанного нами укрытия. Поэтому я не спорю, а выливаю воду в ведерко.
– Вот! – делаю широкий жест рукой, означающий кульминационный момент всего представления. – Как видите, всё, как и мы предсказывали! И главный вопрос: какой вывод мы можем по этому опыту сделать?
Вывод делает Тюленёв: – Можно сказать, что тело, погруженное в жидкость, вытесняет ее и теряет в весе. Причем теряет столько, сколько весит эта вытесненная жидкость.
Окультуриваем данную формулировку и записываем ее в тетрадь. Время – 27 минут со старта. Остается финишный рывок. Впереди самое сложное – задача. Читаю придуманную мною вчера криминальную сводку:
– Баба Яга купила у Водяного слиток золота, причем взвешивание происходило под водой на пружинных весах и показало массу 15 кг. Какова масса слитка в действительности? Кто кого обманул?
Выслушиваю обе версии. Первая: лох – Водяной, вторая: «терпила» (означает в устах Черепанова потерпевшую) – Баба Яга. Так как доказательная база высказанных версий не была приведена, перехожу к решению.
Записываю на доске под «Дано» m = 15 кг и спрашиваю: – Что дальше?
Жду, когда догадаются предложить записать плотности золота и воды. Не догадываются. С надеждой смотрю на Тюленёва.
– Наверное, надо еще плотность золота из таблицы взять, – как-то не совсем уверенно предлагает он.
– Точно! – радуюсь я, – но и это еще не все.
– Объем! – неожиданно и громко орет Бондарчук.
– Какой объем? – недоумеваю я.
– Как какой? Цилиндрика, который вы в воду опускали, его тоже надо посмотреть в таблице.
– Ты мозги лучше свои в таблице посмотри, – буквально читает мои мысли Урванцев, – где-то в начале, с приставкой «нано-» или «микро-».
– Геть! Разговорился! – осаживаю я Леху, но все уже ржут как кони. «Блондинкам» смешным показалось выражение про мозги в таблице, «Сливки» же оценили недоступный для других юмор про «нано-» и «микро-».
Понимаю, что нахожусь на грани срыва в штопор, еще немного и бразды правления вырвутся из моих рук, а оставшиеся 10 минут пропадут впустую. Пытаться дальше наводить на мысль, что надо бы плотность воды записать, бессмысленно. Это никому уже не интересно. Объяснять дальше самому? Но тем более никто слушать не будет. Но ведь и задачу уже не бросишь. Задать ее на дом, а теперь перейти к загадкам? Нет – задача сложная, почти никто ее сам не решит. Надо интригу! Вот черт, но как? О!
Поднимаю вверх руку: – А теперь эксперимент! Над вами! Писать не надо. Все быстро положили ручки!
Упрашивать долго не пришлось. Раздался дружный шелест и стук бросаемых на парту ручек.
– Упражнение на память и сообразительность. Я буду решать задачу и комментировать ее решение. Все молчат и внимательно запоминают решение. Понятно?
– Понятно, – отвечают мне, – а зачем?
– А потом узнаете. Только старайтесь запомнить решение, а то эксперимент не получится!
Я начинаю объяснять, постоянно оборачиваюсь к классу и схватываю ситуацию. Пока встречаю глаза большинства учеников и снова к доске. Доска – глаза – доска – глаза. Все!
– А теперь проверим, кто как понял! Через 15 секунд я закрою доску, и вы самостоятельно восстановите написанное здесь решение.
Тут же грозно рычу: – Ручки не брать! Не теряйте время, оно уже пошло.
Мысленно включаю секундомер, смотрю в класс. Заманова, конечно же, вяжет, Бондарчук пытается тайком списать задачу, Бакланов это же хочет сделать прямо на парте, остальные вперились взорами в доску. Люся, пытаясь запомнить решение, беззвучно шевелит губами. Под моим взглядом Бакланов испуганно бросает ручку и закрывает локтем исчерканную часть парты, Бондарчук продолжает списывать.
Закрываю доску под негодующий массовый выкрик. Подхожу к Бондарчуку, беру у него тетрадь, закрываю и кладу на край стола. Вручаю ему чистый листок: – Попробуй сам, не получится, можешь подглядывать, но постарайся этого не делать!
Ко всем: – Кто не сможет, можно у меня помощи попросить или подойти к доске и немножко подсмотреть.
Все уткнулись в тетради.
Думаю, что делать с Галей. Не придумал – пусть вяжет дальше. Обхожу ряды. С переменным успехом народ воспроизводит решение. Кто-то делает это слишком медленно, кому-то подсказываю. Наконец, чувствую, что надо открывать доску. Открываю. Сразу отмечаю тех, кто бросился переписывать. Их – пять человек. Остальные сверяются. Неплохо.
Объявляю домашнее задание: выучить написанный конспект. Кому нужна «пятерка» или «четверка» – с выводом формулы. Задаю две задачи: одна простенькая – обязательная для всех, другая посложнее – по желанию.
Осталось две минуты. Пустое время для урока – время ожидания звонка. Но я нашел ему применение.
– А загадка будет сегодня? – спрашивает Урванцев.
Отвечаю: – Будет! – И торжественно объявляю: – Загадка! Так что же меньше весит: килограмм пуха или килограмм железа?
– Конечно, пуха! – радостно орет Бондарчук.
– Дебил! – хором сказали сразу три человека, – одинаково!
– Ну, это еще в детском садике эту загадку задают, – со знанием дела пренебрежительно поясняет Будильник, – понятно, что одинаково, там и там килограмм.
– А вот и нет! – возражаю я. – Давайте сформулируем еще такую задачу: что легче в воде – килограмм железа или килограмм дерева?
– Дак дерево вообще плавать будет, какой у него вес? – растерянно отвечают мне.
– Так и здесь, то же самое. Пух занимает больший объем, чем железо, поэтому он вытесняет больше воздуха, поэтому на него действует большая сила Архимеда, поэтому пух весит меньше! – скороговоркой тараторю я.
– Я же сразу говорил, что пух легче! – гордо замечает Бондарчук, – мне положено хотя бы балла четыре.
– Эта задача с двойным дном, а ты на первом, детсадовском, уровне купился! – умеряю я его аппетит, – но за правильный ответ ставлю тебе балл!
– Один? – кисло вопрошает Бондарчук. Все смеются.
– Один! – отвечаю я.
– Ну ладно, – разрешает Бондарчук и хозяйски замечает, – один балл тоже на дороге не валяется!
Звонок!
Все срываются с места. Останавливаю Бакланова, вручаю ему ластик:
– Иди и удали, что начеркал. Еще раз замечу, что классное имущество портишь, твоим носом все парты почищу! И стулья!
Он без споров берет ластик и уныло стирает написанное.
– И доску! – негодующе добавляю я, – ладно бы в кабинете географии портил парты, а то в своем родном классе!
Вдруг вспоминаю, что опять на урок журнал забыл взять, и тему, и задание не вписал, и отсутствующих не отметил. Но сейчас уже поздно. Вон, уже 8 класс на подходе, а мне надо еще опыт приготовить. После уроков все журналы заполню! Эта мысль меня несколько оправдывает перед самим собой, хотя я отчетливо понимаю, что и после уроков я это забуду сделать.
Родитель – половозрелое человеческое существо, имеющее детенышей. Отличается парадоксальным и противоречивым мышлением, называемым родительским. Это мышление, естественно, проявляется и в родительском поведении.
Всякий родитель утверждает, что любит своего ребенка, но больше заботится о своей корове (даче, машине, работе и т. п.) и уделяет ей куда как больше внимания, чем результату и предмету своей любви. Считает себя непревзойденным специалистом в области образования, знает, чему учить и как учить, но когда ему приходится самому объяснять дома урок, то заканчивается это чаще всего ударом учебника по сыновьей голове и ненормативной лексикой. Считает сына жалким отголоском своих несуществующих талантов, но в каждом его посредственном действии видит гениальность и сильно раздражается, когда другие этого не замечают.
Говорит, что жизнь готов отдать за своего ребенка, и скорее всего это именно так и есть, но не делает для него даже малости, которая ничего не стоит. Готов загрызть каждого, кто может обидеть его ребенка, но сам же обижает его больше всех и наносит ему вред больший, чем все недруги, вместе взятые.
Геннадий стал ответственным, а потому нетипичным родителем. К своим родительским обязанностям он относился как к серьезному и важному делу. На родительское собрание он приходил не только трезвым, но даже и в костюме. На косые взгляды воспитателей и родителей внимания не обращал, а старательно выписывал Люсины оценки из журнала в тоненькую тетрадь. Все школьные «добровольные» поборы на питание, уборку, на нужды класса, на летний ремонт школы сдал наперед, до конца учебного года.
Люся как-то враз неуловимо изменилась. Ее социальный статус в своих собственных глазах и глазах своих детдомовских подружек неизмеримо вырос.
– И что, ты вечером спать ложишься, когда захочешь? – спрашивают Люсю ее подруги.
– Ну, как, в общем да, – гордо отвечает она.
– И можешь всю ночь телевизор смотреть? – не верит Галя.
– Нет, конечно, – со слабо скрытым превосходством замечает Люся. – Дядя Гена, если поздно, спать меня отправляет. Он же за меня государству подписку давал, что должен меня воспитывать. А если что, то ему штраф или даже выговор за меня могут дать.
Люся врет вдохновенно и творчески, но девчонки, кажется, этого не замечают.
Их, конечно, тоже отправляют спать, но все это не то. Один воспитатель укладывает всех сразу, строго в десять часов, и нет главного – отдельного, персонального внимания «за просто так».
– А ты его дядей зовешь или папой? – не унимается Г аля.
– Пока дядей зову. Поживем – увидим. Если пить не будет, может, и папой назову, – важно заключает Люся и достает кулек. – Вот, угощайтесь. Это Васильевна пирожков напекла, их много, я даже в школу могу взять.
Девчонки уплетают домашнюю стряпню, завистливо посматривая на счастливую обладательницу пирожков и семьи.
Со звонком я их разгоняю по местам и начинаю урок.
Но идиллия длилась недолго. Однажды Люська пришла на урок с мокрыми глазами и сидела, как приготовленная к закланию курица.
– Чего случилось? – спросил я ее после урока.
– Ничего, – тихо ответила Люся, в глазах зародились и повисли две огромные бусины слез.
– А все же? С подругами поругалась что ли?
– Дядя Гена меня отдает.
Что-то екнуло в животе и похолодело, потому что как-то сразу я догадался, что это правда.
– Да ты что, с ума сошла! С чего ты это взяла?!
– Он сам сказал.
Слезы прорвались и бежали уже с интенсивностью березовки в майский день.
– Не реви. Разберемся, – неуверенно пообещал я и тут же спустился в камору к Геннадию.
Гена был пьян, как в старые времена. На столе стояла самопальная водка, производства Будильникова папашки, лежал паяльник с налипшим на него плавленым сырком.
– Ты же бросил! – возмутился я.
– A-а, Петрович. На вот, угостись. – Чекушкин протянул мне паяльник.
Я отклонил паяльник от своего лица: – Значит, правда?
– Правда! – опечалился Чекушкин.
– Ах ты сволочь! – я схватил его за куцый ворот фуфайки. Она тоскливо затрещала.
Чекушкин закрыл глаза, покорно ожидая удара. Я отпустил его, он безвольно опустился на стул.
– Объясни мне, в чем дело! – потребовал я.
– Да не знаю я! Пришла из детдома, эта, ну, молодая, недавно работает, опекунством занимается. Сказала, что Люську кто-то из городу усыновляет. Мне же нет доверия. Ты ить вот тоже мне не верил.
Геннадий что-то еще пьяно бубнил мне в спину, но я его уже не слушал.
Неистребимый детдомовский запах общепитовской столовой и мочи из матрасов ударил в нос на входе. Сколько посещаю детский дом, никак не могу привыкнуть к этому запаху. Это даже не запах, это атмосфера казенной заботы, когда каждому по положенной мерке отвешивается еда, одежда и внимание взрослых. В этом запахе угадываются все необходимые для жизнедеятельности компоненты. Нет только одного – аромата родительской любви, без которого дым родного очага неизбежно превращается в смрад приюта.
Евграф Семеныч у себя в кабинете чего-то считал с главбухом и ерошил оставшиеся на затылке волосы. Увидев меня, он свернул бумажки, сказал бухгалтерше, чтобы погуляла. Когда она вышла, он закрыл за ней дверь:
– Садитесь, Алексей Петрович, у меня к вам дело!
– Я даже догадываюсь, какое! Но это у меня к вам дело! Не вздумайте Люську от Чекушкина забирать. Слышите меня! Не вздумайте!
Директор сел за стол, повертел в руках авторучку, потом пошуршал бумажками: – Етс самое, такое дело… По опекунству у нас молодой специалист первый год работает… В общем, напортачили мы, етс самое, конкретно. Получилось, что пока мы Геннадию оформляли опекунство, параллельно Люсю еще на усыновление отдали. Ее и взяли, одна семья из города. Так как усыновление имеет приоритет перед опекунством, то придется отдать, если не добровольно, то через суд заберут. Такой вот, етс самое, паршивый коленкор.
– Как же так? Это же не кукла! Один поиграл, бросил, теперь пусть у других побудет? Сколько человеку можно в жизни терпеть? Да и Чекушкин – тоже человек, Люська для него уже дочь! Зачем же так-то? Сделайте что-нибудь: в область съездите, с новыми родителями поговорите, пусть откажутся! – принялся я уговаривать Евграфа Семеныча.
– Уже! – произнес он, вытирая вспотевшую лысину платочком.
– Что уже? – не понял я.
– Ездил уже, и в область, и к этим, етс самое, к новым родителям. Бесполезно все. Сказали, если Люську им не отдадут, они на меня в прокуратуру и в газету напишут, что я детьми торгую и алкоголику девочку для утех продал.
– Чушь! Никто же не поверит! – возмутился я.
– Не скажи. В газете напечатают, етс самое, в свободной прессе. Кто меня не знает, тот поверит. А таких в области и в России больше. Потом уже никогда не отмоешься. Статью «Директор детского дома продает детей алкаголикам» значительно интереснее читать, чем «Ошибка в оформлении документов».
– Да и, может, ей еще лучше будет! – Семеныч принялся не то меня уговаривать, не то себя успокаивать. – Ты, я помню, против кандидатуры Чекушкина тоже вон как, етс самое, пузырился. А вышло хорошо.
Евграф Семеныч еще долго говорил, что жизнь, она длинная и неожиданная. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, и поэтому надо философски отнестись к протекающим событиям. Дело молодое: стерпится, слюбится.
Я встал и, не попрощавшись, вышел.
Через неделю в кабинет поутру, еще до уроков, зашел Геннадий.
– Люську вчера забрали, так что на урок ее сегодня не жди.
– Уже?!
– Уже. В шестом часу на «шестерке» приехали. Мужик, жлобского виду, новый, так сказать, папа, да тетка, из машины так и не показалась, но видно, что тоже сволочь! Люськин чемоданчик в багажник как мусор в помойное ведро швырнул, а дверь своего рыдвана бережно закрыл! Рожа у него кулацко-террористическая. Я таких в тридцать седьмом вот этими руками в расход пачками пускал!
Чекушкин протянул свои руки почему-то вверх и стал похожим на пленного немца под Сталинградом. Не столько внешним видом, сколько усталой безысходностью и покорностью судьбе.
Только теперь я увидел, что Геннадий снова пьян. Он стремительно возвращался к своему естественному для последних лет облику.
– Хорош врать! Тебя в тридцать седьмом, как ты сам говоришь, еще в проекте не было! – отмахнулся я, – как Люся это все перенесла?
– Я, говорит, и у них поживу, раз так надо, а потом, наверное, если не понравится, к тебе, дядя Гена, вернусь! Ты, говорит, только не пей. Не ревела даже. Свой скарб сама вынесла. Не успели ей даже вещей нормальных накупить. Всего-то поганый чемоданчик. Говорил своей, мол, давай купим вещей. А она мне: неизвестно еще, будет она у нас жить или нет. Чего мы зря деньги тратить будем, пусть новая семья ей все и покупает! Сволочь она у меня, конечно! Тут на днях новую удочку изломала, я ее у Валеры выспорил. Ну, у Валеры, на Набережной который живет, ну который в прошлом годе на рыбалке себя за губу подцепил…
– Да бог с ними, и с удочкой твоей и Валерой! Ты скажи, Люся как к этому отнеслась? – прервал я излияния Геннадия.
– Как? Да так! – вдруг взбеленился Геннадий – Я уже сказал как. Никак! Чо она понимает еще, дите! Да и я не психолог. Местный сантехнический университет закончил. Ты бы лучше меня пожалел. Я на старости лет смысл какой-то своей жизнедеятельности приобрел, и нате вам, здрассьте, пожалуйте! Иди давай отсюдова, журналист!
Обзывание журналистом меня, конечно, обидело. Но Чекушкин был прав, нечего в душу человеку попусту лезть, если помочь не можешь и сочувствие твое ему по барабану.
МартОбещания образовательных технологов, что их исследования и разработки, если будут адекватно профинансированы, смогут предложить окончательное решение проблемы сопротивления детей обязательному обучению, звучат так же самонадеянно и оказываются такими же дурацкими, как аналогичные обещания военных технологов.
И. Иллич
Чекушкин запил. Страшно и по-черному. Не могу сказать, что это произошло из-за отъезда Люси. Может быть, его просветление было временным и он бы и при Люсе начал «квасить». Тем не менее лишение псевдородительских прав больно ударило по Геннадию. Это была последняя капля, смывшая его в пропасть.
Сначала он был пьян после обеда, затем был поддатый сразу с утра, потом он перестал являться на работу и, наконец, однажды все же пришел, да так и остался в своей каморе. Каким-то неизъяснимым способом он добывал что-то, содержащее спирт, не покидая своего жалкого кабинета. Это позволяло ему не выходить из мертвецкого состояния.
А потом Геннадий замерз. Вечером он все же решил посетить родной очаг, но по дороге уснул. Понятное дело, что его никто не хватился. Сторож думал, что он дома, а жена, естественно, не без оснований считала, что ее муж буквально ночует на работе. Нашли его утром у забора, до дома он не дошел один квартал или, по-деревенски, один проулок.
Через неделю после похорон Геннадия приехала Люся. С утренним автобусом. На кладбище ей сходить не удалось, так как дорогу, прогребенную трактором для похорон, уже замело.
Васильевна, Чекушкина вдова, судя по всему, Люсю не приветила, так как с последним автобусом Люся уже уехала в город. Ко мне она так и не зашла.
К нам из специального интерната для одаренных вернулась Таня Дымкова. Там она одарилась вшами и беременностью. До этого я представлял, что Таня талантлива, но не настолько! Забеременеть в 7 классе– это очень талантливо! Даже с учетом того, что Таня до этого в 6 классе сидела 2 года, а в школу пошла в 9 лет, когда ее отняли у своей вечно пьяной мамки.
Таня посидела на уроках с неделю, а затем ее перевели в другое учреждение. Больше мы ее не видели.
Тюленёвский бег с палками и без таковых не пропал зря. Не зря я давал ему выспаться на уроках физики! В нашем классе появился чемпион области по лыжным гонкам.
Михалыч по приезде с соревнований только мне успел три раза рассказать эпопею покорения областных спортивных вершин. Вследствие объемности рассказа привожу лишь краткие тезисы, и то лишь его заключительной части:
а) ближайший конкурент отстал на 22 секунды, что свидетельствует о том, что все кругом сплошь «чайники» и только Тюленёв – «боец»!;
б) Тюленёву подарили новые лыжи, на которых он еще неоднократно утрет всем нос;
в) он и так всем утер нос;
г) особенно он утер нос Захарычу – лютому другу нашего Михалыча;
д, е, ж, з, и) друг Захарыч – паразит.
Я тут же изобразил плакатище с кривоватой, но краткой и понятной надписью: «В нашем классе – Чемпион!». Уговорил МЧС отобрать у Тюленёва медаль и вручить ее обратно перед классом, потом снова отобрать и снова вручить, но уже на общешкольной линейке. В заключение я накропал статейку в нашу районную газетку. Они напечатают, им печатать все равно нечего.
В учительской полушутя-полусерьезно намекнули, что я создаю культ личности Тюленёву. Щас! Никто даже не представлял, какой культ личности Тюленёва я еще собираюсь взрастить в этих стенах! Но не этого Тюленёва, а другого. Тюленёв-физик и сейчас в задачах – монстр. Если я его за лето поднатаскаю, он на районной олимпиаде по физике всех порвет, как коберул мою лодыжку! А когда он еще область повалит, вот тогда я устрою показательную пиар-акцию! А если еще кто-нибудь из моих хоть в десятку лучших на районе попадет (а попадет обязательно, потому что там приезжает не больше 15 человек, из которых половина слабо отражает, по какому предмету они тут, собственно, олимпиадничают), то тогда у всех сложится полное впечатление, что наша школа – затерянный в лесах карликовый Оксфорд, кузница будущих толп нобелевских лауреатов по физике[4]4
Забегая вперед, похвастаюсь, что в районе мы действительно заняли все призовые места практически во всех классах, и умолчу о том, что на областных олимпиадах мы никогда не поднимались выше середины.
[Закрыть].
В соответствии с моим хитрым планом это должно еще чуть-чуть подпустить в школьную атмосферу общественного уважения к физике и ее апостолам. А что? Живем мы в тяжелом конкурентном обществе, и каждый тянет одеяло на себя в рамках разрешенных правил. Да простит меня Лев Николаевич, но Михайлу Васильевича, руководящего моими действиями со шкафа лаборантской, я подвести не могу. А акция с Тюленёвым – спортсменом, во-первых, репетиция будущих пиар-кампаний, а во-вторых, преследует цель формирования коллектива моего класса. Каждый должен знать, что в моем седьмом учатся только выдающиеся люди. Даже Бондарчук – выдающийся, он громче всех пахнет!
Снова пришла пора выставления четвертных оценок, на этот раз уже за третью четверть. С удовольствием констатирую, что процесс начал приносить удовольствие. Хотя бы потому, что результаты представляют чисто спортивный интерес:
• Кто по количеству баллов занял первое место среди седьмых, восьмых и прочих классов (по количеству набранных баллов)?
• Кто стал абсолютным чемпионом школы (определяется как полученный балл за четверть / число уроков в четверти)?
• Какой класс вышел победителем в командном первенстве (определяется как средний балл по классу / число уроков в четверти)?
• Какой класс победил в номинации «Лидеры группы аутсайдеров» (определяется как средний балл по десяти ученикам, показавшим худший результат в классе / число уроков в четверти)?
По каждой номинации закрутилась нешуточная конкуренция. Мой Тюленёв, например, бился за абсолютное первенство с одной отличницей – грядущей медалисткой из 11а класса. Каждый из них ревностно следил за успехами своего соперника. В командном первенстве мои семиклассники занимали третье место снизу, и в годовом первенстве шансов у нас не было никаких. В номинации «Лидеры группы аутсайдеров» положение было еще хуже. Мы были на прочном последнем месте, а ближайший конкурент – 86 класс – обходил нас на недосягаемую величину в 0,3 балла на урок. А подсуживать своим я не собирался.
Для увеличения конкуренции в будущем году я подумываю разбить классы на две лиги – высшую и первую – и устроить тотализатор по результатам года и четверти. Неплохо бы в школьной прессе ввести колонку спортивных комментаторов и аналитиков, обсасывающих шансы тех или иных субъектов на призовые места.
Удовольствие усугубляется еще и тем, что мне, наконец-то, дали компьютер. Этот раритет был списан из бухгалтерии управления образования на пенсию. Тем не менее подрабатывающий на пенсии механизм вполне справляется с офисными программами и исправно выдает на гора цифры и диаграммы. Мне остается только демонстрировать их ученикам, учителям и родителям. А каждый сделает свои выводы. Эти диаграммы всякий раз ждут с нетерпением, как котировок акций на бирже или результатов скачек на ипподроме.
Укоры некоторых педагогов, очень озабоченных ранимостью нежных детских душ, страдающих от сравнения их успехов с другими, меня мало волнуют. Наоборот, такая конкуренция – мягкая имитация той взрослой драки, которая каждого из них ждет за порогом школы, хотя бы в конкурсных испытаниях при поступлении в вузы. Пусть уж эта нежная душа окрепнет под легким ветерком, а иначе любой приличный шквал может непоправимо сломать ее тепличный стебелек.
Но эти баллы (как и любая оценка) – всего лишь условность, некоторые формальные измерители чего-то, признанного методистами и мною важным. Для растущего человека, получающего эти баллы, они существенны только в этой школьной среде и только в этот временной период жизни. В масштабах всей его жизни – это фантом. Так сержанту, дослуживающему срочную службу, больше всего хочется перед дембелем получить звание старшего сержанта. Когда счастливый и гордый старший сержант выходит за ворота части, оказывается, что его любимая девушка не знает, кто старше по званию: сержант или полковник. А всем, кто в этом разбирается, до его звания нет никакого дела. Потому что в новой среде другие критерии успешности и другие табели о рангах.
Как только я ловлю себя на мысли, что начинаю непроизвольно оценивать личность ученика по количеству набранных им баллов, я бью себе по башке линейкой. Мысленно, правда, но зато сильно и больно.
Может, от этих мысленных ударов, а может, от прочтения умных книжек с педагогическими и методическими рецептами приходят в голову крамольные для шкраба мысли.
Сапожник шьет сапоги. Их можно померить.
Пекарь печет хлеб. Его можно попробовать.
Конструктор изобретает самолет. На самолете полетает летчик-испытатель, который определит его максимальную скорость и устойчивость на виражах. Если на этом можно летать, носить на ногах или съесть – все получат премию или, на крайний случай, хотя бы зарплату.
Учитель учит школьника. Но нельзя прикинуть по размерчику образованность, попробовать на вкус патриотизм, измерить достигнутую максимальную скромность поведения, проверить глубину моральной устойчивости. Все это вместе и составляет реальное, ускользающее от измерения качество образования, не имеющее ничего общего с тем пресловутым качеством, определяемым чиновниками по объему написанных бумаг.
Можно, конечно, сочинить всякие тесты и контрольные работы. Можно даже думать, что они помогут нам измерить что-то важное, что позволит на одного ученика поставить знак качества, а другого отправить на переплавку. Но всякий учитель без всяких тестов скажет, каким вырастет и каким будет тот или иной ученик. И очень часто он оказывается прав.
Часто, но не всегда. В том-то все и дело, что не всегда и даже далеко не всегда. И это тоже всякий учитель подтвердит. Иначе мальчик, ужасно страдающий от малейшей морской качки, никогда бы не стал прославленным адмиралом Нельсоном, ребенок, больной пороком сердца, не стал бы олимпийским чемпионом Зимятовым. Отличник становится бомжом, серый троечник– доктором наук, хилый «ботаник» – командиром спецназа. Как? Почему?
Стечение обстоятельств.
Но зачем мы учим тогда, если все дело в стечении обстоятельств?
В жизни нет философского камня, абсолютной истины, идеальной жены и универсальной методики образования. Если в умной книжке утверждают, что она позволяет научить всех и всему, поставьте эту книжку рядом с рекламным буклетом про универсальные таблетки для похудания. А лучше выбросьте. И то и другое.
Токарь заранее знает, что и как он выточит. Учитель – никогда.
Представьте, токарь ушел на обед, а его болванку, зажатую в станке, пришли поточить еще отец, мать, бабушка, любимый киногерой и друзья с улицы. А у болванки есть еще собственные идеалы и желания. Она один резец уважает, а другой терпеть не может. Под одним мнется, как пластилин, а под другим вдруг становится тверже алмаза. Одна деталь предпочитает обрабатываться утром, а другая вечером. Деталь может влюбиться в токаря и расплавиться ни с того ни с сего. Или, например, подраться с другой деталью и в драке ее погнуть. Или вообще вывернуться из зажима, послать токаря подальше и податься хипповать в ящик со стружкой.
Вы в слезах бежите к главному технологу, мол, спасите, помогите! Не получается у меня диаметр 5,2 мм! Потому что такой диаметр моей детали не нравится, и она не хочет быть каким-то там штырем канализационного насоса, а желает стать титановым корпусом ядерной подлодки.
А главный технолог вам говорит: – Что вы тут нюни распустили! Где же проблемная технология точения? Где инновационная постановка ваших ног при обработке? Где, наконец, выданный вчера личностно ориентированный резец, позволяющий точить то, что хочется вашей болванке?
Вы в недоумении: – Позвольте, но ей же хочется в атомоходы, а я не могу! И станок у меня лично Акинфием Демидовым куплен, да и то уже подержанным!
А вам: – Так и хорошо, что не можете! И не надо! Зачем нам атомоход в каждом канализационном насосе? Нам же штырь нужен! Вот вы из нее штырь и делайте.
Вы снова в недоумении, но уже значительно более глубоком: – Дак как же это?! Какое же личностно ориентированное точение тогда, если она хочет в подлодки, а из нее все равно штырь получится?
Вам отвечают: – А вы так ее точите, чтобы она думала, что вы из нее титановый корпус делаете, а пока точите, к ней должно прийти понимание того, что ее призвание все же быть штырем! Ну что тут непонятного? В крайнем случае, постановку ног сделайте еще более инновационной – на тройную ширину плеч. Идите, работайте. К вечеру чтоб 5,2 мм было!
Вы идете на свое рабочее место и мечтаете о кувалде как об эффективном средстве изготовления металлических и очень плоских блинов из строптивой болванки, станка и главного технолога.
А пока вы ходили, подопечная болванка связалась с дурной компанией – с шурупами из ящика бракованных изделий. И сама стала шурупом, да еще и с антисоциальной, левой, резьбой.
И вы, инженер болванковских душ, можете засверлиться. Шурупом в висок.
Приручение коберула триумфально завершилось. Теперь он симпатичный кобелек с зачатками интеллекта. Я зову его Прокопием. Он всякий раз радостно встречает меня на границе своей территории и интенсивно-дружественно машет своим крысиным хвостиком. Его корыстные ожидания я никогда не обманываю, свой кусок недоеденной школьной котлеты он получает исправно. С недавних пор Прокопий благосклонно разрешает почесать у себя за ухом. При почесывании он явно испытывает истинное наслаждение. Это означает качественный переход наших отношений с котлетно-меркантильных к дружественно-эстетическим.








