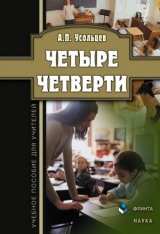
Текст книги "Четыре четверти: учебное пособие"
Автор книги: Александр Усольцев
Жанр:
Детская психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Как видно, проблема заключается в том, чтобы научить школьника верно выбирать решающее правило. Если мы внедрили ему в голову недостаточное количество признаков, то среди них, как назло, не окажется именно того, который требуется. Множество самых различных характеристик «про запас» сбивает его с толку. Ученик не может правильно сконцентрировать свое внимание на существенных характеристиках, что также приводит к неудаче.
Выход один – научить видеть главное, которое почти всегда является абстрактным. Вот чем Тюленёв отличается от других! Не особой твердостью пятой точки, называемой культурно усидчивостью, не соображалкой (ее у Черепанова, например, больше всех), а именно тем, что в любом материале он видит суть, смысл, каркас, который схватывает, запоминает и использует в разных практических ситуациях, мелькающих, как калейдоскоп. Остальные же, разинув рты, смотрят на игру ничего не значащих стекляшек этого калейдоскопа и с тоской думают, что такое большое количество информации им «не в жись не запомнить».
Конкретные эмпирические данные в задаче – это и есть стекляшки калейдоскопа. Так, если в задаче, попавшейся Пестовой на контрольной, сила равна 5 Н, а у рядом сидящего Урванцева задача та же, но сила – 25 Н, то это означает, что эти задачи лежат в одной точке пространства существенных признаков и являются по сути одной и той же задачей. А Пестова, сравнив задачи, придет к печальному выводу, что у них разные задачи и списать ей не удастся.
Возможна и другая ситуация: задачи с внешней стороны могут казаться совершенно идентичными по способу решения, тогда как на самом деле эти способы принципиально различаются. Так, например, две задачи имеют одинаковые условия, отличие которых заключается только в числовых значениях скоростей. В одних данных скорость равна 5 м/с, а в других – 280 000 м/с. Эти незначительные отличия, по мнению учащегося, более продвинутого, чем Пестова, приводят к различным алгоритмам решения, так как при решении второй задачи необходимо учитывать релятивистский эффект. Этот пример еще раз доказывает возникшее у меня (далеко не первого!) подозрение, что наиболее существенными в обучении являются абстрактные, теоретические построения, которые в свете гуманизации образования подвергаются гонениям и осмеянию как усложняющие обучение, оторванные от жизни и совершенно не нужные.
В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда перед учащимся поставлена задача по определению закона предложенного механического движения. При решении задачи Тюленёв вначале определяет, к какому виду относится движение, описываемое в условии, а уже затем начинает искать конкретные параметры. Понятно, что если движение было определено им как колебательное, то он ищет амплитуду колебаний, частоту и т. п., а если движение идентифицируется с равномерным движением, то он устанавливает начальные координаты и скорость[3]3
Учитель физики скажет, что тут я вру, потому что эти виды движения, особенно теорию относительности, Тюленёв будет изучать значительно позже. И я с ним соглашусь: да, вру! Но это же вранье без корыстного умысла, а для примера.
[Закрыть]. А Люся не отличает различные виды механического движения друг от друга и действует путем простого перебора всех известных ей законов движения или вообще всех известных формул, сравнивая каждый раз данные задачи с величинами, встречающимися в очередной выбранной наугад формуле.
С позиций теории распознавания и Тюленёв, и Люся действуют верно, разница только в том, что в первом случае за существенные были взяты признаки с наибольшей значимостью. Но как вменяемый учитель физики, действия Тюленёва я оценю как верные, а Люся на меня обидится за низкую оценку своих кропотливых, но бессмысленных действий.
Усложним задание и предложим ученикам решить задачу, описывающую еще не изученный ими вид механического движения. С моей стороны это издевательство над Люсей, но эксперимент мысленный, поэтому все же осуществим его. Тюленёв, ориентирующийся по существенным признакам задачи, достаточно быстро установит, что ни одна из изученных закономерностей для описанного в условии задачи движения не подходит и, следовательно, учитель подсунул что-то не то. Дальше, когда я все же предлагаю ему порешать эту задачу, он приходит к выводу, что учитель болен, помощи ждать неоткуда, а поэтому необходимо сначала установить закономерности этого движения. Ранее все задачи входили в один класс (механическое движение), и поэтому для их различия не требовалось выяснять, в чем, например, заключается основная задача механики. Теперь же этот вопрос становится актуальным, так как он приводит к идее установления зависимости между координатами в пространстве и временем.
Люся же не балует экспериментатора особым разнообразием действий и снова начинает перебор известных формул. Естественно, что правильный ответ она не получит.
В мышлении Тюленёва проявляется его теоретическая составляющая, а мышление Люси имеет преимущественно эмпирический характер. Таким образом, мы приходим к интересному и важному для нас выводу, что с позиций теории распознавания теоретическое мышление от эмпирического отличается особенностью выбора сравниваемых признаков: в процессе теоретического мышления происходит сравнение существенных признаков, а при эмпирическом мышлении сравниваются внешние, чувственно наблюдаемые данные, чаще всего существенными не являющиеся.
В общем журнал оказался интересным и я его в библиотеку не вернул, оправдываясь перед собой тем, что его все равно, кроме меня, никто читать не станет. Заброшенная информация закрутилась в мозгах, как белье в стиральной машине. Если информация непрерывно крутится в голове, то она обрастает полипами мыслей, эмоций и чувств. При некотором критическом уровне происходит качественный скачок, при котором она тонет в глубинах ваших мозгов. Дальше все происходит на уровне подсознания уже без вашего сознательного контроля и непосредственного усилия. Пройдет время, и в результате загадочных глубинных процессов она внезапно всплывет на поверхность сознания красивым корабликом родившейся идеи. Поэтому временно переведем размышления в область подсознательного, а сознательное заставим колоть дрова, которые нам привезли…
(Тем, кто не любит теорию, – читать отсюда.)
Баба Таня долго выговаривала мужикам, что дрова плохие: много осины, а которая береза, та кряжистая и в сучьях. И вообще тут пять кубов не будет, а только четыре с половиной. Но после высказанных замечаний подвела общий положительный итог и вознаградила мужиков поллитровкой.
Затем она вручила мне топор, тупой и очень тяжелый.
– Нако тебе, поколи в охотку с часок, а в воскресенье все исколем! По морозцу-то хорошо колется, дрова сами лопаются.
– Какой-то топор странный, – отметил я, взвешивая его в руке.
– Ты чо, совсем чо ли бестолковый! Это не топор, а колун! Ты, видно, по дровам, что по девкам, – не мастер.
– Ну уж, вы прям сравнили! Причем тут девки?
– А зачем такой мужик нужен, который дрова колоть не умет!
С железной логикой бабы Тани спорить было бесполезно.
– Ладно, – сказала она после секундных раздумий. – Подожди, я на кухне управлюсь, вместе пойдем, дрова тебя научу колоть, а с девками сам потом разберешься.
Баба Таня удобно расположилась на большом кряже возле кучи дров, казавшейся мне огромной.
Первый удар колуном получился неважным. Полено полетело в одну сторону, колун и маленькая отколовшаяся от полена щепочка – в другую.
– По кромке-то самой не бей, а то все дрова в щепки для растопки изрубишь, – прокомментировал мой пожилой наставник. – Да и колун держи покрепче, а то прилетит мне по голове и господи-прости!
Процесс обучения тонкому и древнему искусству колки дров начался.
– Ты пошто комлем вверх ставишь, эдак ты до заговенья будешь эти дрова колоть!
– Да не лупи ты в это место, как полоумный, не видишь, что тут сучок, надо вот по этой трещине бить. Вот хорошо, если ишшо в трещину попадешь, то вовсе будет ладно.
– Целься в одно место все время, а то уже мочалку из полена каку-то сделал, а толку нет!
– Ты колун вниз не разгоняй, а поднял и просто отпускай, он и без тебя упадет, а так все пакли себе отобьешь до сроку!
– Этот комель по середке не бери, а начни с краев помалу, так и весь расколешь.
Через час обучения я был весь мокрый, но начальные азы боевой техники усвоил. Через два часа я уже выполнил операцию первого дана: расколол здоровый комель посредством клина. Через два с половиной часа, когда у меня заболели пальцы и кисти рук, сэнсэй встал со своего трона и позволил на сегодня упражнение закончить. Теория распознавания на некоторое время перестала меня интересовать, за ужином я обнаружил любопытное явление дрожания рук, а утром ужасно болели плечи, пальцы и запястья, как будто дрова я не колол, а разрывал голыми руками. Теперь понятно, почему при рукопожатии деревенские мужики всегда пытаются сломать мне кости: они не нарочно, просто их руки – устройства для поднятия колуна. И стакана.
В стране началась кампания по усыновлению и удочерению детдомовских детей. Эта кампания добралась и до нас, неведомым образом опередив по бездорожью рост благосостояния народа и материального обеспечения образовательных учреждений.
В небольшой очереди за хлебом в сельмаге мне поведали, что у меня в классе будет новый родитель. У Люси.
– У Люси? – удивленно переспросил я. Что-то неприятно царапнуло мое самолюбие. – И кто этот родитель?
– Гена! Чекушкин! – ответили мне, и очередь замерла в радостном ожидании моей реакции.
– Чекушкин? Не может быть! Это чушь, – возмутился я.
– Это не чушь, – обиделась продавщица Валя. – Мне сам Евграф Семенович говорил, он вчерась два лимона взял, хлеб и мочалку. Видно, моется часто, старую истрепал. Кажный месяц покупает!
– Да ну вас, с вашими мочалками, – отмахнулся я. – Что он про Люсю сказал?
– А то и сказал. Говорит, когда вы у меня ребеночка на воспитание возьмете? Геннадий уж на что человек неоднозначный, и то с супружницей своей Люсю к себе берет. А я ему – счас! Возьму ваших бандитов малолетних, а они потом меня обворуют да еще дом подожгут. Итак каждое лето все огурцы вместе с плетями из огорода вырывают.
Дослушивать краткий экскурс по истории детдомовских набегов на славянские огороды я не стал и, забыв купить хлеба, отправился в детский дом к Евграфу Семеновичу.
– Я вот по какому вопросу, – начал я, – до меня дошла информация, что наш Чекуш…, извините, Геннадий оформил патронат над Люсей. Это так?
– Да, – погрустнел Евграф Семенович, – если так дело и дальше пойдет, то скоро работников придется, етс самое, сокращать, а то и вовсе детдом закрыть.
– Так это же хорошо, – возразил я, – что дети семью находят. Но я пришел сказать, что наш Геннадий – не самая подходящая кандидатура. Он же пьет, не просыхая. Какой из него отец?
– Вот вы сами себе и противоречите, – ответил Евграф, – мы же Люсю в семью отдаем, а вы, етс самое, что-то не рады.
– Так надо отдавать в нормальные семьи, – вполне логично сказал я.
– А если их нет?
– Тогда не отдавать! – в сердцах воскликнул я.
– Вот и я так же думал, – произнес директор, – мне выговор в области дали, етс самое, письменный, за недостаточно интенсивный процесс раздачи детей и срыв всеобщей кампании. Сами знаете, у нас как: коммунисты ушли, а дурдом остался, етс самое, компанейщина! Все вдруг детдомовскими детьми озаботились, все радетелями за них стали. Они там в кабинетах сидят и за детдомовцев душой болеют по команде! А я, етс самое, этих детей за двадцать лет сколько вырастил с пеленок и до тюрьмы, так я, видите ли, черствым стал! А приказ же вышел – добрым быть! Так что не отдавать детей теперь – это все равно что против ветра… ну в общем, етс самое, нерационально. Хожу, детей, как на рынке товар, предлагаю.
Мы помолчали.
– И еще, – добавил Евграф Семеныч, – я могу спрогнозировать, как все дальше будет, ест самое, примерно. Детей отдадим, ставки сократим, а то и вовсе детдом закроем, все отчитаются в достигнутых успехах, кампания забудется, ест самое, благополучно. А детей начнут массово возвращать, потому что они у нас не ангелы, а, етс самое, наоборот. А брать их будет некуда, потому что детдома не будет!
– Надо же что-то делать!
– Если я что-то буду делать, нас закроют еще быстрее, – печально изрек Евграф Семеныч. – Поживем, увидим, может, ей все равно в семье-то лучше. Да и Геннадий – человек неплохой, а даже, етс самое, наоборот.
Возле дома меня уже ждал Геннадий. Он был хмур, непривычно трезв и настроен на серьезный разговор.
– Слышь, Петрович, ты, говорят, к Семенычу ходил, отговаривал его, чтобы Люську мне не отдавал. Давай мне прямо скажи, я что, не достоин?
Скорость распространения информации по удивительно оперативным деревенским каналам впечатляла, она явно была выше световой.
– А ты сам-то как думаешь? Чего-то сегодня ты не как всегда, трезвый, и даже по деревне не бегаешь, полсотни на пузырь не ищешь. Надолго?
У Чекушкина заиграли желваки. Кажется, он собрался убедить меня традиционным деревенским способом – кулаком в лобешник. Я сделал шаг назад. Но я опасался зря, Чекушкин был на такое не способен.
Он вздохнул: – Да я, Лексеич, все ведь понимаю. Но я пить брошу. То есть уже бросил. Вчера. Мне сейчас нельзя, надо будет Люську кормить, на ноги поднимать. Так-то я ведь сопьюсь совсем. Я не Люську спасаю, она и в детдоме вырастет, я себя спасаю, потому что смысл в жизни моей никчемной какой-то появляется. А ей ведь по-любому у меня лучше будет, чем в детдоме. Да и Васильевна моя пирожки да блины вон как делает. Девка хоть домашней пищи поест.
– Смотри, Геннадий, если не так выйдет, то помни, что ты ребенку можешь жизнь сломать.
– Да чо ты меня, как пацана несмышленого, учишь, я тебя постарше буду, всякое в жизни повидал, – наконец оскорбился Геннадий. – Я уже женихался, а тебя еще в проекте не было, даже на ближайшую семилетку. Понял?
– Да понял я, понял! Ну, бывай!
– И ты, не кашляй.
Вскоре Люся сменила статус «инкубаторской» на «деревенскую». Геннадий действительно завязал с выпивкой. Сразу и кардинально. Он как-то помолодел и посвежел. После работы он уже не сидел бесцельно в своей подвальной каморе, а убегал домой, где начал что-то строить. В выходные стал интенсивно халтурить: класть печи, строить заборы и т. п. Причем к недоумению, а порой и недовольству народа, водкой плату не брал, а исключительно деньгами.
Люська внешне и внутренне одомашнилась. Ей справили одежду, купили нормальную, хоть и китайскую обувь. Ее новая школьная сумка, купленная Геннадием на рынке в городе, была более дешевой, чем портфели, подаренные шефами всем детдомовцам. Но понятно, что главным было не это, а то, что сумка куплена индивидуально для нее, своим взрослым человеком, заботящимся индивидуально о ней. Необъяснимая, но хорошо читаемая детдомовская печать стала на Люсе довольно быстро тускнеть. Было видно, что она пока еще не привыкла к своему новому положению, поэтому после уроков бежала домой с приятным ощущением праздника, связанного с избавлением от казарменной государственной заботы.
Успехи в приручении коберула налицо. Он уже не гавкает и не кидается на меня, а осторожно подходит метра на три и выжидательно стоит, пока не получит положенную подачку. Его реакция вполне понятна, но удивляет другое – мое собственное к нему отношение. Он стал казаться как-то симпатичнее и даже умнее, чем раньше. Наверное, с учениками точно такая же картина. Те дети, которые покорно проглатывают знаниевые подачки, представляются более умными и симпатичными, чем те, которые кусают тебя за руку или лодыжку.
ФевральБеда никогда не приходит одна. С ней идут сочувствующие.
Михаил Мишин
В нашем классе произошла убыль. На мой вопрос: – А где Дымкова? Она когда будет мне все долги сдавать? – мне хором ответили: – А ее больше нет!
– Как это, нет?! – удивился я.
– Она будет учиться в области, в новой школе, открытой специально для одаренных! – почтительно поведал Толя Черепанов. После воспитательных манипуляций носом о подоконник он говорил со мной исключительно вежливо.
– Одаренных?! – все больше удивлялся я, – в какой же области, интересно, является одаренной наша Танька?
– В музыке!
– Вот ведь, – умиленно обрадовался я, – не только у младших деньги отбирать может. Никогда бы не подумал, что за внешностью Таньки Дымковой скрывается нежная душа музыканта.
Когда я искренне поделился своей радостной новостью в учительской, меня подняли на смех.
УШУ по-матерински взъерошила волосы на моем затылке со словами: – Вот она, святая наивность!
Я стоял, как Володя Шарапов перед Жегловым или как доктор Ватсон перед Шерлоком Холмсом, в общем, как дурак. Видимо, я не один так подумал. – Да ты не дуйся, Володя! – словами из фильма успокоила меня УШУ. – Здесь все элементарно, Ватсон. Кто же хорошего ребенка да своими руками куда-то отправит, чтоб ему взамен какого-нибудь утырка прислали? Пока есть возможность, сплавляют кого похуже. Я представляю, точнее, не представляю, что там в этом интернате будет, когда «одаренные» со всей области вокруг рояля соберутся.
Мои ощущения урока по сравнению с сентябрьским кошмаром претерпели значительные метаморфозы.
Во-первых, при планировании урока я сразу мысленно представлял, как это будет на самом деле, и довольно часто угадывал. Это позволило мне отбрасывать некоторые, заведомо неприемлемые варианты еще до стадии практического воплощения.
Во-вторых, я начал видеть класс, весь целиком, охватывая его каким-то боковым зрением. Если что-то шло не так, как запланировано, подсознание подавало «алярм», и я делал стойку, как хорошая борзая. Если по моей команде открыть тетради кто-то этого не делал, то я сразу видел нарушение структуры пространства в этом месте и пресекал зреющее неповиновение в самом зародыше. Ученик чувствует, что каждое его движение контролируется, поэтому крамольное желание заняться на уроке чем-то посторонним даже не возникает.
В-третьих, я перестал нервничать и расстраиваться на уроках, при возникшем затруднении эмоции уже не захлестывают, голова, как у настоящих чекистов, остается холодной. И когда я внешне гневаюсь, то только потому, что считаю такое поведение в данной ситуации целесообразным. Раздолбай, над которым поначалу сильно хотелось совершить смертоубийство, теперь воспринимается как профессиональный вызов: а не слабо ли тебе, Петрович, сделать так, чтобы он на уроке хотя бы минут на пятнадцать внеучебно-развлекательную деятельность сменил на учебно-познавательную? В случае неудачи возникает не злость на ученика, а досада по поводу своих неверных действий.
Так, например, в 8 классе появился новенький, переведенный из другого детдома за не совсем примерное поведение, по бартеру. Он уселся на последней парте и заскучал. Где-то в середине урока его осенило, на развернутом листке крупно и жирно он написал слово, недостойное джентльмена. Затем по ряду он отправил это ко мне на стол. Пока послание добиралось, я успел прочесть его нехитрое содержание и придумать линию поведения. Когда письмо попало в мои руки, я свернул его и, сделав вид, что не прочитал, положил на стол: – Извини, Миша, сейчас некогда, после урока останься, сам скажешь, что хотел.
Нетерпеливо ждавшие моей реакции зрители были явно разочарованы такой неинтересной развязкой. Они вопросительно и несколько сочувственно обратили свои взоры на Мишу. Я свой ход сделал, теперь его очередь. Болельщики ждут продолжения поединка. Но соперник растерялся и не ответил, а все оставшееся время урока мучился неизвестностью предстоящего наказания.
Когда после звонка все вышли, я посадил Мишу напротив себя. Гибель героя должна происходить прилюдно, поэтому в отсутствии ценителей его крутости Мишин задор сильно угас. Я вручил ему листок: – Читай!
Миша насупился. Как и предполагалось, читать это вслух, да еще со мной наедине, он не рассчитывал.
Я начал проверять тетради. В молчании прошло минут десять. У Миши на лбу выступили капли пота. Видимо, электрические импульсы судорожно метающихся мыслей, согласно закону Джоуля-Ленца, сильно нагрели его мозг. Ему сейчас можно только посочувствовать.
Наконец, я жалею его. – Что, не хочешь читать? Правильно, что не хочешь, молодец. Порви тогда.
Он тщательно уничтожает документ до состояния конфетти.
– Выкинь это в мусорное ведро и свободен!
На этом инцидент я считаю исчерпанным и принципиально ничего не сообщаю ни классному руководителю, ни воспитателям.
После я еще несколько раз прокрутил ситуацию в голове и к собственному удовольствию пришел к выводу, что вариант моих действий был практически оптимален. Миша и дальше был не ангел, но наши отношения можно назвать вполне приемлемыми, а его поведение на моих уроках – удовлетворительным.
Справедливости ради должен отметить, что таких удачных решений было все же пока меньше, чем явно провальных. Однажды я не увидел, что Леня Букрин (довольно тщедушный и обычно тихий паренек из 9 класса) сильно взбудоражен (как позже оказалось, перед уроком он подрался с недругом из параллельного класса), и довольно резко посоветовал ему включиться в общую работу. В ответ Леня грубо послал всех присутствующих, вскочил и, как лось, ринулся из класса, опрокинув по дороге стул с находящейся на нем в данный момент Таней Берсеневой.
Конечно, можно устроить по этому поводу показательную воспитательную кампанию и «нажалобиться» всем, кто только имеет отношение к этому несчастному ученику. Но это прежде всего мой просчет: не увидел его явно дрожащих рук, неадекватного восприятия происходящего и синяка под глазом. Разведчику-профессионалу такое непростительно. А ведь куда как проще: минут 10–15 не обращать на него никакого внимания, а затем, когда он чуть успокоится и адреналин перестанет его трясти, спокойно и доброжелательно дать ему чего-нибудь выписывать из учебника.
Теперь мысленная «прокачка» во время урока проходит примерно так.
Здороваюсь. Все встали, Кожин не встал. Не видит меня. Делать замечание? Рано, это будет слишком. Пристально смотрю на него долю секунды. Кожинский сосед по парте замечает мой взгляд и толкает его. Порядок. Дальше. Главное не терять темпа.
Говорю: – Садитесь.
Сели. Листочки на партах положены заранее. Открываю задание из пяти вопросов на доске, говорю:
– Проверочная работа – 7 минут, время пошло!
Смотрю на часы, засекаю время, окидываю класс: Черепанов не пишет. Вопросительно киваю ему головой.
– Ручки нет, – отвечает он.
Даю ручку как можно быстрее, но без суеты. Снова смотрю. Чижова с Пестовой шушукаются. Подхожу к их парте и останавливаюсь напротив. Они утыкаются в листочки. Всё. Однообразие склоненных над заданием голов радует. Прошло четыре минуты, сейчас Заманова должна обнаружить, что ничего не знает. Если горечь этого открытия не компенсировать, ребенок получит очередную психическую травму, внешне выражающуюся в метании книг и других подручных предметов на пол. Предупредительно продвигаюсь к ней.
– Галя, – ласково говорю я ей, – ты только не нервничай, а вот ответ на первое задание спиши вот с этой страницы, а если сама еще хоть на один вопрос ответишь, будешь вообще молодец!
Вовремя! Чуть не опоздал! Оттопыривание губы и набыченность взора показывали близость Галиного терпения к критическому порогу.
– Прошло 7 минут. – Заканчиваем! – говорю я и даю еще 30 секунд.
– Открываем тетради, пишем тему и число с доски! – восклицаю на бегу. Народ начинает списывать с доски. Мне хватает времени, чтобы пробежать по всем рядам и собрать листочки. Газизов не успел дописать. Вырвать из рук? Жалко. Он не виноват, что медленно пишет по-русски. Стоять и ждать? Потеря темпа. Принимаю решение. Пусть дописывает. Разворачиваюсь к доске, добегаю, поворачиваюсь: – Проверяем, ответы давать с места.
Для набирания нужного темпа первые вопросы задаю отличникам:
– Тюленёв, первый вопрос!
– Давление в жидкости при неизменном ускорении свободного падения зависит от высоты столба и ее плотности.
– Правильно. Второй вопрос – Урванцев.
– Давление больше в воде, потому что у керосина меньшая плотность.
– Точно!
– Газизов, неси свой листок сюда. Что ответил на третий вопрос?
– Тыщча кылопаскалей, – отвечает Газизов, гордо вручая мне листок.
– Молодец! – говорю я ему, – почти правильно. У кого другой ответ? Почти все поднимают руки. – Андрей?
– Сто паскалей.
– В чем ошибка предыдущего ответа, догадался?
– Да, Газиз квадратные сантиметры в квадратные метры не перевел.
Чтобы не утратить темп, следующие два вопроса не разбираем. Просто поворачиваю вторую створку доски, там все ответы, и спрашиваю: – Вопросы?
Черепанов поднимает руку.
– Слушаю!
– Кто сегодня по классу дежурный?
Проще и главное быстрее ответить, но делать этого нельзя из воспитательных соображений.
– Все вопросы не по уроку – после урока. И никогда не задавай мне посторонних вопросов на занятиях, если это срочно не требуется. Понятно?
На слове «понятно» немного повышаю голос и подпускаю в него чутка металла. Как можно мрачнее смотрю на Черепанова, изображая из себя сурового, но справедливого шерифа на диком Западе.
– Понятно, – бурчит Черепанов, потупляет взор и прячет «кольты» в кобуру.
Вопросов больше нет. Часть урока прошла, а я по-прежнему вожак стаи. Бросаю взгляд на часы – прошло уже чуть больше 10 минут урока, время, оптимальное для изучения новой темы.
– Как-то недавно по телевидению был показан репортаж из Англии, кит выбросился на берег. Его спасали всем миром, но он слишком долго пролежал на берегу и погиб. Кто скажет, отчего погибают киты на берегу?
Бакланов поднимает руку:
– Потому что он задыхается!
– А почему он задыхается? – спрашиваю я его.
– Как это почему? – удивляется Бакланов глупости моего вопроса, – потому что он же водой дышит, а на берегу воды нет!
– Так в том и дело, что дышит-то он воздухом, как мы с тобой, но на берегу, тем не менее, задыхается! – возражаю я.
– Ладно, другой вопрос, – тороплюсь я, стараясь опередить Тюленёва, который, конечно же, ответит, но будет делать это долго и обстоятельно, совершенно непонятно для непосвященных, – можно ли плавать по воздуху? Секундная пауза. Не даю опомниться: – А почему огромный авианосец массой несколько тысяч тонн плавает, а кнопка тонет? Почему в Мертвом море нельзя утонуть? Как устроена подводная лодка? Почему шоколадная конфетка «скачет» в шампанском? Вот на эти и многие другие интересные вопросы мы получим ответы, изучив очень интересную тему – «Архимедова сила».
Обвожу взглядом класс. Заманова считает петли в своем вечном вязании, Тюленёв-спортсмен смотрит в окно, Бондарчук копает мизинцем в ухе, остальные с большей или меньшей степенью интереса смотрят на меня. Это уже неплохо. Сейчас добьем остальных.
Жду, пока кто-то на последний вопрос клюнет. Жду. Неужели самому придется. Есть! Шибалов:
– И чо, как это – скачет в шампанском?
Молодец все же Шибалов, как маленький голодный окунек, заглатывает с ходу любую наживку. Со вкусом и не торопясь подсекаю: – Шампанское заменим минералкой. Главное, чтобы минералка холодная была, а шоколадка – теплая.
Наклоняюсь, достаю из-под кафедры высокий прозрачный фужер, холодную запотевшую бутылку с минералкой и плитку шоколада.
Бондарчук убрал палец из уха, Тюленёв-спортсмен тоже меня заметил, даже Галя, поддавшись атмосфере общего оживления, бросила вязание и вытянула шею, чтобы узнать, что это такое там происходит.
Торжественно опускаю шоколадку в фужер с минералкой. Она тонет, затем обрастает серебром пузырьков газа и всплывает. На поверхности пузырьки лопаются, шоколадка снова ныряет в глубь фужера.
Наблюдаю три всплытия шоколадки и убираю фужер обратно под стол. Народ в безмолвном восхищении.
– Теперь попробуем дать объяснение наблюдаемому явлению, а на основе полученных теоретических выводов ответим не только на этот вопрос, но и на все остальные.
Рисую на доске прямоугольник, над ним волнистую линию. – Это тело, погруженное под воду. Что чувствует это тело? Каждому знакомо ощущение, когда вода сдавливает грудь, когда летом вы первый раз купаетесь и потихоньку заходите в воду. На это тело тоже оказывается давление жидкости, причем со всех сторон. Давайте найдем это результирующее давление.
Окидываю класс контрольным взглядом – все срисовывают это чувствительное тело в свои тетради. Чижова уже все изобразила и с готовностью к дальнейшим действиям смотрит на меня.
– Настя? – обращаюсь я к ней, – можешь найти давление, действующее на каждую стенку тела? Иди быстренько сделай это на доске.
Настя выходит и довольно уверенно находит давление, действующее на тело сверху, снизу и сбоку.
Затем я вывожу формулу архимедовой силы и многозначительно обвожу ее двойной рамкой.
Снова взгляд на класс. Пишут все, кроме Гали, но уже без «энтузазизма». Нутром чувствую, что электорат теоретический экскурс принял прохладно и вот-вот начнет «тухнуть». Пора следующий гвоздь программы доставать. Вынимаю на всеобщее обозрение установку, загадочно называемую «Ведерки Архимеда». Установка крайне нехитрая, но внешне выглядит вполне интригующе, и главное, демонстрация весьма наглядно показывает суть явления потери веса телом, погруженным в жидкость. Рейтинг внимания к моей передаче снова поднялся. Рассказываю про установку, показываю, что объем цилиндрика в точности равен объему ведерка, затем задаю вопрос: – Что будет наблюдаться, если вот этот цилиндрик погрузить в отливной стакан, по самый носик заполненный водой?
– Ну чо? – отвечают мне, – понятно чо, – вот через этот носик вода и будет выливаться.
– А сколько воды выльется?
– Сколько? В аккурат как цилиндрик.
– Что как цилиндрик? Масса будет такой же, плотность или еще что-то?
– Масса! – выкрикивает Бондарчук.
– Дурак! – деликатно поправляют его, – объем.
– А, да, объем! – снова орет Бондарчук.
Но я хочу обратить ваше внимание не только на выливающуюся воду, но в первую очередь на показания динамометра. Как они изменятся? И почему?
– Динамометр покажет уменьшение веса, – отвечает Будильник, – потому что на него действует Архимед.
– Сам лично? – уточняю я.
– Я хотел сказать – сила Архимеда, – поправляется Будильник под общий смех.
Тюленёв-спортсмен снова начинает коситься в окно.
– Ну, поехали! – восклицаю я, – смотрим внимательно, и Тюленёв тоже!
Начинаю манипулировать всей конструкцией так, чтобы цилиндрик плавно вошел в отливной стаканчик, не задевал его стенок и, главное, не доставал до дна. Вода побежала в подставленную мензурку.
– Как видите, тело, погруженное в жидкость, вытесняет эту жидкость и теряет в весе, – комментирую я, показывая пальцем на стрелку динамометра, – вес тела, бывший у него до погружения, остался отмеченным вот этой подвижной красной меткой.
Пока я это говорю, вся вода успевает вылиться. Жду, пока последние капли упадут в мензурку, затем поднимаю ее, чтобы все видели и спрашиваю: – Кто уже догадался, что надо дальше делать?








