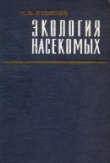Текст книги "Четыре четверти: учебное пособие"
Автор книги: Александр Усольцев
Жанр:
Детская психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ты опасен для общества! – вынесла вердикт блондинка. – Твое место в тюрьме!
– Но вы, наверное, видели, чем я занимаюсь. Да и чего в деревне скрывать, если и так все знают? – продолжил Иван Кузьмич.
– Почему ты бросил меня с детьми на улице? – укоризненно спросила блондинка.
Иван Кузьмич выключил ей звук и продолжил:
– А чем еще здесь заниматься? Только самому пить. А качество у меня отменное, спирт у меня нормальный, вода чистая, из колодца. Никто с моей водки не умер и даже не залимонил. А народ пьет по-черному. Если я не буду торговать, так другие найдутся. Хотя у народа денег нет, вот барахло всякое и тащат.
– А почему вас мужик Часиками называл? – осторожно спросил я. Боязнь обидеть Мишиного родителя уступила жажде продолжения классификации деревенских кличек.
– А! – махнул рукой папа. – Минутку.
Он удалился и вынес трехлитровую стеклянную банку, доверху заполненную наручными часами.
Не мне одному зрелище показалось фантастическим. Блондинка в телевизоре, увидев банку, беззвучно погрузилась в обморок или даже в кому.
– Откуда это?!
– Это в залог оставляли. А теперь я уже часы не беру ни в оплату, ни в залог. Мне до конца жизни этих хватит, – объяснил счастливый владелец трехлитровой банки со временем. – Поэтому меня Часиками зовут, а Мишку – Будильником. Он у меня действительно толстоват, как будильник.
На обратном пути Тарзан снова недружественно обрызгал меня слюной, а Иван Кузьмич дружественно чуть не сломал мне пальцы при пожатии и предложил в случае затруднений обращаться за водкой к нему. Бесплатно!
Все-таки посещение родителей имеет свой глубинный жизненный смысл.
Апофеозом одиссеи по родителям стало посещение самого большого дома – детского.
Молодая сотрудница Верочка, занимающаяся документацией детей, кокетливо строит мне глазки. Строить глазки и одновременно искать личные дела получается плохо, поэтому Верочка долго копошится. Наконец, она с трудом тащит стопку серых, картонных папок к столу и грохает ею по столешнице. Углубляюсь в личные дела моих подопечных.
Верочка еще некоторое время ведет пальбу глазами, затем обиженно уходит.
Первым делом, конечно, смотрю личное дело Люси.
Итак, мама погибла, папа за убийство мамы сидит. В детском доме Люся с пяти лет, в этом – с семи. В примечании отмечено, что трагедия произошла на глазах маленькой Люси. Но, видимо, не настолько маленькой, чтобы не понимать всего ужаса происшедшего, поэтому Люся долго не говорила.
Бондарчук Витя определен в детский дом с 7 лет. Поступил сначала в больницу в состоянии дистрофии и завшивленности. Родители оба живы, но лишены родительских прав по причине своей болезни – хронического алкоголизма.
Родители Дымковой Тани в розыске. Если после запросов в пять ближайших областей они не найдутся, она получит статус сироты. Таня успела побывать в четырех детских домах разных регионов, площадь которых в несколько раз больше площади Европы. Из этих детдомов она «делала ноги». Находилась милиционерами преимущественно на вокзалах, один раз даже на водном вокзале в Волгограде. Помещалась в детприемник, откуда препровождалась в очередной приют.
Заманова Галя имеет биографию, почти в точности повторяющую историю Бондарчука. Имеет старшего брата, обучающегося в 9-м классе. Подчиняется только ему и никому другому (это в личном деле не написано, это – из собственных наблюдений).
Интересна история жизни Черепанова Толи. Его родители – торговцы наркотиками. Когда их посадили, Толя жил с дядей по отцовской линии. Дядя, судя по всему, был вор и бандит, причем мелкого пошиба. Через два года дядя погиб в драке, а Толя определен в Тюленёвский детский дом. Под руководством дяди Толик осваивал сложную и интересную профессию форточника, за что и был поставлен на учет в милицию. В детском доме Толик квалификацию оттачивал, воровал деньги из воспитательских сумок, лазил по домам местных жителей и практиковался в мелком бандитизме.
Подведем итог: реальных сирот в моем классе нет. У каждого есть хоть один живой предок, который одарил своего ребенка лишь одним – дурными генами.
Вдруг я вспомнил ужасные Люсины ботинки и решил попутно сделать доброе дело, попросить дать ей нормальную обувь. Знакомство с воспитателями и завхозом прошло очень успешно, но безрезультатно. Все они были милы и обаятельны, но обуви другой дать не могли. В поисках черевичек я добрался и до царя – директора.
Евграф Семенович лет так через десять мог с натяжкой называться Семенычем, но на Евграфа не тянул принципиально. Средних лет мужичок, небольшого роста и обычной рабоче-крестьянской внешности, из особых примет имеет только одну – во время разговора все время вставляет фразу – «етс самое».
– Здравствуйте, Алексей Петрович, подождите меня, я, етс самое, на минутку отлучусь, посидите, етс самое, вот тут на диванчике, на рыбок посмотрите, нервы успокойте, – поприветствовал меня Евграф Семенович и скрылся за дверью.
Рыбки действительно забавны. Смотреть на рыбок я любил, потому что их толкотня в аквариуме отчетливо доказывает бессмысленность бытия. Если и был какой-то смысл существования их ограниченного стеклянными стенками мира, то только в загадочном и периодичном появлении корма.
Мой мир ограничивался с одной стороны рекой, с другой – лесом, зарплата также появлялась загадочно и периодично, но думать, что смысл заключается только в ней, не хотелось.
Директор зашел в дверь задом вперед, его толкала длиннющая и узкая коробка, по окончании которой обнаружился работник детдома дядя Ваня. Они долго кряхтели, совершая сложные пространственные манипуляции с целью помещения коробки внутри пространства директорского кабинета. Наконец, в ходе топологических исследований было выяснено, что коробка размещается только по диагонали. Когда свободная диагональ комнаты была задействована, дядя Ваня кратко, в емкой нецензурной форме выразил глубочайшее сомнение в целесообразности этого предмета и удалился с чувством выполнившего свою работу пролетария.
– Шефы, етс самое, подарили, – туманно пояснил директор, перешагнул коробку и уселся за свой стол.
– Евграф Семенович! Я уже с воспитателями беседовал и с завхозом вашим, никто не может помочь!
– Я слушаю, слушаю, – рассеянно произнес директор, задумчиво уставясь на коробку.
– Евграф Семенович! Почему Люсе нельзя выдать нормальную обувь? У вас что, обуви нет?
– Нет, – просто ответил Семенович, оторвал взгляд от коробки и честно и открыто посмотрел в мои глаза.
– Вообще? – тупо спросил я.
– Вообще – есть, нормальной – нет.
– Почему?! – продолжал я задавать вопросы, не имеющие ответа.
Ответ «по кочану» был бы, наверное, самым логичным, но Семенович дипломатично проглотил это слово, поэтому осталась незаполненная пауза.
– Но есть же государственное снабжение, на это же выделяют деньги, можно же на них купить ребенку нормальную обувь, а не эти черные колоды, – несколько раздраженно сказал я и несколько запоздало подумал, что в моих словах есть какой-то намек на воровство.
Но директор, если этот намек и уловил, то никак на него не отреагировал.
– Ах, бросьте! – он вяло взмахнул рукой и продолжил: – Должно – еще не значит есть. Вы знаете, что к нам в область собирается президент с проверкой работы детских домов, поэтому деньги нам вообще перестали давать практически по всем статьям, кроме, естественно, еды и зарплаты.
– Как это?! – поразился я такой логике. – Должны же, наоборот, все средства на детдома кинуть!
– Правильно! – обрадовался директор, услышав от меня нечто разумное. – Только вы логику-то дальше, етс самое, развивайте. Средства надо кинуть не на все детдома, а только на тот, в который президента повезут. Поэтому в областном детдоме, наверное, уже унитазы, етс самое, золотые поставили, а мы в нашей глухомани на голодном пайке из-за этого еще полгода сидеть будем.
Директор вяло пнул коробку:
– Зато вот, подарили!
– А что это? – не удержался я от вопроса, мучившего меня с самого начала разговора.
– Длинное что-то, – исчерпывающе ответил директор, встал и подвел итог: – В общем, так: это хорошо, что вы за Люсю переживаете, к нам нечасто классные руководители бегают обувь нашим детям выбивать, будет возможность – в первую очередь. А пока, етс самое, в этом походит, обувь хоть и страшненькая, но добротная. До свидания.
– Так что же в этой коробке? – думал я по дороге домой.
Вечером меня почтил дружественным неофициальным визитом Свисток, в миру – Иван Михалыч. Он вызвал меня на крыльцо, долго кашлял, наконец решился: – Ты, это, моему Тюленёву, говорят, за четверть «пару» влепил?
– Влепил.
– А что так?
– А что, ему можно еще что-то другое ставить? – возмутился я. – Он же даже цвет учебника по физике не знает.
– А если мы выучим? – после некоторых раздумий молвил Свисток.
– Что выучим? – с надеждой спросил я.
– Цвет учебника.
– Да вы что, Иван Михайлович, издеваетесь что ли? – вознегодовал я. – Вы хотя бы выучите все формулы и определения, которые я к зачету давал, тогда «трояк» поставлю!
– Срок? – сухо уточнил Михалыч.
– Завтра после уроков – край, я уже оценки должен в журнале выставить! – отрезал я.
Михалыч подумал и авторитетно молвил: – К этому сроку только цвет учебника.
Я развел руками.
– Слушай, будь человеком, войди в положение, парень на сборах в лагере целое лето пахал, как конь, сейчас вот, как вол, с лыжными палками по горкам объемы мотает. Он уже в прошлую зиму первый разряд по лыжам выполнил, бежал любо-дорого: сопля – пузырем, трусы – парусом. Он – «боец»! Будет заниматься, ей-богу, мастера сделает. Ну на фига ему твоя физика сдалась? – начал ломать меня Михалыч.
– Может и на фига, но требования ко всем одинаковые, в том числе и к волам с палками, – не сдавался я.
Михалыч описал все тяготы и лишения подготовки лыжника к сезону, перечислил лыжников – олимпийских чемпионов и даже показал технику переменного бесшажного лыжного хода. Я был тверд.
Тогда Михалыч перешел к шантажу.
– Я же твоему Тюленёву поставил «четыре», а надо тоже «два» ставить, потому что он, наверное, в физике разбирается, но у меня на физкультуре – полный «труп»! Если к завтрашнему дню не научится на километре хотя бы из пяти минут выбегать, ей-богу, поставлю «двояк». Так что давай, обмен равнозначный: Тюленёва меняю на Тюленёва! – бессовестно заявил он.
Но что-то подсказывало мне, что Михалыч блефует, не сделает он такой подлости. Сашка, он же умница, зачем ему физра?
– Нет! Извините меня, но ничего я менять не буду, – закончил я.
– Ладно, ты тоже извиняй, но пободаемся! – Михалыч пошел к калитке, потом вдруг повернулся: – А цвет-то какой у учебника? Вдруг мы выучим и ты передумаешь?
– Цвет – синий, но я не передумаю, – рассмеялся я.
На следующий день, прямо с утра, еще до уроков завучиха пригласила меня в кабинет.
– Вы догадываетесь, зачем я вас позвала? – спросила она так, как спрашивают нашкодившего ученика.
– Нет! Даже никаких предположений, – искренне ответил я.
– Вы Тюленёву действительно «два» поставили? – сразу перешла к делу завучиха.
– Нет, конечно, я ему с удовольствием поставил «пять», он у меня еще на олимпиаду поедет, – не удержался от стеба я.
У моей начальственной собеседницы промелькнула некая тень улыбки. – Вы же понимаете, что речь сейчас о другом Тюленёве.
– Значит, вам Михалыч уже успел настучать? – возмутился я.
– Во-первых, я не думаю, что слово «стучать» уместно в отношении уважаемого и пожилого человека, которого зовут не Михалыч, а Иван Михайлович, во-вторых, попробуйте общаться без уголовного сленга, в-третьих, коли вы уже используете это слово, то должны знать, что оно означает тайное сообщение, а Иван Михайлович ничего не скрывает, а честно пытается помочь своему воспитаннику, о чем он вас вчера и предупредил.
– Простите, – смутился я.
Но, умножив меня на ноль, завучиха не остановилась на достигнутом, из полученной величины она решила взять еще и логарифм. Причем по основанию «два».
– Так вот. Своими «двойками» вы, голубчик, портите нам всю отчетность школы, так как понижаете процент успеваемости. Если вы все же не измените своей точки зрения, то я прошу вас предоставить мне журнал индивидуальной работы с неуспевающими, тематический план дополнительных занятий конкретно с Тюленёвым и все конспекты этих занятий. Кроме того, прошу представить отчет о работе с родителями Тюленёва, так как вы должны были предупредить их недели за две до конца четверти. Все это мне хотелось бы видеть сразу после окончания шестого урока.
– Но у меня нет этих планов, мне никто не говорил, что они нужны, – растерянно пробормотал я. Мои войска были разбиты и в панике уходили за Березину.
– Вот и хорошо, – завучиха облегченно откинулась на кресле, – и не надо. – Спросите еще раз Тюленёва, изыщите в нем, так сказать, умственные резервы. Пусть он о физике лыжного бега расскажет, что ли.
Гвардия, опомнившись от натиска противника, заняла последний рубеж на мосту моих педагогических убеждений.
– Вы знаете, Нина Ивановна, я так просто не могу. Я обещал, что, если он не выполнит моих требований, я ему «пару» вкачу. Он не выполнил. Если я ему сейчас «трояк» поставлю, то как же я его дальше буду учить?
– Значит, требования надо было выдвигать приемлемые и ребенка стимулировать к их выполнению! А не вспоминать об этом в конце четверти!
– А я стимулировал! – запротестовал я.
– Значит, плохо стимулировал! – отрезала МЧС.
– Алгоритм такой: ставите «двойку» – ко мне с планами работы, нет планов – к директору.
И по старой смоленской дороге я поплелся к себе в кабинет.
Если бы я выучился на таксидермиста, моим первым чучелом стал бы Тюленёв.
Директор разговаривал по телефону с завхозом, заброшенным в город с утренним автобусом для выбивания угля на зиму. Увидев меня, он махнул рукой на стул. Я сел.
– А если уголь будет таким же, как в прошлый год, то лучше сразу пошли его в ж…у! – этими словами руководитель муниципального общеобразовательного учреждения напутствовал своего зама и злобно бросил трубку.
Затем он не менее злобно посмотрел на стену сквозь меня. Наконец тормоз сработал, стало физически слышно, как потрескивают раскалившиеся тормозные колодки в его мозгах. Но скорость была все еще большой. – Так, в общем надо Тюленёву поставить «тройку». В общем, все! Вопросы есть?
– Есть! Я все же педагог, и мне решать, какую отметку ставить моему ученику! – я стал смелым, как загнанная в угол крыса. – В конце концов, если меня принимают на работу, то мне и должны доверять как специалисту, а если так на меня давить, то зачем я тогда нужен. Пусть вон Чекушкин уроки ведет, он добрый – всем поставит, как вам надо. Будете школой с лучшим качеством образования в районе или даже в мире!
– Это хорошо, что у вас есть убеждения, – зловеще произнес директор, – но очень плохо, когда эти убеждения отстаиваются за счет других.
– Кого же, кроме меня и Тюленёва, это касается? – удивился я.
– Да всех, в общем, касается. Знаете, что по стране идет масштабный проект «Образование»? По этому проекту нам в район дали целых две пары пластиковых лыж. Михалыч под перспективного Тюленёва выпрашивает одну пару в районе. Эти лыжи, между прочим, как корова стоят. А корова в деревне – это состояние. Это первое. Второе. Если успеваемость у нас будет самой низкой в районе, как я буду выпрашивать деньги на теплый туалет? Мне заврайно скажет, у тебя там сплошные двоечники, зачем таким засранцам теплый туалет? Стоят ли ваши принципы теплого туалета? Принципы ваши, туалет– общий. Да и принципы ваши не шибко пострадают, если разобраться. Там не одному Тюленёву надо «двойку» ставить, а еще доброму десятку лоботрясов. Вы им, однако, «троечки»-то налепили. А если всем объективно поставить, то школу закроют и мы все останемся без работы, а дети без образования. В конце-то концов, у Тюленёва, можно сказать, что есть профессия. Вот у вас в седьмом классе была профессия? Нет. А у него есть. Считать, что на вашем предмете свет клином сошелся, – глупо. Вы знаете, что такое коацерваты?
– Что? – удивился я последнему вопросу.
– Коацерваты, – повторил директор.
– Нет, но при чем они тут?
– А притом, что вы это на географии в школе учили, а не знаете. И ничего, живете себе и считаете себя, наверное, полноценным человеком. А географ или биолог так не считает, потому что не может быть счастья у человека, если он про коацерваты не знает. А был бы у вас учитель географии принципиальный и поставил бы вам «двойку», вы бы, может, не физику сейчас преподавали, а географию изучали. Колымы.
Дальше директор снова вернулся к туалетной теме.
– Если здоровье вам позволяет или дом рядом, то вы не почтили бы своим присутствием наш школьный сортир. Сходите, пожалуйста, туда на экскурсию. Рекомендую в декабре. С ветерком под минус двадцать. Утром, пока темно. И подумайте – стоит ли избавление от всего этого всех детей и учителей школы за «тройку» в журнале для одного оболтуса.
Директор меня не убедил. Вор должен сидеть в тюрьме, а двоечник – получать «двойку»! В этом заключается важный воспитательный момент и сермяжная правда. Никто и ничто не может заставить меня поступить иначе. Поставить Тюленёву «тройку» – значит предать свои педагогические убеждения.
В воскресенье мы с Люсей решили прогуляться по увядшему осеннему лесу. Баба Таня к таким праздным прогулкам, естественно, относилась отрицательно.
– Чо там делать? Грибов нет, ягод тоже. Чего впустую по лесу бродить? Далеко только не ходите, тут за огородом погуляйте, а то начнете блудить, уйдете в Паклинские леса, ищи вас там до заговенья.
Строго следуя наказу, мы вышли за огород и стали дрейфовать вдоль опушки. Скоро мы наткнулись на тропинку, уходящую вверх на самый высокий господствующий над деревней взгорок.
Тропинка была более чем странной. Посередине она была слегка взрыта, как будто по ней недавно пробежало небольшое стадо баранов. Слева и справа от этой полосы тянулись еще две узкие полоски, состоящие из множества неглубоких отверстий, как будто кто-то с маниакальным упорством долго тыкал в землю шпагой. Будь я уфологом, то обязательно бы написал статью об инопланетянах, гуляющих по ночам на паучьих ножках.
Пройдя половину подъема вдоль этой тропинки, мы устали и сели отдохнуть. Мой талант следопыта и фантазия уфолога не успели проявиться во всей своей красе, так как стала известна причина загадочного следа. Вверх по горе бежал Тюленёв-спортсмен. Он ритмично пыхтел, как хорошо отлаженный паровоз. В руках его мелькали лыжные палки, поэтому издалека было похоже, что он вбегает в гору на лыжах. Когда же лыжник приблизился, стало понятно, что лыжи он надеть забыл. Увидев нас, он уменьшил скорость, а потом перешел на шаг.
– Здравствуйте! – сказал Тюленёв, вытирая пот тыльной стороной тряпичной перчатки.
– Привет, – ответил я, – это у тебя тренировка?
– Да.
– И сколько ты пробегаешь?
– Еще четыре круга осталось. Каждый – по три кэмэ.
– Ничего себе! И сколько всего?
– В первую тренировку – пятнадцать.
– А что, еще и вторая есть? – искренне удивился я.
– Только в воскресенье. Скоро сезон, надо объемы мотать.
– Тяжело? – сочувственно спросил я, так как не представлял, как можно ребенку столько бегать, да еще в гору.
– Не очень. Только вот мозоли достают. Зимой на лыжах почему-то мозолей никогда не бывает, а летом, когда на роллерах или имитацию бегаешь, все руки истерешь!
Тюленёв снял свои дешевые, купленные в хозмаге перчатки с синими пупырышками, и я с ужасом увидел, что все его руки в пластырях, а на правой руке из-под пластыря бежит кровь…
Тюленёву за первую четверть я поставил «трояк». И за вторую четверть, и за год. А педагогическим убеждениям я не изменял, просто сами эти убеждения как-то вдруг изменились.
А кто недоволен, пусть возьмет палки и побегает вместе с Тюленёвым.
Четверть вторая. Vivace
НоябрьПолитик не представляет большинство, а создает большинство.
Стюарт Холл
Наступили настоящие зимние холода. Распотрошенная тракторами дорога замерзла и стала походить на карликовую копию гималайского хребта. Его пересечение требовало значительной координации движений и равновесия.
Для свиней наступила Варфоломеевская ночь, по всей деревне стоял поросячий визг, противно пахло паленым. Снег укрыл многочисленные помойки, создаваемые жителями на задах своих огородов. Наверное, природа устает от свинства россиян и поэтому надолго задергивает загаженную землю постоянно обновляемым покрывалом, чтобы солнце отдохнуло от вида везде разбросанных банок, пакетов и прочей бытовой дряни.
После пытки выставления итоговых оценок за четверть наконец-то наступили долгожданные каникулы. Слов нет – это кайф! Приятно пройтись по тихим школьным этажам, где никто тебя не пытается сбить с ног, не орет в ухо. И идешь ты не на боевой вылет к седьмому «Б» классу, а в учительскую обстоятельно точить лясы и перемывать кости отсутствующим в данный момент коллегам. А вместо проверки тетрадей и подготовки к урокам очень приятно до одурения гонять с охламонами мяч на стадионе или играть в волейбол в спортзале.
В естественной среде обитания охламоны ведут себя не так, как на уроке, а как нормальные, понимающие русскую речь люди. Поэтому с удивлением обнаруживаешь в них не только недостатки, но, как ни странно, достоинства. Например, Черепанов на футбольном поле просто бог. Он настолько хорошо играет в футбол, что я начал более снисходительно смотреть на его маленькие человеческие слабости, такие как незнание физики и воровство сигарет в сельмаге.
Однако наступившее внеземное блаженство оказалось слегка испорчено думами о будущем. Одна из таких мыслей приобрела назойливый характер умственного зуда. Это дума об Оценке. Хотелось избежать мучений с ее выставлением в конце четверти, чтобы не было конфликтов с учениками, администрацией и, самое главное, с самим собой.
Зуд завершился созданием гениальной, как мне тогда казалось, десятибалльной системы оценивания. Ее использование по замыслу педагога-новатора должно позволить официально отделить «тройку с плюсом» от «тройки с минусом», а «четверку с плюсом» сблизить с «пятеркой с минусом». Вместо уточнения скудных деревенских новостей в учительской я засел в кабинете.
В результате был рожден и торжественно прибит к стене плакат общей площадью 0,6 м2. В начертанных на нем скрижалях отныне и навеки четко определяются критерии оценки. Издалека они очень похожи на десять заповедей. Вблизи же можно прочитать следующее:
Критерии оценки по физике:
10 – превосходно;
9 – отлично, лучше некуда;
8 – отлично, но можно и лучше;
7– хорошо, почти отлично;
6 – хорошо;
5 – так себе;
4 – удовлетворительно, на грани фола;
3 – плохо, но бывает и хуже;
2 – хуже некуда;
1 – ни бе, ни ме, ни кукареку.
Однажды по возвращении из школы на крыльце своего дома я обнаружил трезвого, а потому до крайности грустного Чекушкина. Увидев меня, он встал и изобразил некое подобие полупоклона, выражая высочайшую степень почтения и уважения.
– Не проси, не дам! – вместо приветствия сразу выпалил я.
Но Чекушкин, будучи в потребности опохмелиться, был лучшим переговорщиком всех времен и народов.
– Пойми! – он приложил руки к груди. – Человек, если он человек, должен помогать другому человеку в беде. Всегда! Таков закон жизни! И неважно, отчего у него эта беда, от стихийного бедствия или от собственной душевной слабости.
Далее мне было указано на фатальное стечение двух обстоятельств: на стихийное бедствие в виде Чекушкиной жены, нашедшей опохмельную заначку, и некоторую душевную слабость самого Чекушки, выражавшуюся в очередном усиленном стремлении к спиртному.
Через десять минут я сдался и направился в свою комнату, чтобы дать денег Чекушкину на чудесное возрождение его погибающего организма.
Но денег, оставленных мною утром перед работой в ящике стола, не было. Я перерыл все ящики и все места, куда я мог бы в задумчивости затолкнуть полученную накануне зарплату.
– Нет денег, – озадаченно сказал я вожделеющему Чекушке.
– Эх ты! На чекушку жмешься! – опечаленный несовершенством моей души Чекушкин удалился.
Я снова принялся искать деньги, пока со всей отчетливостью не понял, что их украли. И сделать это могла только Люся, которую с ключами от дома я посылал за забытыми мною тетрадями.
Люся появилась ближе к вечеру, судя по всему – в хорошем настроении. Она загадочно улыбалась и прятала что-то за спиной.
– Люся, – мрачно спросил я, – ты брала у меня деньги?
– Да, – на удивление просто созналась она.
– Ты украла у меня всю зарплату! – не выдержал я спокойного тона. – А потом приходишь как ни в чем не бывало!
Улыбка исчезла с ее лица.
– Я не украла, а взяла! – возмущенно крикнула она и бросила на стол целлофановый кулек с конфетами. – Вот. Просто сладкого захотелось, а это я вам же купила!
– На всю зарплату конфет! Да еще целый килограмм! Да ты меня совсем что ли за идиота принимаешь! Мне что, теперь у себя дома деньги надо прятать!
– Я конфет не килограмм купила, а много, на всю нашу группу рассчитывала!
Губы ее задрожали, но она быстро справилась с секундной слабостью и обычным, немного развязным тоном нараспев произнесла: – Ладно, извините. Хотела всем сделать приятно, я же не знала, что вы такой жадный!
Она резко развернулась к двери и подчеркнуто торжественно вышла, высоко задирая голову.
– Я не жадный, а ты просто воровка! – успел крикнуть я вслед Люсе.
Опомнившись, через минуту я бросился за ней, но Люся бежала со всех ног и ее стриженая голова мелькала в самом конце улицы.
Услужливая память подленько подсунула мне достаточно давнюю и уже забытую мною беседу с одной их трех Люськиных воспитательниц, и чувство стыда физически ощутимо заполнило грудную клетку.
После одного из педсоветов Люськина воспитательница подошла ко мне, деликатно взяв за локоток, отвела в угол и сказала: – Люся у вас часто бывает.
По интонации было непонятно, это вопрос или утверждение.
– Да, – ответил я, а потом агрессивно добавил: – А что, нельзя?
– Можно, конечно, – вздохнула она, – но поймите, эти дети в такой ситуации подсознательно начинают считать вас родителем, хотите вы этого или нет. А потом она сделает что-нибудь плохое, например, разобьет у вас дорогую хрустальную вазу, вы же родному ребенку простите, а ей – нет. Пара таких случаев, и вы будете тяготиться ее посещениями и в конце концов дадите ей от ворот поворот. А она живой человек, ребенок. И так в жизни натерпелась. Вы готовы стать ей вместо отца?
– Нет, – растерялся я, – такой вопрос мне даже и в голову не приходил, да и вазы у меня не то что дорогой, а никакой нет.
– Неважно. Пример с вазой может быть и неудачный, но вы меня прекрасно поняли. Поэтому вы уж ее сразу перестаньте у себя дома привечать.
– Да что они, с бабой Таней сговорились что ли! – подумал я тогда. Теперь я вдруг понял, как они обе оказались правы! А я оказался полным дураком! Или сволочью!
Чужим детям ошибок не прощают и скидки на их недостатки не делают, как хорошо изначально к ним бы ни относились. Люся этот урок усвоила быстро и в гости ко мне уже больше не приходила, даже после объяснения и примирения.
Началась вторая четверть. Сразу неудачно. Великолепная система оценивания под варварским административным напором рухнула в первую же неделю, хотя дети оценили нововведение по достоинству.
– Прикольно! – оценил Леха Урванцев. Остальные, для виду подумав, согласились. По взаимному удовольствию я начал ставить девятки, восьмерки, семерки, шестерки. В тетради. В дневники. И в ЖУРНАЛ!!!
Большего надругательства над святым для каждого педагога документом история еще не знала. В среду кощунство было обнаружено МЧС. В четверг над восьмерками и семерками рыдали классные руководители. Грех мой был так велик, что меня даже не ругали. Слов не было таких, чтобы выразить всю бездонную глубину моего святотатства.
Все педагоги были вооружены половинками безопасной бритвы когда-то существовавшей фирмы «Нева» и посажены в учительской для экзекуции над моим оценкотворчеством. Педагоги, как хирурги, выскребывали мои веселые оценки из своих журналов. Абортация плода моих каникулярных педагогических размышлений сопровождалась шутками и дружным ржанием.
Начал Глобус. Пыхтя от усердия, он еле справлялся со своим инструментом, кажущимся очень маленьким в его огромных лапах. В очередной раз уронив скальпель на пол, он недружелюбно взглянул на меня и произнес: – Воистину сказано, голова, не занятая работой, – мастерская диавола. Не давать Петровичу зимних каникул, пусть хоть уголь в кочегарке грузит.
– Ну что вы, Валерий Андреевич, Алексей Петрович на этом не должен остановиться! – душевно предположила Мензурка. – Следующий раз он что-нибудь более интересное введет, например аббревиатуру. Я даже могу предположить некоторые из них: доснопр – достоин нобелевской премии или дебнувиз – дебил, нуждающийся в изоляции.
– Точно! – подхватила УШУ, – представляете, какой простор для творчества, можно ввести очхорзад и задползад.
– И что это будет означать? – преувеличенно заинтересованно спрашивает кто-то.
Очхорзад – очень хорошо решает задачи, а задползад – напротив, означает, что с задачами полная задница.
Когда все отсмеялись, вступила ГАИ: – Петрович, наверное, в университете круглым девяточником был?
– А почему не десяточником? – услужливо спросил кто-то.
– Потому что по заполнению журнала у нашего молодого новатора, скорее всего, было «хуже некуда» или даже «кукареку».
Так я получил первую боевую кличку – Девяточник, которая, по моему мнению, мне не подходила.
За массовую смехотерапию учительского коллектива мне надо было бы дать премию. Но администрация была несколько другого мнения. В пятницу перед уроками ко мне зашел Черпак. Мои оценочные заповеди он молча изучал минуты три. Затем вынес вердикт «Плакат убрать» и направился к выходу. Но мое молчаливое несогласие так сверлило его спину что он не вынес, обернулся и пояснил: – «Хуже некуда» – это значит, что некуда хуже, а оказывается, что есть куда – «кукареку» еще хуже. Чем же эти два критерия отличаются? Непонятно. Кроме молодого и задорного стеба, особых принципиальных отличий от существующей системы оценки я не увидел. Правда, градаций отличной оценки стало больше, а неудовлетворительной – меньше. Гуманизм – это хорошо. Дурость – это плохо. В общем, система у вас «так себе», то есть неважно, но можно значительно хуже. Именно поэтому очень прошу, согласовывайте все ваши эксперименты со мной, чтобы нам потом в районо за ваше творчество не мекать, не бекать и не кукарекать!
Мензурка оказалась права, я не смог остановиться на достигнутом. В результате, как принято говорить, анализа литературы, немногочисленно представленной в школьной библиотеке, я нашел то, что искал. Рейтинговая система – спасение нации!