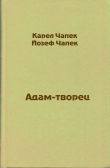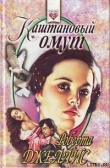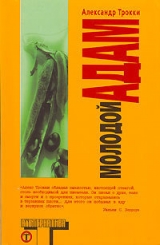
Текст книги "Молодой Адам"
Автор книги: Александр Трокки
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Глава 2
Вскоре приехали четыре грузовика с антрацитом. Они по очереди подъезжали задом к краю причала и вываливали груз по металлическому желобу прямо в трюм. Баржа с открытой палубой больше подошла бы для этого груза, но Лесли не приходилось выбирать. Для нас это была грязная работа. После того, как очередную порцию антрацита сваливали в трюм, мы должны были раскидывать его лопатами, чтобы он лег равномерно, и баржа бы не накренилась. Сама работа была не так уж сложна, но стоявшая в трюме пыль забиралась в глаза, нос и ушные раковины. Мне никогда не нравилось возить антрацит и уголь. Пыль набивалась в ноздри, и от этого раскалывалась голова, и даже ванну нельзя было потом принять. Нам приходилось мыться в деревянной бадье на палубе. Вода была ледяной, правда в нее подливали чайник горячей воды, чтобы слегка подогреть.
Погрузка заняла полтора часа. Мне было жарко, я вспотел, а угольная пыль впивалась в мою кожу под рубашкой. Когда Лесли вдруг произносил имя Эллы, я ощущал смутное возбуждение, представляя, как ко мне прижимается ее чистое, теплое, крепкое тело. Я думал о том, как она отреагирует на такую близость. Может, ее обнаженное тело задрожало бы и отстранилось, а может встретило бы меня ответным неутолённым желанием. Я попытался представить ее без одежды, но сыпавшийся антрацит и поднимавшаяся от него пыль не позволяли разглядеть ничего, кроме смутного белого очертания. Когда мы выбрались наверх, Лесли подписал квитанцию о получении груза, и грузовики уехали. Мы закрыли люк трюма, и все, что нам оставалось сделать, – это смести пыль с палубы и помыться.
Поскольку баржа стояла на якоре в общественном месте – на пристани Клайда в Глазго, и плавали мы обычно по каналу, соединявшему Клайд и Форт, а потом возвращались обратно с другим грузом, который брали в Эдинбурге и Лейфе, – мы могли раздеться только до пояса, и это меня раздражало, потому что я чувствовал угольную пыль в ботинках и под брюками. Мы могли только, подвернув штаны до колен, встать в бадью с водой. Элла спустилась в каюту за чайником горячей воды, а мы с Лесли отдыхали, сидя на люке. Мне больше не было скучно. С тех пор как я проснулся тем утром, начало что-то происходить – я не говорю о впечатляющих зрелищах вроде плывущего по реке трупа, просто во мне проснулось какое-то волнение. Я стал предвкушать различные события. Закручивая сигарету, я ощущал легкую дрожь в пальцах. Это, несомненно, от интенсивной работы лопатой. Было приятно дышать свежим воздухом. Мне хотелось, чтобы Элла поторопилась с водой.
Лесли, как всегда, курил трубку. Я вдруг осознал насколько курение трубки было естественным для него делом. У него были большие, тяжелые руки работяги: короткие пальцы, на одном из которых золотое кольцо с печаткой. Его ногти были короткими, потрескавшимися и сильно искусанными, а осевшая на них угольная пыль придавала им серо-розовый оттенок. Мои руки были почти такие же. Только у меня не было кольца, а пальцы были чуть длиннее и не такие грубые. Взглянув на свою влажную серо-розовую ладонь, я подумал, что если прижать ее к листку бумаги, на нем останется ясный, отчетливый след. Одна только мысль об отпечатках пальцев заставляла меня почувствовать себя виновным, и я стал думать о том, как человек может уничтожить все следы своего пребывания где бы то ни было. Лесли прервал мои мысли, сказав, что мы можем отчаливать, как только поедим.
Я спросил, где мы остановимся на ночь. С тех пор, как я стал по-особому относиться к Элле, ночь открывала для меня массу новых возможностей, особенно, если рядом окажется паб, куда обязательно пойдет Лесли. Мне было совершенно безразлично, где мы остановимся, лишь бы там имелось питейное заведение. А так все маленькие города вдоль канала были похожи один на другой, после десяти вечера почти нигде уже не горел свет, спать там ложились рано.
Лесли сказал, что не знает, где мы остановимся. Все зависит от того, как далеко мы уплывем до темноты. Он сказал, что мы никуда не торопимся. В субботу нам надо взять груз гранита в Лейфе, а сегодня только вторник.
Прибыл чайник с горячей водой. Джим поднялся на палубу вместе с матерью. Он снова ел яблоко и смотрел на нас.
– Этот парень ест слишком много фруктов. У него живот разболится, – грубо сказал Лесли.
– Оставь мальчика в покое, – сказала Элла, поднося к нам два ведра. – У меня живот болит от твоего нытья.
Ведра были наполовину наполнены холодной водой. Элла вылила по полчайника кипятка в каждое ведро, правда мне показалось, что со мной она была щедрее.
– Эй, не вылей ему весь кипяток! – крикнул Лесли.
– Помолчи лучше! Ведешь себя, как ребенок! – ответила Элла.
Мне нравилось как она наклонилась, наливая горячую воду и помешивая ее рукой. Я заметил у нее под мышкой влажное пятно. В том месте зеленая ткань обесцветилась, приобрела желтый оттенок и стала похожа на осенний лист.
Мы с Лесли разделись по пояс и начали намыливать грудь и руки, пока Элла готовила внизу обед.
Несмотря на возраст, у Лесли все еще была широкая грудь, но она плавно переходила в бесформенное брюшко. Я вдруг подумал, что он, должно быть, весил около двухсот фунтов.
Лесли фыркал, растирая свою шею и уши, похожие на маленькие красные лампочки по обе стороны головы, сияющие и поросшие седыми волосками. Он был весь в татуировках. Тело его украшали змеи и монограммы, символы, сердца и якоря зеленого, синего и красного цвета. Он сделал их, пока служил во флоте. По его словам каждая татуировка была сделана в память о какой-нибудь женщине, и он мог описать грудь, ноги и зад каждой из них, и как они кричали, в основном как дикие кошки, только от одного взгляда на его татуировки. Воображение у него разыгрывалось – будь здоров. Конечно, он не делал наколку в память о каждой шлюхе, с которой переспал. Этой чести удостаивались только особенные женщины. В любом случае, большинство из них этого не стоило.
Лесли встретил Эллу в столовой для матросов, куда она заглянула в поисках отца. Лесли пил с ним в уборной, поскольку официально там спиртное не подавали. Оба они были пьяны, и отец Эллы настаивал на том, чтобы Лесли заглянул к ним домой. К тому времени Лесли уже 10 лет проработал на море кочегаром. Отец Эллы умер вскоре после их свадьбы, и Лесли бросил море и начал работать на барже, которую унаследовала Элла.
Когда мы вымылись спереди, мы помогли друг другу вымыть спины, вытерлись и надели сухие рубашки. Потом мы подвернули брюки и вымыли ноги. Все это время Джим стоял, уставившись на нас, и Лесли велел ему бежать вниз и сказать матери, что мы будем через минуту. Мне уже самому не терпелось спуститься вниз. Когда мальчишка ушел, он сказал, что мы заночуем в Лэарсе. Он знал там один кабачок, где можно поиграть в дартс.
Больше всего Лесли гордился своей мастерской игрой в дартс. Он очень хорошо кидал дротики изящным движением руки, которое никак не сочеталось с его большим грузным телом.
Как сейчас вижу его, стоящим, выдвинув правую ногу вперед, слегка высунув кончик языка, прицелившись в мишень одним из своих дорогих металлических дротиков, держа его кончиками коротких пухлых пальцев.
Но меня эта игра не увлекала.
Дартс утомлял меня так же, как и разговор с Лесли. Меня интересовала только его жена.
После того, как мы вылили за борт ведра с водой, мы пошли есть. Пахло приятно. Она приготовила суп, а на второе – картошку с котлетами. Джим стучал ложкой по столу, и его отец велел ему успокоиться и вести себя хорошо. Я смотрел, как Элла разливает суп по тарелкам. Из кастрюли шел пар. Рядом стояли еще две кастрюли. Я мог различить кипение картошки и шипение котлет. Я хотел есть. Сначала она подала еду сыну, потом Лесли и мне, и Лесли раздал хлеб, который она порезала на куски. И мы оба макали наш хлеб в суп. Через минуту она села за стол. Лесли и я сидели по разные стороны стола, а она сидела посередине, напротив сына. В правой руке она держала ложку, а левую положила на стол.
Пока мы ели, я не мог оторвать от нее глаз. Она неожиданно вошла в мою жизнь: женщина, развешивающая постиранное белье на фоне пустыря и заводской трубы. Как будто кто-то полил на мою шею теплой водой, и она сбегала теперь по груди и спине, стекала по ногам до лодыжек. Но ощущение не проходило и не остывало, как вода. Оно оставалось на моей коже, напоминая о ней. Я не мог оторвать от нее глаз и, даже опуская глаза, чтобы обмакнуть в суп свой хлеб, все равно ощущал ее присутствие.
Она была близко. Каждое мгновение, даже то, когда впервые за три месяца на барже я стал видеть женщину в жене Лесли, казалось, приобретало один и тот же смысл. Было неважно, что она делает: тянется за хлебом ли, показывая желтое пятно под мышкой или стоит у плиты, раскладывая котлеты, при этом фартук свободно завязан на животе, или откидывает назад свои короткие прямые окрашенные волосы, которые она, по-моему, никогда не расчесывала: все это производило на меня одинаковый эффект. И я не мог оторвать глаз от ее шеи желтого цвета, какой иногда приобретает кожа в этом месте, и у меня не могли не возникнуть ассоциации с меняющимся цветом травы. Сам стебель зеленый и относительно сухой, а внизу, там где травинка входит в землю, она мягкая, молочного цвета. Она гладкая желто-белая, как слоновая кость. На ней отпечаток жизни или силы, дающей жизнь. И если сравнить женщину с травинкой, тогда ее шея, это то место, где стебель входит в землю. Туда лишь изредка падает солнечный свет. А все, что ниже шеи, стремительно движется вниз к центру земли, как влажные белые корни растения.
Я часто об этом думал. Вот почему я не мог отвести глаз от ее шеи. И пока я ел суп, я думал об этом.
Она встала, чтобы подать второе.
Когда она встала, ткань платья мягко опустилась на ее ноги, и я еле сдержался, чтобы не прикоснуться к ней.
Мы почти не разговаривали за обедом. Она пару раз отругала сына за то, что он испортил скатерть, и спросила Лесли, когда он намеревается отчаливать. Он сказал, что хочет отправиться в путь, как только мы закончим обедать, и это меня разозлило, потому что я люблю полчасика отдохнуть после еды. Но Лесли все делал по своему: его лодка – его деньги. Но моя злость крылась где-то в глубине души, как случайная мысль, которой не придаешь значения. В это время я был слишком поглощен Эллой, чтобы придавать большое значение словам Лесли.
Когда мы ели второе, Лесли сообщил жене, что хочет остановиться на ночь в Лэарсе. Она сухо ответила, что ей неважно, где он напьется. В защиту Лесли сказал, что я вызвал его поиграть в дартс.
Элла приподняла одну бровь.
– Ты играешь в дартс? – спросила она недоверчиво.
Я не знал, что сказать, потому что это был один из тех вопросов, которые задают таким тоном, что ты чувствуешь себя маленьким и косноязычным, и, если вопрос такой же неожиданный как этот, ты даешь неубедительный и невразумительный ответ похожий на оправдание.
– Иногда, чтобы убить время, – ответил я.
– Я думала, ты можешь найти и лучший способ провести время, – сказала она строже, чем обычно.
Не помню, что я потом сказал, но это вызвало у Лесли смех.
Элла встала и пошла к плите. Джиму было интересно, над чем смеется его отец и он спросил об этом мать, а та велела ему придержать язык. «Ешь свою картошку», – сказала она сыну, а Лесли: «Смотри не лопни от смеха!»
Лесли доел все, что было у него на тарелке и оттолкнул ее. К тому времени, чувствуя, что я что-то не то сказал, я и сам закончил есть и прокручивал в уме произошедшую только что ситуацию, в которой, не смотря на всю мою настороженность, я упустил главное: возможность в любом случае дать ей понять, что я знал, почему она так легко приняла тот факт, что Лесли любит дартс, и почему она саркастически спросила меня, не люблю ли дартс я. Возможно, поставив передо мной необходимость отвечать на неприятный вопрос, она таким образом защищала себя от собственных страхов. И ее непрекращающийся сарказм в течение последних нескольких минут, хотя и вполне привычный для наших совместных трапез, сейчас стал еще жестче, потому что несколько часов назад у меня возникло желание перейти в другой лагерь: смеяться с ней над Лесли, а не с Лесли над ней. Так что когда она предложила нам выпить чаю, и я заметил, что Лесли собирается отказаться, потому что некогда и пора отчаливать, я согласился. «А ты, Лесли?» – прозвучал вопрос, и поскольку я уже согласился, он пожал плечами и тоже сказал «да».
Я знал, что ей было любопытно, почему я так быстро согласился, и, возможно, её это позабавило. Её лицо приобрело странное выражение, а на выступавших по-монгольски скулах появился румянец. Я заметил это ещё утром, когда она развешивала бельё и вдруг, оглянувшись, заметила, что я на неё смотрю. Пока она заваривала чай, она улыбалась и напевала так же, как когда она слушала мою версию того, как женщина оказалась в воде. Я догадывался, что она знает о моём к ней интересе.
Она принесла чашки и поставила их на стол, а потом вернулась за чайником, и, наконец, снова села на своё место.
Я скручивал сигарету и пытался казаться непринуждённым, но, на самом деле, я был насторожен и не знал, как далеко мне можно зайти. Лесли читал утреннюю газету с видом болезненного недоверия на лице, а мальчуган держал перед собой журнал комиксов и под столом по-детски качал ногами.
Всё это, плюс тот факт, что мы были отделены от окружающих двумя газетами, подсказало мне интересную идею.
Конечно, я рисковал, и, возможно, ошибался насчёт всего произошедшего, но, в любом случае, я не думал, что она меня выдаст. В конце концов, она была женщиной – женщиной, которая выросла на баржах. Я смотрел на лёгкую струйку пара, поднимавшуюся из чайника, стоявшего на плите.
Медленно, очень медленно я придвинул к ней свою ногу, и затем, приподняв штанину, стал гладить обнажённой голенью её ногу нежно вверх-вниз. Её тело было тёплым, кожа немного грубой. У меня было время всё прочувствовать. Я смотрел, как румянец поднимается от её шеи к щекам, видел, как она замерла, чувствовал, как её тело дрожит, а она притворяется, что ничего не происходит. Минуту мы сидели в состоянии эзотерического транса. Передо мной её профиль: немного приподнятый подбородок, открывающий чёткую чувственную линию её шеи, её напряжённые, как две ракушки, ноздри, и её правая рука на столе поигрывающая солонкой. Следующую минуту я сохранял своё положение, нежно массируя своей голенью её обнажённую плоть. Рядом шуршали газеты, Лесли кашлял, а чайник на плите свистел всё сильнее.
Я нетерпеливо положил руку на её правое колено и забрался под платье. Её кожа была тёплой, мягкой и упругой. Дыхание Эллы участилось. Она не решалась на меня взглянуть. Я нежно гладил её, мои пальцы пробуждали желание, и это нетерпение было вызвано сознанием того, что моё наступление может ни к чему не привести, в любой момент нашу связь может оборвать непроизвольное движение одного из возможных свидетелей. В этот момент мои пальцы коснулись запретной ткани её старомодных трусиков. Кончики моих пальцев погрузились в её плоть. Одновременно я чувствовал, как она опустилась вниз невероятно медленно и невероятно тяжело. Она скользнула на деревянном стуле так, что её тело едва заметно приподнялось навстречу моим пальцам.
В этот момент она на меня посмотрела. Это был почти ненавидящий взгляд, но вместе с тем наполненный страстью. Я вдруг почувствовал, как глупо смотреть на неё и находиться так далеко.
Я уверен, она чувствовала то же самое, но, на её взгляд, это было похоже на предательство. Я попытался разубедить её, взглянув многозначительно на двуспальную кровать, где она спала с Лесли. Но эффект оказался противоположным тому, которого я ожидал. Она быстро выдохнула сквозь напряжённые ноздри и освободилась от моих пальцев, исследовавших её тело, в то же время она отодвинула свою ногу от моей медленным рефлекторным движением. Сильными пальцами левой руки она схватила моё запястье и оттолкнула мою руку. В таком встревоженном состоянии она, должно быть, толкнула ребёнка, потому что нашу идиллию вдруг нарушил его голос: «Эй! Перестань толкаться, мам!» И Элла всплеснула руками над столом. В этот момент Лесли отложил газету и сказал: «Так, Джо, если ты допил свой чай, то за работу».
Элла была возбуждена и смущена. Она собирала чашки и велела ребёнку перестать орать, если он не хочет, чтобы его выпороли. Я встал и сказал Элле спасибо за чай, но она только прошептала что-то в ответ, не оборачиваясь. Она скребла ножом кастрюлю из-под картошки, и я не мог разглядеть её лицо.
Глава 3
На палубе воздух был холодным и серым, а за сараями кирпичная заводская труба была окутана стойким грибообразным облаком исходившего из неё жёлтого дыма. Лесли сплюнул за борт баржи и отложил свою трубку.
– Пойду её заведу, – сказал он и снова спустился вниз.
Я отвязал канаты, и вскоре мы выплыли на середину реки и направились ко входу в канал. Вода была спокойной и пенистой, и, казалось, волны то льнули к барже, то разбегались от неё, оставляя на поверхности россыпи пенных плевков. Время от времени на некоторой глубине мимо проплывали пёстрые поплавки. Мы редко встречали какое-нибудь судно на своём пути. Позже, когда небо стало похоже на грязную линзу, Лесли напряжённо всматривался в бухту, из которой мы уехали, наверное, запоминая то место на воде, откуда мы вытащили труп женщины.
Вообще, становится скучно, когда привыкаешь ползти на барже вдоль канала, ждать, пока откроют шлюз и выровняется вода, но можно увидеть и некоторые интересные вещи, например, велосипедистов на тропинках, где канал пересекает город, играющих детей, флиртующие парочки. Последних очень много, особенно после заката в тихих местечках. Эти местечки там, куда не проложены тропинки, и куда можно добраться только преодолев высокий забор.
Возможно, вода привлекает их ничуть не меньше, чем уединенность, а еще, конечно же, риск. Летом их больше, чем мошкары, а по вечерам можно услышать их смех там, где сломанные цветы свисают с берега и касаются воды. Плывущие цветы. Их редко можно увидеть – одни голоса.
Из всего, что мне приходилось делать, работа на канале мне больше всего по душе. Ты не привязан к одному месту, как в городе, и иногда, если не думать о том, как до смешного малы расстояния, возникает ощущение, что ты путешествуешь.
А в путешествиях что-то есть.
Баржа, пыхтя, продвигалась всё дальше по каналу, который, оставаясь позади, становился похожим на аккуратную черную ленту, разделяющую деревенский пейзаж на две зелено-коричневые массы. Вдалеке показался поднятый утлегарь. Он смотрелся нелепо, висел в воздухе, как какой-то бессмысленный знак.
В сумеречном вечернем свете он казался черным. Я был на корме у руля, а Лесли сидел на люке, закрывавшем вход в трюм, и курил трубку. Он лениво вглядывался в пейзаж, время от времени сплевывал и снова и снова зажигал свою трубку. Элла внизу убирала стол после еды, а ребенок сидел, скрестив ноги, на носу баржи, и с того места, где стоял я, он выглядел как одна из тех черных штучек, которые всегда есть на телеграфных столбах. Лесли казался умиротворенным. Наверняка, он был погружен в мысли о том, как он блеснет своим умением попасть в яблочко в маленьком пабе Лэарса.
Я представлял, как он поднимет кружку пива к губам, сделает большой глоток, предварительно сдув пену. А потом он предложит мне сыграть в дартс.
Да, во всем была умиротворенность: в человеке, который вдалеке слева вспахивал поле, и в двух коровах, которые паслись впереди. Вокруг меня был свежий воздух и полная тишина, и где-то в глубине моей души – застывшее волнение.
Я стоял у руля, осознавая, какое влияние на меня оказывает Элла. Я ощущал тёплую тяжесть на своей коже, и эта тяжесть была сконцентрирована внизу моей спины и на ногах. Вдруг, вспоминая мелькающие полуденные картинки, я понял, что прикосновение важнее, взгляда.
Прикосновение было гораздо убедительнее, чем взгляд. Меня поразила мысль, что взгляд гипнотизирует поверхности предметов; больше того, взгляд и знает-то только поверхности, плоскости на расстоянии и незначительную глубину поблизости. Но влажность воды, которую чувствуют руки и запястья более интимна и более убедительна, чем ее цвет и даже чем плоская поверхность моря.
Глаз, думал я, никогда не подберется к сердцевине вещей, близкая связь отсутствует между моими глазами и цветком на подоконнике, так же как нет ее и между моими глазами и женщиной, с которой я собираюсь заняться любовью.
И я вспомнил Кэти, с которой я прожил два года до того, как попал на баржу. Я вспомнил как иногда смотрел на нее и ужасался чувству ее отдаленности. Например, она могла сидеть на кровати, поджав под себя колени, с книгой в руках. Почему-то это не убеждало. Она была здесь, но только косвенно, как обои на стенах или телега, проезжающая за окном. Я помню, как еще в детстве любил трогать вещи, деревья, кошек, цветы. Мне не хватало просто увидеть фиалку или розу, мне надо было разрушить разъединявшее нас расстояние, прикоснуться к мягким лепесткам пальцами или щекой; мне надо было вдохнуть в себя их запах, чтобы он жил у меня внутри.
Так же было и с Кэти. Мне надо было подойти и прикоснуться лицом к ее лону, почувствовать ее запах, гладить ее рукой и, в конце концов, притянуть к себе все ее тело. Но даже этого было недостаточно. Даже прикосновение было ущербным. Она, например, могла лежать голая в моих объятьях. Внезапно мне хотелось увидеть, что это такое – мягкое, влажное и теплое. Ее тело. Но оно было абстракцией, удобной, как ценник на вещи. Оно не имело ничего общего с жизнью. Я отодвигался от нее и рассматривал: ее маленькие груди с крупными пурпурными сосками, твердый коричневый холмик живота и упругая мясистость бедер. Ее ягодицы были круглыми и желтыми, как мрамор.
Но я не мог прикоснуться к этим вещам. Я хотел трогать то, что вижу. Но я мог трогать только мягкое нечто, дрожащее и льнущее нечто. Взгляд и прикосновение могут быть смежными ощущениями, но их объекты абсолютно разные.
Когда я переставал видеть ее вздымающуюся грудь, прижимаясь к ней губами, чтобы запечатлеть ее в себе, та вещь, которую я хотел запечатлеть, ускользала от меня, и на ее месте оказывалось что-то мягкое и теплое. Между тем, что я трогал и тем, что я видел, не было близкой и непосредственной связи.
Совместить эти два ощущения было всё равно, что совместить камень и мелодию – нелепо, предательски абсурдно. Было чувство, что нечто от тебя ускользнуло.
Я улыбнулся, думая об этом. Кэти… Впервые я увидел ее на пляже на Западном побережье. Я оказался там, потому что хотел найти работу.
Я стоял, оперевшись локтями на балюстраду прогулочной дорожки, с которой открывался вид на песчаный пляж и море. Некоторое время я наблюдал за легким движением морского ветра, колыхавшего ткань цветного тента прямо подо мной. Там лежала девушка, пытавшаяся неловкими движениями намазать кремом собственную спину. Не знаю, заметила ли она меня тогда. Время от времени я опускал глаза, и каждый раз, когда я это делал, она прекращала попытки намазать спину и массировала рукой свои гладкие ноги. До них ей было добраться гораздо легче, и она мазала их очень чувственно.
Я наблюдал за этим минут десять. За это время я убедился, что она вызывала меня на контакт, и я боялся, что, если не подойду к ней, она устанет, соберет свои вещи и пойдет искать более людную часть пляжа.
Я быстро нашел ближайшие ступеньки, спустился на пляж и пошел по песку к ней. Я шел медленно, пытаясь уловить ее реакцию.
Она была в солнцезащитных очках. Я чувствовал, что ее глаза за темными стеклами оценивающе на меня смотрят.
На какой-то стадии своих отношений мужчина и женщина выслеживают друг друга как животные. Это совершенно нормальный в большинстве ситуаций цивилизованный вид слежки, когда каждое движение противоположной стороны может быть по-разному истолковано. Это мера защиты. Человек может до последнего момента притворяться, будто он не замечает той сексуальной конструкции, которая может быть выстроена его собственными движениями. Человек не обязан признавать свое намерение соблазнить, пока он не уверен, что на этот соблазн согласны.
Но уверенным на сто процентов он быть не может: ведь другая сторона так же бдительна, так же не желает отдаться человеку, который не дал явно понять, что его намерения носят сексуальный характер, так как боится сделать это, не почувствовав предварительного согласия. Таким образом, мужчина и женщина вовлечены в своеобразный утонченный поединок, поскольку ни одна из сторон не может доверять другой настолько, чтобы перестать изображать неведение по поводу всего, что происходит между ними. В любом случае, мужчина может оказаться пуританином, а женщина может захотеть получить удовольствие от ухаживания, не завершенного половым актом.
Кэти, например, могла притвориться (что она и сделала) удивленной моим внезапным появлением возле нее на пляже. Ей было приятно показывать, как она гладит свои ноги, но я не мог знать, согласиться ли она на то, чтобы их погладил я. Она это знала, как любая женщина, и предвкушала то, каким образом я раскрою перед ней свои намерения. В тот момент, когда она будет в них уверена, она будет готова согласиться или отказаться без учета моих желаний.
Я знал это и она это знала, когда я сел рядом с ней и предложил ей сигарету. Она её взяла. Мы болтали о погоде, о солнце, и это дало мне возможность взять в руки бутылочку с кремом для загара и рассмотреть её. Она сказала, что я могу воспользоваться кремом, если хочу.
Я был всё ещё полностью одет, и у меня не было с собой плавок, поэтому я ответил, что в этом нет смысла. Прежде чем она могла интерпретировать эти слова как моё отступление, я предложил помазать ей спину и признался, что наблюдал за ней с прогулочной дорожки. Она притворилась, что ничего об этом не знала, но без лишних слов перевернулась на живот и подставила мне спину.
На ней был раздельный купальник из чёрного нейлона, нижняя часть плотно обтягивала ягодицы, а верхняя была спрятана под ней, за исключением тонкой нейлоновой полоски, пересекавшей её спину прямо под лопатками.
Я начал с поясницы, нанося крем всё более широкими движениями по всей поверхности подставленной мне плоти. Вскоре, однако, массаж перешёл в ласки, и когда она им поддалась, зарыв лицо в лежавшее на песке полотенце, мои пальцы скользнули сначала под полоску верхней части купальника, а потом нежно добрались до гладких литых ягодиц под туго натянутым чёрным нейлоном. Она не пыталась сопротивляться. Она отрезала себя от окружающего мира, от страха быть увиденной случайными прохожими. Она сделала это очень простым способом – закрыла глаза.
Неподалёку были скалы, в которых можно было скрыться из поля зрения людей на пляже и на прогулочной дорожке. Я тогда даже не знал имени девушки, и не был уверен, стоит ли предложить ей скрыться от людских глаз. В конце концов, даже не смотря на то, что мои руки так смело ласкали её тело, здесь она была в полной безопасности: никакого страха и напряжения. Я ничего не мог сделать на открытой части пляжа. А потом, даже если бы она согласилась, те ощущения, та раскрепощённость, которых я от неё уже добился, могли бы полностью улетучиться, пока мы шли бы к уединённому месту. У неё была бы сотня возможностей передумать. В тот момент, если бы не риск быть увиденными, я думаю, я смог бы стянуть с неё купальник, но я не знал, смог бы я, пройдя сотню ярдов под палящим солнцем, всё ещё быть смелым с совершенно незнакомой девушкой. Эта мысль заставила меня сбавить обороты. Мне не хотелось потерять то, чего я уже добился, из-за чересчур поспешной попытки её соблазнить. Но мои сомнения быстро развеялись. Я чувствовал её самозабвение. Я видел, что она совершенно забыла о людях, прогуливавшихся наверху. Я наклонился к ней и прошептал, что мы можем найти уединённое местечко, если пройдём подальше.
Она не сразу ответила. Она лежала с закрытыми глазами, настолько расслабившись, что, казалось, она потеряла сознание. Я почувствовал тогда, что она готова пойти куда угодно, но ещё не до конца преодолела все свои сомнения. Чем дольше она будет анализировать, тем больше будет остывать. Ясно, как белый день. И в такой момент всегда трудно сообразить, что делать.
Я был незнакомцем. В обычной ситуации человек выстраивает стереотип незнакомца, в соответствии с которым незнакомец производит на него то или иное впечатление. Под стереотипом не подразумевается опыт, стереотип как раз от него защищает. Чтобы два человека могли сойтись, им необходимо разрушить стереотипы, под давлением которых они познают друг друга. Именно это Кэти и сделала, приняв ласки незнакомца. Она никак не могла знать, во что она себя вовлекает (а может, её притягивала неизвестность). Кэти… Так звали девушку на пляже. Она отбросила всю систему мер и весов, подаренную ей традиционным воспитанием. Она сделала это для пробы – она лежала спиной ко мне, и в любой момент могла повернуться с выражением оскорбления на лице – но пробного движения вполне достаточно. Достаточно только делать вид, что традиционные представления о морали весьма условны, чтобы постепенно самому поверить в это и в то, что самые острые ощущения в обычных ситуациях подавляются незыблемым авторитетом хорошей репутации.
Я был незнакомцем и боялся действовать слишком поспешно. Я уже сказал, что в таких ситуациях трудно сообразить, что делать. Если ты действуешь слишком активно, женские «подозрения» подтверждаются. Она знает, чего ты хочешь, но, в то же время, способна, используя своеобразный вид оправдания, и несмотря на то, что всё время знала, чего ты хочешь, и знала, что в подтверждении нет смысла, – быть шокированной твоим предложением.
– Пройтись можно. Надо размять ноги, – сказала она, не глядя на меня. Она встала и добавила: – Ведь это недалеко?
Возможно, она тоже боялась, что по дороге её желание пройдёт.
– Сотня ярдов, – сказал я, показывая на то место и пытаясь казаться более непринуждённым, чем я был на самом деле. – Там, у скал.
Не проронив больше ни слова, она поднялась, взяла полотенце и маленькую сумку, в которой носила косметику, книгу Дафны Дюмурье и другие вещи, которые женщины обычно берут с собой на пляж, и пошла со мной по направлению к скалам.
Мы шли отдельно, не разговаривая. Когда мы прошли несколько ярдов, я взял у неё сумку. Она позволила это сделать, и каким-то образом её действия, молчаливое согласие и улыбка имели эффект слов.
Скалы стояли у дальнего конца прогулочной дорожки, за последней гостиницей, и они поднимались достаточно круто, чтобы закрыть побережье от глаз случайных прохожих. Скалы имели форму подковы, внутри которой маленькие каменистые холмы поднимались над песчаным берегом, образуя крошечные, заполненные водой пещеры. Мы обогнули ближайший к нам край скал, спускавшийся почти до моря, и как только мы сделали это, мы почувствовали, что находимся в своеобразном амфитеатре. Оказавшись внутри, мы пошли вдоль подножия скал к освещенному солнцем островку сухого песка, над которым нависал утёс.