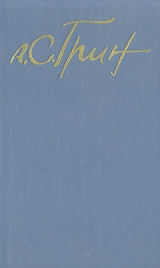
Текст книги "Том 1. Рассказы 1906-1912"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 44 страниц)
– А! – вскричал Тюльпанов, мгновенно сообразив, что посещение англичанина может так или иначе отразиться на его интересах. – Как вы узнали? Это верно, но что, знаете! Какая глина, известно аллаху… Я, впрочем, надеюсь, да…
Брайтон помолчал. Быстрые искры соображения мелькнули в его быстрых глазах; он, видимо, старался уяснить себе отношение Тюльпанова к грязно-белой земле.
– Пять десятин, – так же сонно и деревянно произнес он, – от лес до маленький огород.
Тюльпанов улыбнулся, подумал, но слова англичанина остались для него непонятны. Он поднял брови, недоумевающе посмотрел на Брайтона и тихо спросил:
– Что вы говорите? Продать?
Что-то похожее на улыбку скользнуло в тонко очерченных, твердых губах Брайтона.
– Пять десятин, пятьдесят тысяч.
– Как? – делая ударение на каждом, прилипающем к языку слове, закричал Тюльпанов. – Вы хотите купить? – Сердце его вдруг забилось часто и ожесточенно, точно он наступил на змею и перепугался. Деловое лицо Брайтона и цифра, произнесенная вялым гортанным голосом, бросили ему в глаза ценность находки. Он внезапно всем существом почувствовал себя у денег, лежащих в земле, между лесом и огородом. Взволнованный, он уставился на Брайтона в упор. Англичанин переменил позу, снял руку с колена и переложил ее на резьбу кресла.
– Позвольте же, однако, – заговорил Тюльпанов, – но вы… но я… разве вам сказал кто-нибудь, что я намерен?.. Это странно, я вообще никому… да и как же так… почему?
Купцы и арендаторы из соседнего города, с которыми он вел иногда дела, встали перед ним, по контрасту, как живые, с массой уловок и подходов, с неизбежным чаепитием, вопросами о погоде и т. д. Брайтон молчал. Тюльпанов развел руками.
– Вот, – сказал он, – что, собственно… А насчет продажи… Да и как вы предлагаете мне пятьдесят тысяч, когда вы и земли-то еще не видели? Хотите, я покажу? Вы, вероятно, интересуетесь, я…
– Нет, – сказал Брайтон, – это не надо. Я видел. Я смотрел, у меня есть пробы. Пятьдесят тысяч.
– Когда же вы успели? – спросил Тюльпанов, начиная сердиться. То, что этот человек без спроса успел выведать все, казалось ему невежливым.
– Семьдесят пять, – сказал Брайтон и добавил: – Тысяч.
– Позвольте! – заволновался Тюльпанов. Долги, закладные, планы на лето, дом в Петербурге – вихрем взмыли перед его глазами и ушли, скрывшись в темных зрачках Брайтона. – Почему же это?.. Почему именно семьдесят пять? Почему не больше… не меньше? Или мы ведем деловой разговор, или шутим… Я не привык так. Но как, например?.. Частями, сейчас, после?
– Сто тысяч, – помолчав, выговорил Брайтон. – Задаток теперь. Половина задаток.
– Да вы шутите или всерьез? – крикнул, побледнев, Тюльпанов, и вдруг лицо его расплылось в блаженной улыбке. – Вы что же хотите, фабрику? Нет, что вы! Разве можно за такие пустяки? – Он вдруг пришел в азарт, вырос в своих собственных глазах и был совершенно оглушен цифрами. За последние годы он не держал в руках более десяти тысяч сразу. – Я сам выстрою фабрику! – сказал он гордо и испугался. Лицо его вытянулось, но непреодолимая потребность дать выход возбуждению тотчас же повысила павший диапазон. – А что вы думаете, – волнуясь продолжал он, – что мы, русские, не умеем вести дел? Ого!
– Сто двадцать пять тысяч, – медленно произнес Брайтон. – Я очень серьезно. Задаток теперь. Семьдесят пять – задаток. Я извиняюсь, – он подумал немного и неторопливо добавил: – Но это совсем ясно, как… – Брайтон прищурился, склонив набок голову, и закончил: – Как стекла. Дело просто: вы продаете земля, я даю деньги.
– Фу, – сказал Тюльпанов, вытирая платком вспотевший лоб, – а? Я… подумаю… Да, нет… Ну, хорошо, извольте. Сто двадцать пять? Хорошо! Как вы думаете, я не проде… Впрочем, что я – земля чудная, конечно! Так задаток? – Он был совершенно счастлив и боялся только одного: чтобы этот диковинный, точно с другой планеты человек не раздумал. – Прошу в кабинет, – сказал он, – пожалуйте вот сюда, дверь направо.
IV
Лакеи суетились вокруг столов, тщательно избегая задевать локтями широко развалившуюся на стуле фигуру Кержень-Мановского, отставного исправника. За тем же столом сидели: Миловидов, городской голова, Тюльпанов и Ознобишин, редактор местной газеты. Было около одиннадцати часов вечера. Пьяный, развалистый шум, удары кулаков в стол, залитая вином скатерть и криво сидящие галстуки говорили о той степени благодушия, когда пирующим трудно установить не только страны света, но даже левую и правую стороны. В то время как Миловидов с грустью и умилением посвящал исправника в тайны городского хозяйства, Тюльпанов говорил Ознобишину:
– Так и напишите… Вы не думайте, что я ищу популярности… черт с ней… а просто… Гласности больше нужно, я стою за печать… периодическую… Но не возгордись! Не ищи… понимаешь… в моих словах этакого к себе почтения. Ибо – нужна ли твоя газета? Вот в чем вопрос! Ты об этом подумай… И реши! Но в общем, разумеется, я разрешаю тебе писать о Тюльпанове. На-ро-до-на-селе-ние Тюльпанова добрым словом помянет, так как откроется богатейший… промыш-шленнейший завод. Понял? Ну и молчи!..
– Не могу в-местить, – сказал Ознобишин, мигая помутившимися глазами.
– П-потому, что есть я птица райская Алконост… печали огромной птица и г-орести! А печалюсь я… з-за всю губернию!.. Т-торжествующие твои слова – мне обида!..
– Ха-ха-ха-ха-ха! – захлебнулся исправник, и шея его побагровела, как у индюка. – Птица ты… алкоголь… да… Но чтобы Алконост… стае? Ни в коем случае!
– Полицейский! – внушительно сказал Тюльпанов, подымая кверху указательный палец.
– М-молчи! Ты пьян, полицейский!
– Гражданин! – промолвил Ознобишин, указывая на Миловидова. – Он гр-ражданин! А прочее все… водевиль!
– В-водевиль? – яростно прошипел исправник. – А ты кто – драма ты, что ли, пискулька! Я… с-случа…
– С переодеванием! – захохотал Тюльпанов. – В-водевиль с переодеванием. И нишкни!
– Кто здесь возвысил голос? – закричал исправник. Лиловые жилки заплясали на сто лбу.
– А? С-сашка Тюльпанов, нищий – нищий ведь ты… и немец тебя, куклу, облагодетельствовал!
– Бритт, – хладнокровно вставил Миловидов, свертывая из меню трубку и рассматривая в нее рассерженного исправника.
– Бритт! – негодующе воскликнул Кержень-Мановский. – Вот ты и брит этим бриттом, потому что ты просто-напросто… тьфу… овца! Кусок тела российского продал англичанке… нищий! У-у! Короста на благочестивом теле отчизны!..
– Кержень, – крикнул Миловидов, – цыц! Ты что? У себя в участке, что ли? Объясняйся, но… м-мягко!
– Оставьте его, – коротко и грустно проговорил Тюльпанов. – Пусть человек говорит… г-господа, э… дайте слово отставному исправнику.
Тюльпанов пожал плечами, выпил большую рюмку шведского пунша, закусил ананасом, вывалянным в пепле, и сказал:
– Я деньги получил. Это важно… И з-заметьте – много… К-ко-нечно, меня уламывали, п-потому что я н-не мальчик, но… и счастлив, – неожиданно воскликнул он.
Раз начав говорить, он был не в силах уже остановиться и много, пространно рассказывал о себе, своем детстве, какой-то лошади с подпалинами, невесте, дочери и тюльпановском промышленном округе. Вокруг, в сизом тумане, плавали блестящие выкаченные глаза, манишки, красные пятна рук, и все труднее становилось сидеть прямо, не лить на скатерть вино и говорить то, что нужно.
Миловидов сказал:
– Хорошо нам здесь, господа!.. Построим кущи!..
V
Еще хмельной, с тяжестью в голове, Тюльпанов прошел в сад. Он только что возвратился из города. Лицо его было серо, смято и в молодой зелени сада казалось лицом больного, выпущенного на прогулку. Он повертелся около черных клумб, соображая, сколько пройдет времени, пока утренний воздух уничтожит в его наружности следы хмельной ночи, и вспомнил, что Зоя, узнав о приезде отца, непременно пошлет горничную на розыски… Он прошел через сад медленным, беззаботным шагом, насвистывая мазурку, миновал парники и через две-три минуты был на том месте, которое день назад еще принадлежало ему.
«Продано! – подумал Тюльпанов. – Как скоро все делается на свете! В прошлом году деревенские мальчишки и Вовка считали этот когда-то отведенный под огород пустырек роскошным местом для игры в бабки».
Заложив руки за спину и втягивая прокуренной за ночь грудью парной воздух полей, Тюльпанов впал в элегическое настроение.
«Хорошо бы, – мечтал Тюльпанов, – хорошо бы, собственно говоря, вышло, если бы тут поблизости еще глину открыть! Гм! Воображаю, какую рожу скорчит англичанин. Он ведь и эту захочет купить, во избежание конкуренции. Тогда – миллион. Миллион – и никаких разговоров!»
И вдруг представилось ему, что все – усадьба, пашни, лес, парники, сад – расположено на тоненьком, в два-три фута слое земли, скрывающем под собой сотни десятин белой глины. Что-то похожее на тревожное любопытство и мальчишеское лукавство дернуло Тюльпанова. Заинтересованный, он осмотрелся вокруг, соображая, в каком бы месте повернуть дерн, и, вынув небольшой перочинный нож, пошел вдоль рощи, удаляясь от проданного участка.
За рощей была узкая полоса межи, отделявшая яровое от леса. Подойдя к ней, Тюльпанов открыл ножичек, присел и вырезал кусок дерна, запачкав руки сырой и теплой землей; шевелились какие-то крохотные кучки, белели точки срезанных травяных корней.
Тюльпанов махнул рукой и хотел встать, но, вспомнив, что и прежняя глина лежала глубже, принялся быстро копаться в рыхлом четырехугольнике. Сняв два или три вершка почвы, он бросил нож и беззвучно расхохотался. Перед ним была глина, та самая, настоящая, которую купил англичанин и которая, проходя горизонтальным пластом, попала под нож Тюльпанова. Это было так неожиданно, забавно и в то же время серьезно, что Тюльпанов остался сидеть в прежнем неловком положении, полный вспыхнувших мыслей и какаких-то особенно радужных, нетерпеливых надежд.
– Что же это такое? – полусердито, полусмеясь сказал он. – А? Каково? Как это вам нравится? Что за глиняное имение? Мухи дохнут, честное слово! Брайтон-то, Брайтон-то что скажет? А?
Он еще некоторое время восклицал и ахал, вытирая руки о носовой платок, потом понемногу, поправляя одна другую, мысли пришли в порядок, а на лицо Тюльпанова легла тень, и выросли перед его глазами не одна, а две фабрики, разделенные одной десятиной, вдвойне грохочущие, распространяя копоть и смрад, фабрики конкурентов, отнимающие у него пядь за пядью маленькое старинное имение, где так хорошо естся, дышится и живется, когда есть деньги.
И увидел он еще рабочий поселок, чуждую зеленой земле жизнь, услышал назойливые, унылые гудки, топот и шум толпы там, где молодые дубки ласково приглашают уснуть, в то время как на заманчиво расстеленной на траве скатерти бурлит самовар и румянится домашний пирог.
– Что же делать? – сказал Тюльпанов. – Положение-то мое забавное. Скрыть разве, а?! Любопытная будет вещь и даже романтично: тайна Тюльпановки, А хорошо эдак, перед смертью сказать там… внукам, что ли: идите за рощу и там, отмерив столько-то шагов… В этом роде. А?
Было тихо вокруг; насколько хватал глаз, холмились поля, одетые пышной озимью. Тишина и отсутствие людей приободрили Тюльпанова. Он доверчиво улыбнулся земле, небу и ямке, вырытой под ногами.
Поспешно путаясь вздрагивающими от испуга руками, собрал он рассыпанную на траве землю, сгреб ее в ямку, втиснул дерн на прежнее место и тщательно утоптал. Потом, виновато улыбаясь и щурясь от солнца, медленными, неуверенными шагами пошел в сторону, и казалось ему, что никто и никогда в мире не узнает новой, мучительной для него тайны Тюльпановки, разве только в том, и непременно в том случае, когда новая, настоятельная нужда развяжет ему язык. А подходя к дому, был совершенно уверен, что выше его сил молчать далее двух недель.
Тайна леса
I
Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перегоняя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.
Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, пахучий сумрак полян, – чего еще требовать от земли – жалкой, пригородной земли севера? Бродить в лесу вечером – значит купаться в теплой, смолистой ванне.
Лес, или парк – как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болтливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.
Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые зигзаги, прерываемые более или менее широкими, утоптанными местами, где она садилась, а он клал ей голову на колени, примащиваясь в траве. Охотники оставляли глубокие, запутанные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу, ведшую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться, ни сворачивать.
Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку, попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной ночи, земля!» – говорило небо, закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.
Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки вставали перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.
Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, двигающимися изумрудами: погасло небо.
Все медленнее шел полировщик – и были тому причины. Жена поджидала его с сжатыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех детей, ночевал не дома, а на кровати с ситцевыми занавесками, бок о бок с купленным за два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.
Совесть его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обдумал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок, ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек, – он отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками. Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.
II
Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей и сну, – полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыбаясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить взлохмаченная, костлявая, плоскогрудая женщина, требуя денег. Да, он решился переночевать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь – сутки прочь. Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег – свернулся, встал – встряхнулся.
В глубоком молчании тишины прозвучал отрывистый, тупой звук, охнуло эхо, и все стихло. И стало еще тише, чем раньше. Полировщик остановился, прислушался, лениво махнул рукой и снова побрел, тяжело придавливая сапогами скользкую хвою. Он мог бы, конечно, лечь просто там, где стоял, но ему все время казалось, что впереди, шагов за пять – пятнадцать, приготовлено какое-то место поудобнее. Но это был просто лес – трава, корни, кусты и кочки.
Он шел, пока не споткнулся, сунувшись на четвереньки, лицом в мелкий рябинник. Руки его уперлись в мягкое, податливое; ноготь скользнул по пуговице. Толчок был довольно силен, и полировщик выпрямился скорей, чем упал, приготовляясь на всякий случай к возражению действием.
Лежащий безмолвствовал. Мало того – он даже не захрапел и не перевернулся на другой бок, как это принято у порядочных пьяниц, когда их тревожат.
– Ох, сердце мое! – сказал испуганный полировщик, хватаясь за левый бок, и стал искать спички. Они у него были раньше, а теперь упорно не находились…
– Почему же нет спичек? – обиженно спросил полировщик. – А были хорошие спички, пороховые. Спички, которые в жилетном кармане – и сбегли! Вот покури теперь тут, кузькина мать, покури!
– Хорошо, – продолжал он после некоторого размышления. – Я, представьте, иду ночью – и ежели еще в потемках пьяное туловище спящее, то я без спичек не могу осветить его физиономии! Спишь! Спи, спи, приятель, до сладостного утра. Где ты, там и я. Жилеточку постелю, пиджачком накроюсь, чтобы, значит, дух теплый из глотки под мышки шел, а в головы, с вашего позволенья, пьяное благородие, сунем кустик. Так оно все и выйдет.
И, разговаривая, он стал укладываться, довольный близким соседством пьяного, но живого тела, быть может, знакомого слесаря или литейщика, с которым завтра они будут таращить друг на друга заспанные глаза, вздрагивая от резкого холода. Прежде, чем лечь, он ткнул спящего в бок и, стоя на коленях, долго прислушивался к хриплому, рвущемуся дыханию. А тот был неподвижен и молчалив.
III
Полировщику не спалось. Тьма беззвучно клубилась перед его глазами; хвоя колола шею; он вертелся, вздыхая и охая, как самый добродетельный человек, мучимый совестью за кражу в детстве соседского яблока. Тысячи ушей выросли на его голове; телом, сапогами и брюками, даже последней пуговицей ловил он разнообразный шепот леса, микроскопические звуки тишины, сонные голоса ночи. Вкрадчивая, напряженная тревога смотрела ему в глаза густым мраком. Рядом хрипел пьяный.
Полировщик, поворочавшись минут пять, лег на спину. Душная, смолистая сырость распирала его легкие, ноздри, прочищенные воздухом от копоти мастерской, раздувались, как кузнечные меха. В грудь его лился густой, щедрый поток запахов зелени, еще вздрагивающей от недавней истомы; он читал в них стократ обостренным обонянием человека с расстроенными нервами. Да, он мог сказать, когда потянуло грибами, плесенью или лиственным перегноем. Он мог безошибочно различить сладкий подарок ландышей среди лекарственных брусники и папоротника. Можжевельник, дышавший гвоздичным спиртом, не смешивался с запахом бузины. Ромашка и лесная фиалка топили друг друга в душистых приливах воздуха, но можно было сказать, кто одолевает в данный момент. И, путаясь в этом беззвучном хоре, струился неиссякаемый, головокружительный, хмельной дух хвойной смолы.
Полировщик лежал, слушая, как глухо, с замираниями и перебоями, стучит его сердце, отравленное алкоголем. Томительное волнение боролось в его душе с дремотой. Сон убежал вдруг, большими, решительными скачками; мысли, похожие на шелест ночного ветра, наполнили голову; тонкая, капризная грусть стеснила волосатую шею. Полировщик вздыхал, охал; темные невысказанные желания распирали его. В траве, резко отделенные ничтожным пространством, ползли сосредоточенные, извилистые шорохи.
Сперва ухо поймало два или три из них, но потом их прибавилось; невидимая армия насекомых пробиралась в стеблях и хвое, снуя по всем направлениям, и чудилось, что тихо, чуть слышно, звенит трава. Измученный смех совы просыпался в глубине леса. Вслед за этим детский, отчаянный плач зайца резнул ухо и смолк. Прошла минута безмолвия; где-то поблизости разбуженная, маленькая, как орех, синкагайка пропела печальным, милым, отрывистым свистом, фыркнула крыльями и утихла. Кукушка подала голос, ее отчетливые, мелодичные восклицания звучали подобно металлическому шарику, подскакивающему на медном подносе. И с недалекой реки жалобной флейтой пропел кулик, вспархивая над сонной водой.
– Мать честная, отец праведный! – сказал полировщик. – Одно беспокойство, а не то, чтобы что-нибудь.
Нестройная армия воспоминаний маршировала в его возбужденной голове. Палящий, краснощекий, голубоглазый деревенский зной полудня вспыхнул и закружился ослепительным светом. Уютный простор полей пестрел крыльями голубей, лохматыми, увядающими снопами и движущейся вереницей красных бабьих платков. Синяя жидкость озер среди зеленых, плюшевых отворотов осоки.
Крупное дыхание вспотевших лошадиных тел, темные силуэты людей на фоне красной зари. Божественный, великолепный запах земли, сладкий, как только что подоенное молоко, и острый, как запах женщины!
Но это были только расстроенные нервы. Душа этого человека, разбуженная лесом, тянулась к земле, свободной от унылого буханья машинных прессов и мелкой железной пыли, отравлявшей растительность. Он испытывал тяжелое, бессознательное, хныкающее страдание и умиление перед неизвестным, трогающим его щедрой мощностью сил, брызжущих во все стороны, как кровь из раненого, полнокровного тела. Он только сказал, вспоминая слова песни:
Хорошо бы во лесочке
Под-оехать ко милочке…
К себе он чувствовал сладкую, тягучую жалость и глубокую ненависть за все: нищету города и слякоть подвала, убийственный монотонный труд и золотушных детей. И за то, что никак не мог уяснить – чего же он хочет, и чего не хочет, и где же радость?
Крупное, трехэтажное ругательство выползло на его губы и скорчилось, придавленное безмолвием. Щеки полировщика вздрагивали, а слезящиеся, узенькие глаза скупо точили на них нудную, соленую влагу. Он повернулся лицом к земле и поцеловал ее в колючую хвою нежным, исступленным лобзанием, как целуют грудь женщины.
Но едва ли знал он, почему это так вышло: голова, проспиртованная суточным пьянством, одиночество, расстроенные вконец нервы…
Желтые лоскутки солнца, блеклая ржавчина сосновых стволов и пестрые, цветные лужайки. Небо еще бледно, заспано и холодновато-холодновато, как утренняя вода для горячего, после сна, лица.
Полировщик проснулся. Пробуждение его было резко от холодного воздуха, ночная сырость, постепенно проникая в одежду, копила там дрожь утреннего озноба; полировщик, содрогаясь всем телом, сел, застучал зубами и осмотрелся.
Пьяница лежал рядом, ничком. Тело его, одетое в приличный черный костюм, напоминало положением своим букву Т – раскинутые и согнутые в кистях, ладонями вверх руки. Его шляпа высовывалась из-под лица смятым краем, коротко остриженные, черные волосы смотрели на полировщика слепым взглядом затылка. Сохраняя в лице выражение осторожной предупредительности, полировщик нагнулся, взял руку соседа, испуганно подержал ее несколько моментов и выпустил, рассматривая круглыми, как пуговицы, глазами почерневшую кровь лица. Из-за уха к щеке лежащего тянулась запекшаяся, неровная полоса, и пьяный вчера – сегодня стал для полировщика трупом.
Опущенная рука хлопнулась на траву и, повернувшись, приняла прежнее положение. Возле нее лежал револьвер, полузакрытый стеблями.
– Караул, – закричал полировщик, пятясь, как лошадь от узды. – Ай! Ай! Ай!
Весь в жару от волнения, он то подходил ближе, то оглядывался, топтался, кружась вокруг мертвого, охая бессмысленно, торопливо ругаясь. Труп казался ему обманщиком, чем-то вроде пройдохи, клянчащего на бутылку, и возбуждал в нем острое любопытство, смешанное с презрением.
– Дурак… ах ты господи! Дурак! – выпячивая губы, тянул он. – Руки на себя наложить, какие же это способы… а?
Бодрый от сна, он вспомнил, какой он хороший мастеровой, как его уважает начальство, как в следующую получку он непременно, непременно принесет домой все, решительно все, до одной копеечки, и почувствовал к мертвецу презрительную жалость, нечто вроде презрения мужика к барину, выпиливающему по дереву. Затем, струсив, что его могут увидеть здесь, возле трупа, поспешными, большими шагами зашагал в сторону, туда, где по просвечивающей среди деревьев тропе тянулись группы рабочих.
Монотонная ярость гудка будила окрестности. Пар насмешливо выдувал:
Для рабов —
Ни полей,
Ни цветов!








