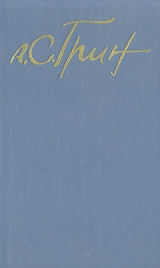
Текст книги "Том 1. Рассказы 1906-1912"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Ну, а он, новый-то? – спросил Моська и тотчас же спохватился, испугавшись своего вопроса в присутствии взводного.
– Новый? – рассеянно процедил Козлов, обводя глазами присутствующих. – Новый ничего… Сидит, молчит… Молчит да думает… Думает, да вдруг и спросит: «Вы, грит, так думаете! Неужели?»
– Охо-хо-хо! – протянул Задвижкин. – А може, и впрямь сегодня придет, коли приехал… Пойду-ко я там посмотрю…
Рыльце у него было в пушку, и надо было кое-что уладить. Задвижкин встал и вышел из-под навеса, торопясь к каптенармусу [13]13
Каптенармус – должностное лицо в армии, отвечающее за хранение имущества в ротном складе (кладовой).
[Закрыть]сообщить новость в предупреждение могущих быть неприятностей. А неприятности могли произойти оттого, что у каптенармуса далеко не все было в порядке как в цейхгаузе [14]14
Цейххауз (цейхгауз) – воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения и т. п.
[Закрыть], так и в амбарах…
Как только он скрылся, Козлов вскочил на скамье и сказал:
– Ну, ребята, держись теперь! Съест!
– Бог не выдаст – свинья не съест.
– Ой, съест! – заговорил молодой тщедушный парень с быстрыми, испуганными глазами. – Ведь и энтот-то живодер! А тот, сказывают, прямо людоед!
– Ну, не каркай, ворона! Поживем – увидим, – сказал другой солдат. – А что новая метла чисто метет, да недолго живет – так и это верно. Попервоначалу сегда так: наедет, накричит, нашумит. То неладно, другое нехорошо, а прошел месяц, надоест, пойдет по-прежнему… А и то сказать, чем наша рота остальных хуже? Так, придирка одна!..
Моська слушал все эти разговоры, и в нем рождалось уныние. Сердце говорило ему, что для него теперь настанет очень плохое житье. Он слыхал много рассказов о том, как расправляется начальство с негодными солдатами, и знал, что бывали такие случаи, когда придирались к пустякам, судили и отправляли в дисциплинарный батальон.
«Хоть бы в конвойную команду отправили! – думал он. – Все легче… Нет тебе этого ученья да емнастики… Вольготно. Когда и трудно бывает, а все же лучше…» Козлов готовился привести еще какие-то соображения по поводу нового командира, как вдруг под навес прибежал, запыхавшись, фельдфебель – низенький бритый старик с жесткими и хитрыми глазами, которые обладали способностью видеть во все стороны даже тогда, когда он, по-видимому, смотрел вниз.
– Бросай чистку! Собирай винтовки и марш на ученье. Живо!
Солдаты зашевелились. Ротное ученье в такой ранний час. Дело ясно: их будут «представлять» новому начальству.
Все кинулись в палатки…
V
Яркое полуденное солнце немилосердно жжет и палит. Ни ветерка, ни облачка; огромное зеленое поле, где сотни раз выводили живых людей и, как лошадей в цирке, заставляли выделывать разные кунстштюки [15]15
Кунстштюки (кунштюки) – разные проделки, фокусы, ловкие штуки.
[Закрыть], пусто. Далеко, на другом берегу реки, густо порошей ивняком, синеет гряда леса, уходя в бесконечную даль. С другого края круглой зеленой площади белыми зубчатыми линиями раскинулись лагеря. Издали маленькие четырехугольные палатки кажутся карточными домиками, готовыми разлететься от легкого дуновения. Там и сям между ними зеленеют тощие тополя и акации. Везде пусто – в поле и небе… Все, кажется, спит, очарованное жарким, ослепительным светом.
В первом ряду маленьких белых палаток заметно движение… Мелькают, шевелясь, исчезая и появляясь вновь, белые точки… Их все больше и больше, и вот, заслоняя очертания палаток, около лагеря начинает извиваться маленькая белая змейка, сверкая длинными блестящими искрами… Слегка подаваясь то влево, то вправо, она растет, приближается… То тут, то там показываются красные точки околышей и погонов, штыки сверкают все гуще и гуще… Слышен далекий равномерный топот, в такт которому волнуется белая колонна. Еще несколько минут, и вы видите, что маленькая белая змейка превратилась в первую роту *** батальона, мерным, торопливым шагом выходящую в учебное поле «представляться» своему новому ротному командиру.
Отойдя от лагерей сажень на сто, рота остановилась. Раздалось одновременное бряцание, и штыки, сверкнув еще раз, опустились. Фельдфебель вышел вперед, молодцевато крикнул, метнул глазами направо и налево и скомандовал:
– Р-ряды-ы-… стр-р-ройся!
Раз-два-три! Рота из четырехвзводной вытянулась в двухвзводную колонну.
– Р-ряды-ы… стр-р-ройся!
Раз-два-три! Теперь шеренги слились в одну и вытянулись длинной прямой линией.
– Равняйсь! Смирно!
На дороге, ведущей из лагерей к батальонной церкви, показалось облачко пыли… Пара вороных лошадей мчала легкую коляску с тремя офицерами. Перед фронтом коляска остановилась, и двое из них – батальонный командир, полковник, седой стройный старик, и прежний ротный, худощавый блондин, – с строгим и усталым видом быстро выскочили из коляски на землю.
Третий, казалось, был нарочно создан для того, чтобы его возили в экипажах. Он не сразу вылез, но, двигаясь осторожно и степенно – причем коляска чуть-чуть не опрокинулась, – поставил на подножку одну ногу, а другую на землю и слез. Затем так же степенно, по-солдатски повернулся всем корпусом и выпрямился.
Солдаты с удивлением глядели на его фигуру. Был он страшно толст, непомерно. Казалось, все в этом круглом шарообразном теле кричало о том, что тесен божий мир и негде повернуться. Трудно было сказать, где кончалась голова и начиналась шея: то и другое было красно и непомерно широко. Он был маленького роста, и поэтому ноги его, толстые, короткие обрубки, одетые в широченные шаровары, казались продолжением туловища.
Трудно было ожидать от такого субъекта поворотливости. Каково же было изумление солдат, когда толстяк быстро и легко вместе с полковником и бывшим ротным направился к фронту.
– Смирно! – прокричал фельдфебель, прикладывая руку к козырьку.
– Здорово, ребята! – сказал полковник.
– Здрав-жлам-вашскобродь!
– Это ваш новый ротный командир, – продолжал полковник. – Слушайтесь и любите его!
Он сказал что-то прежнему ротному, и они, простившись с толстяком, сели и покатили обратно. Толстяк помолчал немного, затем, вытянувшись и приподнявшись на носках, крикнул тонким бабьим голосом:
– 3-здоро, молодцы, первая рота!
– Здрав-жлам-вшбродь! – рявкнули «молодцы».
– Я ваш новый начальник! – продолжал толстяк. – Никаких послаблений от меня не ждите! Инструкцию исполнять неукоснительно! Словесность [16]16
Словесность – здесь: воинские уставы в дореволюционной армии.
[Закрыть]знать назубок. Нос не вешать. Будете хороши – и я буду хорош. Нянчиться с вами я не стану. Мои приказания святы! Издохни, да сделай!
И он помчался вдоль фронта, тяжело дыша, обтирая мокрое лицо батистовым платком и внимательно всматриваясь в лица солдат. Те почтительно провожали глазами начальство, и в лицах их можно было прочитать одно – оторопь!
Моська стоял четвертым с правого фланга, и дыхание у него спирало в груди. Он не мог оторвать глаз от этого красного, белобрысого, толстого человека с белыми ресницами и голубыми глазами, и, видя, как он подвигается к нему все ближе и ближе, Моська испытывал точно такое же чувство, какое испытывает человек при виде жабы. Теперь он мог хорошо его разглядеть. Маленький подбородок, утонувший в толстых складках шеи, придавал его лицу смешное, бабье выражение. Но в низких желтоватых бровях и далеко ушедших внутрь голубых глазках таилось что-то бесконечно упрямое, высокомерное и жестокое. Он подошел к Моське и быстро мимоходом впился острым злорадным взглядом в испуганное лицо солдата.
«Убивец!» – вдруг подумал Моська, и острый холод пронизал его с ног до головы. И, провожая взглядом широкий затылок ротного, он испытывал какое-то смешанное чувство удивления и боязливой ненависти при мысли, что этот грузный, короткий и широкий офицер хладнокровно убивал себе подобных. Но сейчас же это чувство прошло, так как Моська вспомнил, что теперь надо быть начеку и не сделать какого-нибудь промаха. И он еще крепче сжал винтовку в руке.
Пробежав фронт, ротный несколькими быстрыми прыжками отскочил задом от фронта и выкрикнул:
– Слуша-ай! С колена, по колонне – восемьсо-от па-альба… р-ротою!
Шеренга роты разом упала на одно колено и ощетинилась острым гребнем штыков. Торопливо защелкали затворы.
– Р-рота!
Приклады у плеча…
– Пли!
Треск курков.
Толстяк подумал несколько мгновений и вдруг пошел сзади шеренги, внимательно осматривая постановку ног. Дойдя до Моськи, он остановился – и сердце солдата упало.
– Фельдфебель! – услышал сзади себя Моська визгливый тенорок ротного. – Дай-ка этому псу по шее и научи его ставить ноги!
Секунда-другая – и у Моськи в глазах земля заходила ходуном и все завертелось. Опомнившись от удара, он слышал, как толстяк сказал фельдфебелю:
– На три дневательства не в очередь и неделю без отпуска!
«Новый» начинал, по-видимому, оживляться: то тут, то там слышался его визгливый крик, и его нога в широком лакированном сапоге то и дело толкала солдат, то и дело поправляя ноги и руки. Наконец он скомандовал:
– Встать. Солдаты встали.
– Плохо! Вижу сразу, что все плохо! – кричал ротный. – Но я вас буду учить! Я многих, многих учил!
Началось бесконечное ротное ученье – с маршировками, с беглым шагом, поворотами и построениями, в течение которого ни на минуту не смолкал голос, бранчливый и визгливый, толстяка. Глаза его моментально обегали роту и вспыхивали, когда он замечал оплошность или ошибку.
Через два часа солдаты, разбитые и усталые, шли к палаткам. В воздухе неслась бессмысленная, трактирно-солдатская песня:
Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится, хочет упасть…
VI
Для первой роты наступили тяжелые времена. Все подтянулось. Ничто не ускользало от внимания и зоркого взгляда маленьких голубых глаз нового командира. Он проявил поистине какую-то чудовищную неутомимость и, раз решив, очевидно, поставить роту на «образцовую» ногу, не давал никому покоя. Он лично осматривал одеяла, матрацы, мундиры, брюки, галстуки, пуговицы, пояса, винтовки, сумки – все, что только имело отношение к солдату и к чему имел отношение солдат. Ночью он являлся неожиданно, когда все спали, и, выслушав рапорт дежурного по роте, молча обходил палатки, прислушиваясь к дыханию спящих, стараясь определить, спит ли человек или только притворяется.
На ученье он выходил из себя, если случайно вздрагивал штык у кого-нибудь в рядах… Он даже похудел и побледнел, если только можно назвать худобой увеличившееся количество складок на шее и менее красный цвет лица. В течение какой-нибудь недели он устроил два обыска в солдатских сундуках, ища запрещенных книг и прокламаций, «потому что, – как выразился он однажды, – солдат насчет этого не дурак…». В гимнастике он требовал безукоризненной отчетливости, и солдат, перескочивший, например, яму так, что одна нога его была впереди другой на два вершка, – должен был прыгать до тех пор, пока не делал прыжок удовлетворительно или не сваливался от изнеможения.
Зайдя однажды на кухню, он приказал посадить на трое суток под арест артельщика и повара за то только, что те вздумали сварить вместо надоевшей капусты макароны.
– Это что такое? – визжал он. – Что за Италия? Зачем это? Макароны? Баловство! Щи и каша – каша и щи! Вот солдатская еда. Если вы, сукины дети, еще купите макарон, я вас самих заставлю сожрать весь котел.
Каждый день кто-нибудь сидел в карцере. Сажал он за всякие пустяки: за недостаточно молодцеватое отдание чести, оторванную пуговицу, плохо смазанную винтовку. Все ходили на цыпочках. Даже развеселый Козлов приуныл после того, как постоял под ранцем шесть часов и едва не слег после этого в лазарет.
Фамилия нового ротного была Миллер. Тупой, злопамятный и ограниченный, он ненавидел солдат, как своих личных врагов, и не без основания: редко кто из рядовых, увидев где-либо между палатками широкий, собачий затылок Миллера, не посылал ему проклятие. В пьяном виде он бывал очень чувствителен; тогда он собирал солдат вокруг себя и, засучив руки в карманы, икал и, нелепо двигая бровями, пояснял им, что он их «отец» и прочее. Но горе тому, кто во время этих крокодиловых слез не умел изобразить в лице достаточного внимания к словам немца: слащаво-нахальное лицо Миллера мгновенно принимало жесткий и угрюмый вид, глазки суживались, и «отец» уже совершенно другим тоном, с угрозами и ругательствами набрасывался на тех, кто, по его мнению, недостаточно близко принимал к сердцу его слова.
– Тебе, Федоров, я вижу, трудно меня слушать, – начинал он в таких случаях. – Так чего же ты, братец, здесь стоишь? Тебе не нравится, да? Не нравится, я вижу, не нравится, что я говорю? Ты, может быть, лучше на сходку пошел бы, к разным социалам? А? Ну что же, ступай и ступай, братец!.. Насильно мил не будешь!.. Ах ты, бродяга! – неожиданно накидывался он на оторопевшего Федорова. – Да ты знаешь, кто я? Как ты с-смеешь, мерзавец? – и взгляд, полный ненависти, казалось, хотел пробить насквозь и пригвоздить к земле ни в чем не повинного Федорова.
– Ну и слон, братцы! – сказал однажды Козлов в своей компании, играя «в три листика». – Этакого слона ни в сказке сказать, ни пером описать. Хоть западню на него ставь…
– Кто это – слон? – спросил партнер, убивая козырного валета.
– А он – Миллер, едят его мухи! Иду я давеча – глядь, он катит по дорожке, все место занял – не пройдешь… Чисто слон…
Кличка Слон так и осталась за Миллером. Слово, пущенное случайно за карточной игрой, крепко пристало к новому ротному и даже среди офицеров, узнавших, как зовут Миллера солдаты, получило право гражданства.
Легко представить, во что обратилась теперь жизнь для Моськи. Два раза фельдфебель докладывал Миллеру, что Моська – никуда не годный солдат, и два раза Слон категорически, с пеной у рта, заявлял, что плохих солдат у него быть не должно.
– Бей! Плох – бей! Под ранец! В карцер! Все, что хочешь! Или сгони в могилу, или сделай солдата!
Мелкое солдатское начальство: ефрейтора, унтера, фельдфебель, – подгоняемые сверху, окончательно осточертели и походя срывали злобу на более робких и забитых. Особенно невыносимой жизнь сделалась для Моськи.
Парень похудел, осунулся, и в глазах его, больших и недоумевающих, появилось какое-то новое, небывалое выражение затаенной тоски и безграничного отчаяния. Как затравленный зверь, вздрагивая при виде офицерских погон, бродил он по казарме, грязный, оборванный и жалкий, сторонясь товарищей и неохотно вступая в разговоры… Только когда осень позолотила листву деревьев и желтое жниво ощетинилось в полях, взгляд его как будто прояснился и стал мягче: парень вспомнил дом, домашние работы, уборку хлеба и родную ниву, далекую от его холодной, мрачной казармы…
VII
Батальонная канцелярия помещалась возле офицерского собрания, на большой лужайке, затейливо украшенной живой изгородью и цветочными клумбами. Смеркалось. В окнах дежурной комнаты вспыхнул огонь и осветил два окна. Это Моська, назначенный сегодня вестовым к дежурному по батальону, ротному командиру первой роты капитану Миллеру, зажег огонь.
Миллер еще не приходил. Моська, свободный пока от несения служебных обязанностей, сидел у большого некрашеного стола и перелистывал тоненькую книжку, на обложке которой был нарисован огнедышащий змей с двумя целыми головами и одной отрубленной. Возле змея стоял молодой человек в латах и шлеме и замахивался мечом на другую голову. В темной офицерской комнате часы торопливо и бойко постукивали, как бы разговаривая сами с собой… В окно доносились смешанные звуки лагерной жизни: игра на гармонии, отрывки песни, брань, стук шагов.
Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Слон, заняв корпусом всю ширину дверей. Он был пьян и пальцами слегка придерживался за косяк. Моська вскочил и вытянулся. Миллер обвел взглядом помещение и грузными, короткими шагами направился в дежурную комнату.
– Огня! – бросил он на ходу.
Моська кинулся со всех ног к лампе, от волнения руки его дрожали, и спички тухли одна за другой. Наконец вспыхнул огонь, и тусклый свет озарил дешевые обои, письменный стол и кровать в углу. На стол стояли пустые пивные бутылки, на тарелке лежал сыр и кусок хлеба. Слон с минуту постоял посередине комнаты, потом засунул руку в карман и, вытащив скомканную десятирублевку, бросил ее на стол.
– Вестовой! – прохрипел он. – Живо за коньяком! Марка «Н» с черной звездочкой – бутылку! Ты, песья душа, знаешь, что такое звезда? Звезда… звездочка… трум, трум… трум… Ну, чего стал? Живо, марш!
Моська бегом бросился в офицерский буфет и через пять-шесть минут вернулся с бутылкой коньяку и большой граненой рюмкой. Поставив принесенное на стол, он отошел к порогу и, вытянувшись, замер.
Слон сел на кровать у стола и согнулся, подперев голову руками. Сигара, которую он сосал, постепенно выползла изо рта и с легким стуком упала на пол. Слон вздрогнул, посмотрел на Моську тупым соображающим взглядом и потянулся.
– Налью-ка я себе… – бормотал он, – а тебе, вестовой, тебе не налью… Я – офицер, ты же есть холуй… А потому трескай себе казенную водку, жри… А я буду пить коньяк! – Он медленно налил рюмку и залпом ее опорожнил. – Ты, – продолжал он, обтирая усы и грузно пыхтя, – в сущности не должен на меня смотреть… Это р-роняет… пре…престиж власти… Этого не полагается… Ну, все равно… Я буду пить, а ты облизывайся…
«Убивец!» – думал Моська, глядя на красные, пухлые руки Слона с оцепенением, похожим на чувство, с каким жертва смотрит на своего палача.
– Пью я, дорогой мой солдат… – сказал Миллер, облокотившись на стол и положа голову на руки. – Пью… Пьян же отнюдь не бываю… Отнюдь! Заметь это… Почему? Ответ ясен: потому что устаю, и мне добрая бутылочка всегда полезна… А как с вами, собаками, не устать? Сильно устаю… Как тебя зовут?
– Мосей Щеглов, вашбродь! – едва слышно произнес Моська.
– Moсей… Щег… Щег… А! а!.. Это ты, дорогой, значит, так отличаешься? Это ты-то никуда не годная тварь? Н-ну-ну! А ведь я вас учить приехал? А? Я вас выучу!
Слон засмеялся и лукаво погрозил Моське пальцем.
– Но без тонкостей! Эти разные шуры-муры солдатские, нюансы и амуры – побоку! К черту! Учить – прямо, честно, по-солдатски! В ус и в рыло! Чего дрожишь? Не бойся! А ты думал, что тут тебе тятя с мамой блины пекли? Как же! Держи карман шире! В солдаты пошел – пропал! Нет больше никакого Мосея, а есть рядовой! И как рядовой ты об-бязан исполнять все… Быстро, точно и… и б-беспрекословно! Скажу – убей отца! Убивай моментально, дохнуть не дай! Скажу – высеки мать! Хлещи нещадно! В рожу тебе плюну – разотри и с-смотри козырем, женихом, конфеткой! Захочу – сапоги мои целовать будешь! Вот что! Ха-ха-ха-ха-ха!..
Мосей вздрогнул. Слон хохотал неистово, сладострастно, и толстые багровые жилы вздулись на его лбу… Наконец, задыхаясь, он хлебнул еще рюмку и продолжал:
– Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну – родина там… что ли… отечество… для защиты, а? Царь, мол, бог… Те-те-те! Для послушания вас берут, вот что! И потому существует дисциплина Без дисциплины ты есть что? Мужик. А нам мужика не надо, не-ет! Совсем н-не надо!.. Пусть и духу в мужицкого не останется! Чтоб и про село свое он был, где родился. Тебя посылают, тебе приказывают – и… баста! А куда, зачем – тебе какое дело! Пошлют на японца – сдыхай в Маньчжурии… Пошлют мужиков бить – режь, грабь, жги! Тебе какое дело? Я в ответе, не ты!
Слон выпил еще.
– Я знаю, вы народ хитрый, вы, собаки, дошлые! Я знаю!.. Я все знаю! Знаю, куда у вас ходят по вечерам! Знаю, какие книжки вы читаете! И прокламации… Под расстрел хотите? М-можно… Вы думаете, эти дураки ваши, деревенские-то, добьются чего-нибудь? Шиш с маслом! 3-земли и воли? А штык в спину? Политической свободы, ска-а-жите!.. А пятьсот горячих? Демократической республики! А кулак в зубы? Ниче-е-го вам не надо и… незачем!.. Ведь вами, как скотиной, надо пользоваться! Вези, пока не сдох!.. Мы! – Он ударил себя кулаком в грудь. – Мы благородны! Мы люди! Наши деды на ваших дедах верхом ездили! Сено возили!.. Мы сильны и… б-благородны! А вы хамы!
…Я вас буду учить! Я буду палкой загонять вам в голову словесность… А стрельбе научу без пр-ромаха! Десять раз у меня окривеешь, и будешь попадать! «Нет у тебя Бози инии, разве мене…» [17]17
«Нет у тебя Бози инии, разве мене…» (церковнослав.) – Нет у тебя Бога иного, кроме меня.
[Закрыть]Помни эту заповедь, а то я спущу тебе штаны и напомню по-своему!.. Ведь ты хам, с тобой все можно!.. Запорю, засужу, уб-бью – и ничего не будет! Ведь ты хам, хам? Да? Говори! Хам?
Они стояли лицом к лицу: один – озверевший от вина, злобы и скуки: другой – белый как мел… Губы у Моськи дрожали, и сердце сжималось от невыносимо тоскливого и отвратительного чувства… Уйти бы, уйти, уйти!
– Ну… ну, говори… Хам ты или нет?
Рука Миллера уже протягивалась в воздухе, ища, за что схватить Моську. Исступление овладевало им…
– Никак нет, вашбродь! – вдруг сказал Моська быстро и отчетливо, смотря прямо перед собой…
Наступило молчание… С минуту Слон стоял перед Моськой, вытаращив круглые, пьяные глаза и смешно двигая бровями. Он старался уловить смысл неожиданного для него солдатского ответа…
– Что – «никак нет»? – переспросил он, садясь снова на кровать, причем она оглушительно затрещала. – Что – «никак нет»? – закричал он, снова приходя в бешенство. – Так я вру? Так ты кто? Чел-ловек, «чаэк», м…мужик, крестьянин? А не хам ли ты, подлая, рабья душа? Так я… что же, по-твоему, делаю, вру? А? вру?..
Тоскливое, нудное чувство вдруг сразу прошло у Моськи, точно его совсем и не было… Комната поплыла перед его глазами, и вдруг стало как-то странно легко и весело… Он внутренне усмехнулся и сказал быстрым, громким шепотом:
– Вы… людей убиваете, вашбродь… Вот что вы делаете!
Миллер откинулся назад всем корпусом, и его широкий, плоский затылок глухо стукнулся о деревянную стену. Через мгновение он расхохотался звонким переливчатым смехом:
– Ай-яй-яй! А-ха-ха-ха-ха-ха! Ай да вестовой! Ну и мужик! Ну и глуп, глуп, ну и глуп же ты, глуп, глуп ужасно! Да ведь ты совсем, совсе-ем дурак… Набитый дурак! Ты это понимаешь? Или не совсем? Отмочи-и-ил! Так что? Людей убиваю? А почему же не убивать, а? Зачем им жить, ну? Зачем?.. Скажи!
Слон нагнулся на кровати и впился в лицо Моськи маленькими, пьяными, тусклыми глазками.
– Подлец! Мерзавец! Идиот! – вдруг заорал он, топая ногами. – Да как ты… Да я… Да смеешь ты как?! Убью, зарежу! Задушу! И в ответе не буду!
Моська стоял неподвижно и грустно смотрел в окно… Ему совсем не было страшно, только хотелось скорей и во что бы то ни стало кончить эту безобразную, унизительную сцену…
Наступило молчание… Стенные часы звонко пробили девять… Лампа коптила, бросая гигантскую уродливую тень на стену от круглой, огромной головы Слона, На крыльце послышались шаги. Миллер поднял голову.
– Я с тобой разделаюсь, – сказал он, посмотрев в лицо вестовому взглядом, полным холодной угрюмой злобы. – Будешь доволен… Ступай, кто там?..
Моська вышел в переднюю.
VIII
В передней, робко толпясь у дверей, стояло пятеро молодых солдат четвертой роты. Впереди других cтоял худенький юноша солдат, держа в руках большую деревянную чашку.
– Вы чего, ребята? – спросил Моська и прибав шепотом: – Пьян дежурный-то!.. Злой, кричит… топает… Вам чего?
– Ну, Моська, не собаки же мы, – сказал один солдат. – Ты посмотри, как кашицу варят, с червями… Что ж, с голоду помирать, што ль? Сухарями-то сыт не будешь. Ступай доложи дежурному: так и пришли, мол, из четвертой роты, на кашу жалятся… Пища, мол, негодная совсем…
В дверях неожиданно появился Миллер, угрюмо смотревший на группу солдат.
– Вы что? – отрывисто спросил он.
– Позвольте доложить вашему благородию, – ступил солдат с чашкой, – то есть никак не возможно есть эту кашицу… С червем, вашбродь!.. Так что хотели беспокоить ваше благородие… По нужде!..
– Покажи, – сказал Слон и, взяв у солдата чашку стал рассматривать ее содержимое при свете лампы, – Гм, черви… Где же черви? Я не вижу…
– Вот, извольте посмотреть, вашбродь, – сказал! третий солдат, подавая обрывок бумажки, на которой! лежали два маленьких мокрых комочка. – Они самы…
Миллер неожиданно размахнулся и швырнул чашку! из всей силы в лицо говорившему. От неожиданности тот откинулся назад и ударился головой о косяк двери. Горячая серая жидкость потекла по его лицу, мундиру и брюкам, а на губах показалась кровь…
– Да вы что, собаки! Сговорились, что ли?! – заревел капитан. – Бунтовать? Жаловаться? Черви? Сами вы чер-рви! Я вас!..
Он отскочил на два шага, быстро отстегнул кобуру и выхватив черный блестящий револьвер, в упор направил его в грудь первому, кто стоял ближе к нему. От неожиданности и изумления никто не успел даже пошевелиться, поднять руку. Сухо щелкнул взводимый курок…
Вдруг с быстротою молнии Моська кинулся к Миллеру сзади и, схватив капитана за плечи, сильно ударил его ногой под коленки… Слон потерял равновесие и грузно брякнулся спиной о пол. Комната заходила ходуном от сотрясения… Так же быстро одной рукой подхватил Моська упавший револьвер, а другой оборвал тоненькую шашку капитана… Миг – и она со звоном разлетелась в куски, скомканная дюжей рукой Моськи. Миллер, придавленный тяжелым солдатским коленом у самого горла, беспомощно хрипел и метался, хватая руками воздух…
– Будет, барин, над людьми измываться!.. – высоким, не своим голосом крикнул Моська. – Люди мы, не псы, не хамы! Что ты своим благородством-то гордишься, убивец! Убивец ведь ты! Ведь ты людей по миру пускал! Ты за что хотел человека стрелять? Ах ты, пес, негодная ты тварюга! Ты мне чего сичас говорил? Плюну, мол, тебе в рожу, а? А ты, мол, разотри да смейся, а? Так на же тебе! – Он нагнулся над посиневшим от страха и злобы Миллером и звучно плюнул ему в лицо. – Разотри! – сказал он, вставая. – Вот и будешь ты… конфетка!..
Слон медленно поднялся… Глаза его блуждали, а губы беззвучно шевелились… Моська стоял перед ним, сжимая кулаки, и смотрел на этого жалкого пьяного человека-зверя… Потом подумал и сказал:
– Ничего, говоришь, не добьемся? Врешь! Всего добьемся!
Через два месяца Моська был присужден за насилие над офицером и оскорбление последнего при исполнении служебных обязанностей в бессрочную каторгу. Но первая рота помнит Моську.








