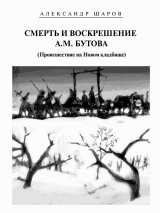
Текст книги "Смерть и воскрешение А.М.Бутова (Происшествие на Новом кладбище)"
Автор книги: Александр Шаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
8
И Бутову привиделось: как-то раз он заблудился в горах Карадага и давно заброшенной тропой вышел к склону ущелья. Там был поселок – два ряда глиняных строений и ни одного живого человека. Поселок был наполовину погребен песком, мелкими камнями, отвердевшим потоком селя. В одно строение удалось заглянуть через верхнюю треть окошка. На стене висел яркий палас. Он подумал тогда: пройдет немного времени, и поселок совсем скроется из виду. А еще через какой-то срок его раскопают археологи. И на воздухе палас выцветет, распадется. Археологи будут думать, какая это была цивилизация, родившая такую красоту, и отчего она погибла.
И вдруг в вымершем поселке к нему, Бутову, подошла грязная старая собака; пегая с проплешинами – кое-где шерсть выпала, кое-где свалялась, как войлок. Она не одичала с той поры, когда отсюда вывезли жителей поселка. В ней, давно питавшейся как зверь, осталась любовь к человеку. И хотя запах Бутова был, вероятно, не похож на тот неповторимый запах ее хозяев, но время съело различия; все-таки – человек. Она жалась к ногам Бутова, повизгивала, скулила, махала хвостом, и все это переводилось:
– Вот и хорошо. Вот вы, люди, вернулись. А я охраняла ваши жилища. Где вы были? Бродили по свету, пока не поняли, что в мире нет ничего лучше наших гор и нашего ущелья? Глиняных хижин, которые вы – люди со своими предками, и мы – собаки со своими предками, обживали и согревали столько поколений?!
Когда Бутов пошел из ущелья, собака поплелась за ним, проводила до последней хижины и недоуменно смотрела вслед ему, уходящему. Она осталась сторожить – ведь в этом было ее предназначение.
– … Они никогда не вернутся, те, кто изгнан из этих хижин. Иные умерли, но до последнего мгновения в их памяти был образ горного поселка – их родины; другие скоро умрут, но никто никогда не вернется, – угрюмо сказал Некто.
…А Бутов – тот, молодой – шел и шел по коридору. И время растягивалось. Оно растягивалось, как мехи некоей чрезвычайно странной гармошки. Странной именно бесконечностью своего звучания, которое все резче, отчаяннее, по мере того как он идет по коридору. Это живое время его жизни растягивалось в иное, мертвое время самосуда, долженствующее вместить столько картин, свидетельств, мыслей – непонятно как, но очень крепко связанных между собой. Они теснятся – эти картины, просвечивают одна сквозь другую под неумолкающий стон мертвого времени.
9
И Бутову видится тундра.
– Почему же вы раньше не открыли мне все, что я вижу сейчас? – спрашивает Бутов у Некто.
– Зачем? Ведь это происходило на глазах у всех, – ответил спрашиваемый. – Шаги по лестнице к обреченной квартире явственно доносились в другие квартиры, чей черед непременно наступит, только не сегодня, а в одну из следующих ночей. Их слышали во всех домах, во всем городе, во всей стране, как слышали стон убиваемых и насилуемых в том большом городе твоего детства. Слышали и прятали головы под подушку. Слышали, чтобы через день или через год, самое большее через поколение – забыть.
Ведь ты тоже наутро прошел мимо непогребенной матери!
В темноте возникает в одном из тех серых пузырей женщина с длинной черной косой, лежащая неподвижно в луже крови, растекшейся по асфальту. И слабо доносится из пустоты ее голос, той, которая – единственная в мире – истинно любила Бутова; даже теперь она пыталась защитить его:
– Я была мертва, совсем мертва, мой мальчик. Хоть обо мне не печалься, тебе и так тяжело. Я боялась одного… Да, когда я вырвалась и поднялась на подоконник, когда прыгнула уже: боялась, а вдруг я не разобьюсь до смерти, останусь живой; мне уже нельзя было быть живой. А вышло так хорошо. Ты же не видишь моего лица, а только косу. Помнишь, ты любил, когда я распускала волосы; ты прятался в них, как в шатре.
…Несколько минут, или лет, или столетий – какая разница, – царила тишина. Это потому, что, когда прозвучит голос святого или святой, все должны замолкнуть, пока сказанное не врастет в дух и плоть Земли – или отторгнется землей. Такова ЕГО воля.
Все молчало, а пространство вокруг еле заметно светлело или просто становилось шире.
Когда время прошло, Бутов спросил:
– Но почему вы не дали мне вместе со знанием еще хотя бы год? Я бы жил иначе.
– Я и братья мои должны изгонять разменявшихся, тех, которые с душонкой, а не душой.
– И я из тех? – спросил Бутов. – Суд только начался, и видеть будущее нам не дано. Приговор себе ты вынесешь сам, не сразу и не зная, что вот это твое слово, твои видения войдут в приговор и все решат. Пойми: человеку дарованы не одна, а две жизни, он осужден не на одну, а на две жизни. И от того, как он сумеет пройти через вторую – жизнь воспоминаний, – зависит его будущее в смерти.
Когда Некто замолк, очень издалека донесся шепелявый, запинающийся голос Р.:
– Вы понимаете?! Каждый обязан это понять. Пусть даже только к старости, пусть даже после смерти. Те, кто поймут…
– Воскреснут? – спросил Бутов.
– Нет, нет! Но они превратятся в травы, цветы, деревья. А те, кто не понял, – они исчезнут в ничто.
– И вы исчезли в ничто?
– Нет, нет! Каждую весну мой прах дает жизнь голубому перелеску, который цветет неделю; у нас весна очень коротка. Но это так много – неделя под солнцем. А после цветок поедает олениха, и я становлюсь ее плотью, молоком, которым она поит свое дитя. Вы поняли?
– А если взглянуть на жизнь с высшей точки? – после долгого молчания спросил Бутов.
– А у тебя она была – высшая точка?
– Не знаю… Может быть, в войну, когда на фронте?!.. Нет, не знаю. Во всяком случае, на фронте никто из нас не лгал; мы были свободны от вечной «повинности лжи»… Или там только почти свободны?!
10
Мертвому Бутову снова видится: он идет по тускло освещенному пыльными плафонами коридору. Было ли это до той обзорной лекции или после – вспомнить он не может.
…Он торопится. Ему предстоит досрочная сдача экзамена по курсу «История экономических учений».
Задумавшись, Бутов почти наталкивается на Р., который стоит посредине сумрачного коридора.
– Я опоздал? Вы уходите?
– Что вы!.. – Р. подносит палец к губам и продолжает почти неслышным шепотом. – Я специально ждал вас, чтобы предварить о некоторых существенных обстоятельствах… Я, видите ли, освобожден; несколько странное производное от «свобода», но ведь не одному этому слову приходится переучиваться, не правда ли? Меня освободили от заведования кафедрой. Вы понимаете – из брахманов перечислен в «неприкасаемые». Но права принимать зачеты пока не лишен. Все-таки, может быть, благоразумнее пойти к другому преподавателю… Контакты с нашим братом «неприкасаемым» не очень поощряются.
– Что вы, – быстро и горячо возразил Бутов. – Поступить так значило бы… Нет, нет!
– Признаться, мой мальчик, я был уверен, почти совсем уверен, что вы примете такое… неблагоразумное решение. Что ж, «пойдем искать по свету…». Может быть, в апартаменты любезной Марфы Степановны; там ведь, помимо метлы, помнится, наличествуют еще столик и табуретки?! Нам парадные покои без надобности…
Профессор круто повернулся и пошел вглубь коридора. Бутов следовал за ним, однако все больше и больше отставая. И отставал он, как виделось нынешним бесстрастным мертвым сознанием, не случайно. Произнесенное сгоряча: «что вы, что вы профессор, это было бы…» – с каждым шагом, вернее сказать, с каждым шажком улетучивалось и забывалось. Теперь то, что сказал Р., потрясло Бутова. Страх нарастал, как снежная лавина, покрывая все человеческое. Сын своего времени, он усвоил, что общество живет по физиологическому закону «все или ничего»; именно это как-то сказал ему Р. Раз начавшееся – доводится до конца; значит, судьба Р. – окончена. Бутов занят своим открытием, но минуту не больше. Минуту он примеривается к открывшимся обстоятельствам – и примеряется к ним с быстротой, его самого удивляющей. Да и о чем долго раздумывать: обострение идеологической борьбы и т. д.
И ведь много раз виделось во сне нечто подобное именно по отношению к Р.; не могло это быть случайным. Инстинкт предупреждал. А последнее время уже не только инстинкт – появился рад заметок в университетской многотиражке и в центральных газетах… Нельзя не понимать опасность встреч с профессором, несвоевременность затеи с досрочной сдачей экзамена. Тем более что профессор имеет обыкновение, кроме отметок, заносить в зачетку отзыв: «Вы прекрасно мыслите!»; «Идите той же дорогой!», и т. д. Впишет Р. что-либо подобное, – а он обязательно впишет, – потом иди доказывай.
По мере того как зрели – и с огромной быстротой – эти несложные соображения, Бутов, бессознательно еще, все замедлял и замедлял шаги. И стыда при этом не чувствовал. Были только следы какой-то неловкости, сразу тонувшие в простой мысли: «а кому это на пользу – лезть в петлю?!»
Р. тем временем остановился у маленького закутка в конце коридора, где висел на крюке красный огнетушитель, к стене были прислонены принадлежности труда уборщицы – метла и мусорное ведро с совком, и стояли табуретки.
– Попрошу, – приветливо, почти весело сказал Р., оглядываясь на Бутова, остановившегося шагах в пят-надцати.
– Нет, нет… Я не очень хорошо себя чувствую; я не успел проработать необходимый материал. Да и зачетка проклятая запропастилась.
Бормоча это, Бутов пятился мелкими шажками, потом повернулся и побежал; этого ему не суждено забыть ни в жизни, ни в смерти. Р. сделал несколько шагов вслед, не сразу поняв, что же это происходит, и пытаясь догнать любимого ученика; или его толкали другие причины? А Бутов, слыша робкие шаги, бежал все быстрее и быстрее, пока не выбрался из коридорной тьмы на ярко освещенную солнечным светом лестничную площадку, пока не сбежал вниз по лестнице на улицу.
…Там, над ледяной тундрой, поднимается из-под земли Р. Бутов сразу узнает его по милой застенчивой улыбке; то виден один череп, то лицо, замученное, но с этой улыбкой. И у Бутова странно живое для мертвого горькое чувство, что Р. непереносимо больно воплощаться, возвращаться оттуда.
А Р. невнятно – у него выбиты зубы – говорит:
– Знаете, коллега, я догонял вас тогда – вы помните, в Университете, только для того, чтобы сказать: «Еще петух не пропоет – и вы, именно вы окажетесь среди тех, которые предадут меня». – Я не предавал, – говорит Бутов.
– Неважно, совсем неважно… А знаете, этот эпизод был очень уместен именно для меня. Наблюдая ваше бегство, я все понял. Впервые, как это ни странно, полностью осознал свое положение; ну и поспешил домой, успел еще сжечь некоторые бумаги – знаете, «игру в слова». Это нисколько не помогло, как видите, но все-таки я сделал все возможное.
И Р. исчезает. Снова тихая, такая тихая тундра, тишина, тысячи или миллионы могил, над которыми нет даже холмика; бесшумно промелькнет тень полярного волка, пробежит олень, песец, пройдет охотник в мягких торбазах на широких лыжах. Так все мирно, нетронуто…
…В пустоте возникает еще одна сцена, произошедшая незадолго до той, в коридоре Университета. Бутов признается Р., что мечтает перевестись на филологический и посвятить себя поэзии. В ответ Р. произнес длинный монолог, внешне спокойный, но внутренне пламенный – иной формулы не подберешь:
– Я пытаюсь отговорить вас, – закончил он, – не только потому, что жаль потерять хорошего ученика. И не потому, что сомневаюсь в истинности вашего поэтического призвания; тут я плохой судья. Само время не «трудновато для пера» – а невозможно; это очевидно для каждого внимательного наблюдателя. Вы не согласны со мной.
– А Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Гумилев, тот же Маяковский?! – возразил Бутов.
– Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Гумилев из другого столетия – девятнадцатого, а может быть, даже из восемнадцатого. Они заблудились во времени. Вы понимаете! Они опоздали родиться… Да, да, – подумаем хотя бы об Анне Андреевне Ахматовой. Помните ее строки: «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз». Разве это не звучит как набат, как предостережение человечеству – не из жизни даже, а почти из смерти, уже исполнившейся. Поэт может быть и не прав в своем скорбном прощании с землей. Ей, «плакальщице дней минувших», придется вернуться в последние дни Земли. И печальный одинокий голос ее, в котором звучит гулкий, из золота и серебра, незримый колокол, разольется повсюду, где земля залита кровью – поверх кровавого моря, даруя вечный покой одним из тех, кто этот голос услышит, и вечную муку другим.
– А Маяковский? – как-то неохотно спросил Бутов.
– Он, конечно, из двадцатого века. Но ведь убит именно этим своим страстным любимым временем.
…Разговор оканчивался в Университетском садике, который неторопливо пересекал человек в темно-сером костюме, с большой, проросшей черным волосом бородавкой на левой щеке; один из тех, которые вскоре будут решать судьбу Р. Бутов ощутил неясное беспокойство, когда темно-серый сел на скамейку неподалеку.
– Вы не опасаетесь? – кивнув в сторону темно-серого, еле слышно спросил Бутов. На лице Р. появилась странная – его, милая, а сейчас как бы и обреченная улыбка.
– Мы ведь всегда втроем, – ответил Р. – «Я, ты и государство», «я, ты и партийная линия»; «я, ты и соглядатай»; даже: «ты, она и бесплотное, но существующее – личная жизнь»: странное понятие, в котором, как в болоте, потонула любовь, дружба, верность, милосердие. Не так ли? О чем же писать, если все это потонуло? Объясните мне? И какими словами писать?
Бутов молчал. Никогда еще он не любил так полно и восторженно своего профессора. И никогда прежде раздражение против легкомысленного поведения Р., поднимающееся снизу, из темноты, не из самой ли преисподней – ведь у каждого своя преисподняя, – не ощущалось так остро. «Зачем Р. говорит громко? Кому он бросает вызов?» Бутов втягивал голову в плечи и изо всех сил напрягал шею – от этого возникал и охватывал его, защищал гул, несколько заглушавший голос Р.
Но ведь мнимый этот гул не спасал от темно-серого.
Неожиданно для себя Бутов громко сказал, почти прокричал:
– Но я с вами, профессор, не согласен!
Темно-серый мельком взглянул на Бутова и снова вперился неподвижным взглядом в блеклое совершенно пустое небо, выжженное надвинувшейся неожиданно летней жарой. «Взглянул все-таки. И не забудет! Он-то запомнит!»
От этого «не забудет» Бутов почувствовал некоторое подобие радости, шаткую успокоенность; но и позор вошел в его душу, как оказалось, уже распахнутую для стыда и позора.
– Вы трус! – сказал Некто мертвому Бутову. – Как же вы смеете думать, что тогда у вас была еще живая душа?!
«Да, я поступил как предатель», – вполне понимая, что и это признание войдет в приговор, безразлично к себе подумал мертвый Бутов.
…А там, в видении прошлого, профессор продолжал свой монолог.
– Слова расшатываются в самой основе. Из чего же строить стихи?! «Уклон» в старых словарях – интереснейшее и поучительное чтение эти старые словари; так вот, в прежнее время уклон – угол, на который предмет откачнулся – вполне безобидно. Или еще: отклонить от кого-то удар или бедствие. Слово сражается за правду. А теперь само слово «правда» обрело столько прилагательных, меняющих смысл его на противоположный, вообще лишающий его смыла. Прекрасное, сказочное «кривда» – вымерло. Какое зловещее понимание приобрело сегодня понятие «уклон» – все мы знаем. Не так ли?! «Репрессивные меры», произошедшие от французского «репрессалии» и до последнего времени нашим языком почти не принятые, означали «меры принудительные и притесняющие». А теперь «репрессирован» почти всегда уясняется другим словом – «расстрелян». Слова сходят с ума, ожесточаются.
Бутов беспокойно переводил взгляд с Р. на темно-серого и обратно; профессор не замечал этого или не хотел замечать.
– Лучше поговорим позднее, в другой раз, – почти умоляюще сказал Бутов.
– Зачем откладывать, – возразил Р. снова с мягкой своей, милой улыбкой. – Вы ведь не торопитесь на свидание…
– Нет.
– Ну и я никуда не тороплюсь. Да и как откладывать разговор, если вы, как я слышал, уже подали заявление о переводе. Ведь так?
Бутов кивнул.
– А вступая на новый путь, да еще и такой трудный, героический, необходимо ясно определить себе, в чем суть этого понятия – поэзия?! Не так ли! Чтобы стихи родились, надо иметь право сказать о себе: «Я не рожден, чтоб три раза смотреть по-разному в глаза!»… Но это определение принадлежит поэтам, заблудившимся во времени, живущим среди нас пришельцами из прошлого, чтобы бестрепетно принять все муки века нынешнего.
Р. вдруг встал и быстро ушел, только кивнув Бутову.
11
Пространство вновь заполняется иным. Ветер войны врывается в мертвое сознание Бутова; а крутом еще самый что ни на есть мирный пейзаж; до чего же тихо. «Покой нам только снится…» Потом будет вдоволь времени помечтать: пусть бы хоть на секунду приснился нерушимый покой. Чтобы вспомнить, какой он есть. Чтобы на прощанье убедиться, что он может быть, во всяком случае – мог быть.
Тихо. За палисадником одноэтажные домики; в окнах немногих из них, несмотря на поздний час, горят лампы, и свет, пройдя сквозь древесную тесноту листьев, кружевами ложится на землю. Кто-то целуется: может быть, это сильнее даже войны, хотя так беззащитно и хрупко. Любовь торопится. После бесконечного поцелуя, от которого захватывает дыхание, – кажется, в нем можно утонуть, – быстрый шепот:
– Я даже не знаю, как тебя зовут?
– Ленька.
– По правде?
– По правде! А тебя?
– Света!
И снова бесконечный поцелуй. Он не может медлить и медлить, на это не осталось жизни.
– Ты мне напишешь?
– Да… Если буду живой.
– Не смей так говорить. Ты не погибнешь, не погибнешь. Ты вернешься ко мне? И снова:
– Да… Если буду живой.
– Ты не погибнешь! Слышишь? Я знаю. Ты вправду вернешься ко мне?
– Вправду!
Вот что можно услышать в эту ночь.
Где-то на другом конце улицы гармошка начинает и начинает, то и дело обрывая изматывающую душу грустную песенку; ни слова ее, ни название не вспоминаются.
Н-ская дивизия формируется в селе Глухово, в нескольких десятках километров от Новосибирска и в нескольких тысячах от войны.
Тихо. Слышится, как вдруг согнулись под тяжестью тел, под тяжестью любви травинки, потом распрямляющиеся, и отдыхают в прохладе ночи, как коротко хрустнули, словно ахнули, сухие веточки, зашуршали листья, уже начинающие опадать. «Поцелуй был, как лето…» Лето приближается к концу. Слышен нежный девичий шепот:
– Не надо… Умоляю тебя, Ленечка… Не сейчас…
Но и она, и он, голоса которого не слышно, только стук сердец и жадное жаркое дыхание, они знают, что «после» не суждено, только «похоронка».
Все мчится, летит, вот-вот минует самое важное, для чего жизнь. Почему же парочек так мало в беззвездной, готовой каждого укрыть ночи, когда прохлада опускается с неба, навстречу горячему дыханию накалившейся за день земли?
– Один? – слышит Бутов сквозь распахнутое окно соседнего домика.
– Вроде.
– Что ж ты, парень, тушуешься?
– Да как-то так…
Голос отвечающего Бутов сразу узнает. Это Глеб Камышин, самый маленький во второй роте, которой Бутов командует, – левофланговый. Маленький не только ростом, а вообще – мальчик еще: только со школьной скамьи. Да и вся дивизия укомплектована мальчишками. «Детский сад», – говорит полковник, командующий дивизией.
Вот потому-то и ходят одни – что еще мальчики, еще не знают: как это; если и знают, то только то, что в стихах, в неясной мечте, в пошлых анекдотах, в бесстыдно унижающих снах, от которых просыпаешься в холодном поту.
Потому и ходят одни всю эту, может быть, последнюю мирную увольнительную. А рядом за темным окном, или даже ближе – в палисаднике за невысоким штакетником, по другую сторону дерева, к которому ты прижался, чтобы умерить головокружение, совсем рядом суженая твоя – однолетка, девочка. Только протяни руки.
Ее раскрытое перед тобой, ждущее тебя тоненькое тело согревает дерево; и ты чувствуешь ее тепло, не зная этого, – соединенный с нею и разъединенный древесным стволом. От ее сердцебиения волна за волной по дереву проходит дрожь, как по натянутой струне; ты слышишь стук ее сердца, не сознавая, как во сне. А дыхание она затаила. И так больно – там внутри, под кофточкой, под затвердевшими грудями. Это все, что суждено тебе и ей. «Поцелуй был как лето, он медлил и медлил…» Не было и поцелуя, а завтра ночной марш-бросок, а через столько-то недель или дней – эшелоном в войну.
Многое множество ее подруг, – может быть, и она, – станут вдовами, не быв никогда ни женами, ни невестами, ни любовницами. Дерево держит тебя и ее. Оно много старше и мудрее и знает всем – стволом, корнями, листвой, семенами, им рожденными, – что это и есть предназначение всего живого: оплодотворить и одарить любовью. Как страшно, если суждено только убивать. Оно знает все, но молчит, только еле слышно шумя ветвями и листвой.
А ты не знаешь, что она рядом.
Ты собираешься с силами и как бы отталкиваешься от дерева, идешь в ночи, не зная, что ты оттолкнул от себя. Только когда твои шаги замрут вдали, она переведет дыхание, вытрет лицо, мокрое от слез, и долго, долго, даже до конца жизни будет ждать. И в ней будет звучать молящее и прекрасное, и так трудно осуществимое: «все-таки постарайся вернуться назад», что сейчас еще беззвучно и чему только предстоит через годы, когда поэт вместе со своим поколением отвоюет, стать словами: псалмом? молитвой? «Не жалейте ни пуль, ни гранат, не жалейте себя, но все-таки постарайтесь вернуться назад». Эта молитва заменит казенное, залихватское, похожее больше на проклятье, так точно впитавшее суть времени: «… если смерти, то мгновенной!»
Глеб Камышин все еще стоит за палисадником. Своим командиром он гордится, любит его, что не выражается словами, но известно всему личному составу подразделения. Гордится и любит оттого, что Бутов уже был на фронте, получил тяжелое ранение в первые дни войны, и вот выписался из госпиталя, вернулся в строй; оттого еще, что Бутов пишет стихи; от неутолимой детской потребности любить и гордиться любимым. Оттого, что у Бутова нет ни матери, ни отца; и Глеб сирота. «Вот бы такого отца, как Бутов», – думает Глеб Камышин, про себя ведь можно помечтать.
У Камышина из родных только старуха бабушка Авдотья Степановна, проживающая севернее Вологды в селе с необычным названием Пригожее.
Бутов недавно написал ей благодарность от имени командования за то, что она воспитала «отличника боевой и политической подготовки».
Он вызвал Глеба Камышина, прочитав письмо вслух, положил в конверт и хотел заклеить. Тогда Камышин, по-детски покраснев, взглянул на стол, где лежал только что принесенный полковым фотографом лист маленьких фотографий для удостоверения, и попросил:
– Подарите одну!
– Зачем?
– А бабушке?
Бутов отрезал снимок и передал его Камышину. Тот что-то долго и старательно писал на обороте фотографии, а после, попросив разрешения, сам положил карточку в конверт. – Все? – спросил Бутов.
– Стих обещали.
На столе несколько экземпляров дивизионной многотиражки. Бутов вырезал балладу «Солдаты» и протягивает Камышину.
– Тоже бабушке?
– Так точно, товарищ старший лейтенант.
– На узел связи! – командует Бутов, улыбаясь забавной мысли: «Вот ведь первое стихотворение и первая фотография, которые он дарит женщине».








