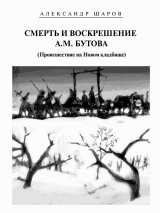
Текст книги "Смерть и воскрешение А.М.Бутова (Происшествие на Новом кладбище)"
Автор книги: Александр Шаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
6
Словно от самых первых мгновений снималась твоя жизнь – день за днем, кадр за кадром. И вот бесконечная лента разрезается кем-то и склеивается уже не в хронологическом порядке, а в следовании лжи, непременно рождающей новую ложь, и правды, так или иначе оплачиваемой новыми страданиями.
В бесконечную ленту кем-то вклеиваются образы близких тебе людей; или не близких, но случайно оказавшихся на твоем пути, образы горя или гибели даже, в которых ты пусть и в самой малой мере был виновен.
Но ведь сказано: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», – подумал мертвый Бутов.
– Это главный и первый смертный грех – не знать, оберегать себя от знания, притворяться, что не знаешь. И грех этот на земле всегда нечисто оплачивается: жизненным благополучием, сладостью, избавлением от неминуемых страданий.
Бутову открылось, что сейчас говорит не тот ерничающий и кривляющийся Рыжий, приведший его к гибели, а Некто, незаметно сменивший Рыжего, как сменяются часовые. Главный и Маленький молчали.
– Я беру к себе на Новое кладбище только тех, у кого душа опустошена. Беру в смерть, как прокаженных в лепрозорий, – сказал Некто.
– Есть только одно способное спасти тебя – совесть. У тебя есть совесть? – тихо спросил Маленький.
– Не знаю. Казалось, что есть, но теперь… Нет, не знаю…
В грифельно-серой пустоте, окружающей Бутова, возникает видение. Это Костик. Мальчику лет десять, не больше, его окружают ребята, они кричат Костику:
– Покажи, как предок бухой заявляется!
Костик очень похоже показывает его, Бутова, неверную походку, бессмысленную пьяную улыбку. Будь Бутов трезв, он бы понял, что Костик поступает так не со зла, нет еще в нем зла, а потому что он, хилый, слабее всех во дворе, неловкий, одинокий – только и может поддержать свой престиж в безжалостном дворовом мире обезьяньим умением передразнивать, заключающем нечто клоунское, ужасно жалкое. Бутов должен и мог бы понять, но он опять пьян. И тут тоже можно найти объяснение: стихи из журналов возвращаются; неизвестно, чем и как, а главное – для чего дальше жить?!
Но объяснение – не оправдание.
Бутов из окна видит происходящее, сбегает вниз и бьет Костика по одной щеке, по другой. Лицо Костика мертвенно бледнеет, но на нем сразу же снова выступает идиотская пьяная улыбка отца. Шатающейся отцовской походкой мальчик идет к воротам и исчезает за ними.
Уже девять, десять, а Костика нет. Наталья Михайловна выбегает – простоволосая, без пальто. Возвращается она с Костиком около часу ночи. Бутов видит их возвращение и сейчас мертвым своим мышлением все понимает – как же правда могла ускользнуть от него живого? Он понимает – с этого момента и навсегда они не только разные, но и враждебные: жена с Костиком и он. Вот как давно он мертв для них.
Ночью Бутов идет к жене. Она отодвигается, освобождая ему место, не сопротивляется, когда он обнимает ее, но в какой-то момент говорит уже не в первый раз: «И страстью воспылал скопец». Говорит с ненавистью.
Живой он не понял, что она вкладывала в эти слова, а сейчас мертвому все ясно. Он дал ребенку трудную, непосильную жизнь, а того, что сообщило бы желание, радость и силу жить – дать не сумел. Скопец, действительно скопец, кто еще?!
Видение тонет в темноте. И вспоминаются слова шелестящего старичка: «Один факт, это когда смиряешься с тем, что твое существо исчезнет в пустоте, не дав побегов. А иной – когда ты излучаешь существенность, самое важное в тебе – другому, единокровному, и он хранит его, доколе очи различают свет, и много позднее твоего жизненного предела».
Тогда Бутов в радости, владевшей им, может быть, и не вполне точно расслышал слова старика, лишь смутно угадал их.
Все было так странно…
А в серой пустоте, где только что был Костик, возникает другое. «Это я?!», «Неужели это я?». Ему, Сашке Бутову, пять лет. Он вместе с матерью на лестничной площадке перед массивной дубовой дверью с пластинкой светлой меди: «Статский советник Илларион Илларионович Грачев». Сашка крепко держится за руку матери. То есть она не родная мать, но от мальчика это пока скрыто. Родная мать умерла от сыпняка, когда Сашке не исполнилось еще двух лет. Вслед за тем на фронте погиб отец, и Сашку усыновила вот эта женщина с длинной черной косой. Больше никого на свете мальчик не имел, но одного существа – только ее.
Мать нажимает кнопку звонка. Проходит очень долгое время, пока дверь приоткрывается – не совсем, на длину цепочки. Из полутьмы прихожей выглядывает лицо старой женщины – Сашка немного знает ее, – Марии Васильевны.
Мать шепчет голосом жалким, приниженно умоляющим, какого мальчик никогда не слышал:
– В город вошли «Дикая дивизия» и банда Григорьева – знаете об этом?! Все говорят – будет погром. Я умоляю вас – вы женщина, вы поймете.
– Нет, нет! Обойдется! – Старуха хочет захлопнуть дверь, но мать просунула в створ руку, крепко сжимающую ручку мальчика. – Нет, нет. Я бы конечно, с радостью, но Илларион Илларионович – он болен, его нельзя волновать.
– О себе я не говорю – только о мальчике. Вы скажите, что это ваш внук. Сжальтесь! Я умоляю. Сквозь слезы она повторяет и повторяет: – Умоляю, умоляю…
– А если обнаружат обман… Нет, нет! Ведь существуют некоторые, – Мария Васильевна беззвучно шевелит губами, подыскивая нужное слово, оно должно быть ясным, но вполне «приличным», – существуют некоторые внешние признаки. Вы понимаете…
– Он не еврей, и он не обрезан. Сашенька не родной мой сын.
– Вы уверены?! – Мария Васильевна нехотя скидывает цепочку.
В последнюю секунду, когда дверь между матерью и мальчиком, самыми дорогими друг для друга существами, закрывается навсегда, мать ловит взгляд мальчика и старается улыбнуться сквозь слезы. Видя ее улыбку, мальчик думает не о погроме – что такое погром, он за свои пять лет успел узнать, – не о смертной опасности, от которой его спасают, а только о том: «как же это у меня нет матери, нет никого родного, как же я потерялся в мире?!».
Сейчас в смерти Бутова последнее одиночество только проявилось, а возникло оно тогда, в пять лет.
Началась долгая, может быть, даже последняя эпоха, когда общество будет укрепляться, ужесточаться, но в том, что не касается укрепления общества, а только самого человека, оно все чаще будет оставлять его до конца и безнадежно одиноким, одиноким как в смерти. Снова перед Бутовым возникли, словно письмена в пустоте, слова профессора Р.: «Внешние обстоятельства все в нас определяют, а внутреннее «Я» задыхается еще чуть ли не в пеленках. Кто о нем пожалеет, если мы сами не в силах пожалеть его. И в чем мы будем существовать, когда внешнее для нас исчезнет?»
Главный что-то сказал, и Маленький сразу перевел, обращаясь к Некто:
– Он не продавал и не закладывал душу, у него ее с детства вырвали из груди. Как же вы не заметили этого, совершая свой суд? Некто ответил не сразу:
– Как бы человек ни потерял душу – по своей вине или не по своей, – он мертвит тех, кто рядом, истинно живых.
– Их много на Земле – истинно живых?
– Не знаю… Дети, женщины – те, которых не раздавили, – рыцари правды, – отвечает Некто.
…Прижавшись к замочной скважине, мать шепчет: – Все будет хорошо, Сашенька. Завтра я приду за тобой. Ничего не бойся…
Слышны ее шаги вверх по лестнице. Мария Васильевна тащит Сашку от двери, но он молча вырывается, пока шаги на лестнице не затихают.
Тогда ему становится все равно.
Мария Васильевна втаскивает его в комнату, по которой из угла в угол бегает седой старичок в мундире с эполетами и орденами, темно-зеленом каком-то, не военном. Это и есть Илларион Илларионович. Он прямо-таки вырывает Сашку из рук жены и тащит к окну, где светлее. Он бормочет:
– Это еще надо проверить; потом спохватишься. Да поздно. Это еще, как говорится, бабушка надвое сказала.
Бормочет, одновременно стаскивая с мальчика штанишки, задирая ему рубашку, и только тогда облегченно вздыхая:
– Слава богу, Машенька, – погляди! А то ведь они всякое могут, когда припрет. Не очень-то им доверяй – хитрый народец.
– Слава богу! – вслед за мужем повторяет Мария Васильевна и крестится.
Как быстро темнеет, темнеет! Издалека, а потом все ближе слышатся крики, звон разбитых стекол. Крики женщин и детей сливаются в одно, что накатывается со всех сторон, неостановимое, словно наводнение. Они врываются и в дом.
Мальчик не спит, но не двигается с места; он неотрывно смотрит в щель между неплотно сдвинутыми портьерами на черное окно и думает об одном: в мире лишь эта черная пустота, она уже поглотила всех.
– Кто бросит в него камень… – устало говорит Маленький.
– На суде отвечают за все, искупленное страданием и не искупленное, – отвечает Некто. Мальчик недвижно смотрит в окно, ни на секунду не засыпая, но, вероятно, временами
теряя сознание. Впрочем, в ту ночь никто не спит. А крики постепенно затихают, город забылся, прежде чем вернуться к обычному существованию, наполниться мирными звуками.
Никто не спит.
Некоторые, немногие – ну там, несколько сот или несколько тысяч – не спят просто потому, что они убиты. Другие – потому что переполнены возбуждением, вызванным совершенным на их глазах или даже их руками. Потому что перебирают и пересчитывают награбленное. Некоторым не дает спать ужас перед прошедшим. А еще многие переживают мало известное прошлому счастье, что вот смерть прошла мимо.
У каждой эпохи свое счастье.
И пока мальчик смотрит в щель между шторами, в редакции газеты в большом кабинете один из самых известных политических деятелей и блестящий литератор тех времен пишет статью о том, что происходит.
Работается ему легко.
Он пишет, что если ты человек, то должен встретить смерть с оружием в руках, а когда оружия нет – гордым молчанием, подобно римлянам.
Автор понимает, что карты, пожалуй, несколько передернуты. Кто должен встретить смерть с оружием или как римляне? Женщины, которых насилуют? Дети и старики, которых убивают?
И вот что еще: когда человек отвержен, когда у него отнимают право называться человеком, легко ли – нет, не то – можно ли сохранить человеческую гордость? Когда все на стороне убийц?!
«И ты на стороне убийц?» – спрашивает себя литератор, но мельком, не задерживаясь на этой мысли. И еще спрашивает: «Ну, а почему сотни тысяч мужчин всех национальностей, в том числе и имеющие оружие, не пытаются спасти хотя бы женщин и детей, преградить дорогу кровавой реке?»
Литератор останавливается на минуту и выводит на первом листе новый заголовок, который раньше не давался. Он перечеркивает слово «стонут» и аккуратно, чтобы не затруднять наборщиков и метранпажа, выводит другое: «Воют».
Именно не стонут, а воют. Стонут люди, а это… И сразу пропадает обременительное чувство жалости, заменяясь другим – жалости-презрения. И он понимает, что новый заголовок все ставит на свои места. Не люди – чего ж их жалеть…
Илларион Илларионович появляется из соседней комнаты в штатском своем мундире, в фуражке с кокардой и быстро выходит из квартиры. А мальчик сидит так неподвижно, что Марии Васильевне на мгновение кажется, что он мертв.
Светает, совсем рассвело. Ведь всегда ночь сменяется утром, какой бы она ни была; слышны тарахтенье извозчичьей пролетки, цокот по булыжнику, редкие пока шаги прохожих, выкрики газетчиков.
Илларион Илларионович возвращается после прогулки посвежевший, с некоторым даже старческим румянцем на озабоченном лице. Кладет на стол газету с той статьей, наклоняется к самому уху Марии Васильевны и что-то шепчет ей. Она всплескивает сухонькими сморщенными руками и восклицает: «Боже мой! Боже мой!». А после – тише, примиренно глядя на потолок: «Да свершится воля твоя».
– Оставь бога в покое, – раздраженно кричит Илларион Илларионович. – Задним умом все мы крепки, матушка! Что же прикажешь с ним-то делать?
Он сердито смотрит на мальчика, тот улавливает смысл взгляда и встает:
– Я пойду наверх к… маме…
В ту эпоху взрослость, даже как бы старость с ее безнадежным всезнанием сменяла детство иногда даже и не в пять лет, а раньше, чуть ли не в колыбели.
– Я пойду к маме, – повторяет мальчик.
Илларион Илларионович и Мария Васильевна молчат, хотя и смотрят в его сторону, только несколько мимо, или чуть поверх головы, или даже – сквозь него, отчего все существо мальчика проникается ледяным холодом.
Сашка идет к двери. Мария Васильевна нагоняет его и сует в руку карамельку, которую мальчик зажимает в кулаке.
– Съешь сейчас или в карманчик, а то растает, – советует Мария Васильевна, при этом она забегает вперед и долго возится с цепочкой, на которую заперта массивная дубовая дверь, с одним замком, вторым, третьим.
Сашка с трудом, как-то сгорбившись, медленно поднимается на четвертый этаж, где жил с той, что стала его матерью.
…Дверь квартиры настежь распахнута; он идет по комнате, где на полу валяются мамины платья, белье, книги, черепки битой посуды; никого – тихо, пусто, но он не удивляется, он и не ждал другого; осколки стекла хрустят под его старческими шагами. Он ни на что не смотрит, никого не зовет, идет прямиком к распахнутому окну, словно кто-то заранее указал этот путь. По дороге он обеими руками ухватился за тяжелый стул и с трудом тащит за собой; и это – так, бессознательно, не думая, зачем он это делает. Вскарабкивается на сиденье стула, оттуда – на подоконник и видит: внизу на тротуаре в красновато-черной луже крови лежит мать – единственный близкий человек.
Смотрит и видит, что день на удивление ясный; значит, он не сразу потерял сознание. Он пошатнулся и падает, но не вперед, а назад – на пол комнаты.
«Может быть, лучше было бы тогда упасть на мостовую», – безразлично думает мертвый Бутов.
Мальчик поднимается, он весь в крови. Это не пугает его, он видел кровь много раз. Просто он при падении сильно поранил о битое стекло лицо и руки. Он рукавом рубашки отирает кровь и спускается по лестнице; все это он делает медленно, без мыслей, как бы еще не придя в сознание.
На улице он ступает в кровь, расползшуюся по асфальту. Но ужас его охватывает, только когда он, нагнувшись, касается окостеневшей руки матери.
А потом он, обогнув труп, идет по залитому солнцем тротуару – между прохожими, но как сквозь пустоту, подчиняясь людскому течению.
Многие в те времена – и взрослые и дети – шли и жили среди людей, но в пустоте, еще более безнадежной, чем та, что сейчас окружает мертвого Бутова. И иначе не могло быть, потому что уже давно началась и неизвестно когда окончится эпоха крови и одиночества. Откуда-то появились те, вскормленные волчицей, и начало исполняться то, о чем в древнейшие времена женщина, растерзанная в пустыне Негев, предупредила ЕГО.
Теперь уже и ОН не в силах ничего изменить.
– Ты писал о том, что пережил в детстве? – спрашивает Маленький. Бутов молчит.
– Так зачем же был ИМ дан тебе дар, и зачем ОН провел тебя через все?.. О чем же ты писал?
– Я ведь не один на свете.
– Ты как скупец, у которого полон дом, а он бродит под окнами и выпрашивает милостыню. Ты всегда притворялся?
– Может быть, – с трудом, но и с равнодушием отвечает мертвый. – Меня даже дразнили БуДтов.
– Кто?
– Иногда… женщины.
– Которых ты любил? Которые любили тебя?
Бутов молчит. Мертвый, он не знает, дано ли было ему когда-нибудь истинно любить. – Жди, ОН решит твою судьбу. Оба белые исчезают.
Некто проводил их взглядом, сделал несколько шагов и остановился над головой Бутова. Тот почувствовал страшную тяжесть; мертвый – живое чувство! – и с трудом сказал:
– За что вы преследовали меня и погубили?
Некто шагнул в сторону, и ощущение непереносимой тяжести исчезло.
– Я вижу тебя первый раз. Но на Земле мои братья. А кроме братьев еще множество других – похожих на нас, но нам чуждых и враждебных.
– Как их отличать – других?
– Тебе это не понадобится, но я скажу. Они смертны, и они серые, как волки, и людей ненавидят.
– А вы любите?
– Любил, пока миллионы лет назад им не был дарован огонь и они не стали убивать и сжигать себе подобных. Я глядел на пожарища, потому что я должен все видеть и знать; глаза мои стали выжженными и душа – тоже выжженной. Любил людей, пока не умер, хотя и остался бессмертным…Странно, кто-то из людей сказал: «Человек – это звучит гордо!» А я спрашивал птиц, зверей, травы, цветы, деревья, даже океан, даже небо, и все отвечали: «Человек – это звучит страшно!»
– Вы падший ангел? – спросил Бутов.
– Я не люблю слова «ангел». Они, крылатые, тоже считают: «имя наше звучит гордо». Однажды ОН призвал нас и сказал: «На Земле люди убивают лучших из своих поколений. Надо помочь тем, кто заслужил помощь». ЕМУ ответили: «Мы не хотим на Землю. Люди недостойны участия». Так ответили ЕМУ ангелы, а я молчал, и ОН обратил взор на меня. Я сказал то, что думал: «Твои ангелы хуже людей. Они тоже думают, что имя их звучит гордо, и не хотят помочь истекающему кровью человечеству, чтобы не испачкать белоснежные одежды. А среди людей есть ведь праведники, выходящие на безнадежный бой – один против многих. И есть дети. И женщины, по твоей воле в муках рождающие свое дитя и готовые отдать жизнь за него. Нет, твои ангелы хуже – им не дано самопожертвование».
Выслушав меня, ОН разгневался и повелел:
– Иди, будешь жить среди людей, раз ты так возлюбил их.
7
Едва Некто умолк, перед Бутовым открылась новая картина: не то пустыня, не то просека. Он не сразу угадывает – да это же университетский коридор, пустой сейчас просто потому, что за всеми из бесконечного ряда дверей читаются лекции, проходят семинары.
Бутов шагает по коридору; ему года двадцать два, ну – двадцать три, не больше. Он движется легким пружинящим шагом и настроение у него легкое (это несмотря на то, что календарь числит пришествие последнего пятилетия тридцатых годов, апокалиптических времен, предсказанных откровением Иоанна; но какое ему дело до предсказаний, хотя черед понять их приближается и к нему).
А пока он идет через тридцатые годы, не замечая особенностей этого времени. Им владеет прекрасное ощущение легкости, отчасти по причине молодости, а отчасти оттого, что идет он к профессору Р., которого любит и уважает; да и тот выделяет Бутова из числа слушателей семинара.
И можно ли не восхищаться Р.? Порой во время лекций лицо его становится грозным, гневным, но никогда не сердитым. Оно становится грозным, когда Р. говорит о «пастырях, ведущих человечество в пустыню», пусть и умерших сто, даже тысячу лет назад. Длительность сроков для него ничего не значит. Они в земле, но Р. в другом измерении времени.
Как-то на лекции Р. сказал: «Точнее всего определяет человека амплитуда времени, в котором его дух существует, продолжительность колебания маятника, единственно этому человеку принадлежащего, им управляющего, отсчитывающего его главный срок. Есть люди и вообще без главного срока. Время у них измеряется только удовлетворением плотских желаний: был голоден – насытился, желал женщину – овладел ею, хотел разбогатеть и разбогател. В главное время все это не входит. Все это – плесень на поверхности времени. И когда плесенный человек умирает, он превращается в ничто. Даже не в прах; ведь из праха образуется дерево, травинка, по-иному, на ином языке природы выражающие сущность, красоту, пусть при жизни человека никак не материализовавшиеся».
«Есть люди – ничто, – говорил Р., глядя поверх голов студентов; скамьи в аудитории поднимались одна за другой, как волны. И за самым высоким полукружьем последней скамьи возникало также плавно изогнутое окно, а за ним глубь бездонной полоски неба. Р. вглядывался в эту полоску, словно видел в ней нечто «непостижимое уму», но очень важное и для его предмета – «Истории экономических учений».
Впрочем, могло быть и так, что Р. глядел поверх голов, чтобы в присущем ему на лекциях и семинарах состоянии ясновидения случайно не столкнуться взглядом с каким-либо ничто; глянешь ему в глаза, и ясновидение бесследно исчезает. А Р. рожден созидателем, а не разрушителем.
– Есть люди с очень коротким колебанием маятника; не увидишь, не уследишь, – говорил Р. – Но какой бы краткости ни было колебание – оно существует. Человек погладил безутешно плачущего ребенка, тот улыбнулся, счастье вернулось к нему, как снова садится на ветку согнанная птица. И все! И если даже ничего больше не вместилось в отпущенный срок, сделанное тобой вошло в главное время Земли…А есть люди с не охватимым взглядом колебанием маятника.
– Вы понимаете? – спрашивал Р. – Вы понимаете?! Нет, вы должны понять. Не сегодня, так завтра это к вам придет. Ничего, если только в старости: жизнь измеряется высшей ее точкой, а не низшей.
Слушая профессора, Бутов всегда сознавал, что у того колебание маятника охватывает все временное пространство, от первого сознательного взгляда первого человека, на Земле появившегося, до прощального взгляда того, кто последним умрет на Земле, так бездарно растрачивающей ей одной дарованную духовную жизнь.
И именно от того, что колебание маятника у Р. – от первого до последнего человеческого взгляда, лицо его становится грозным, когда он вспоминает инквизиторов, опричников, вдохновителей и исполнителей Варфоломеевской ночи – тех, кто убивал именем и во имя Робеспьера, и во имя всех других, во имя Бога и бесчисленных лжебогов, во имя всех, в коих умирала человеческая душа. Все они не там – далеко, а рядом.
…Итак, Бутов идет сдавать любимый им предмет. Он спешит к последней по левой стороне двери «профессорской» – во всеоружии. Совсем недавно вышла монография Р. «Рикардо и Смит». Бутов проштудировал ее, и какой бы ни попался экзаменационный листок, он сумеет сослаться на подходящую мысль из труда профессора, полного мыслей.
Длинный коридор. Очень обыкновенный, но все же сегодня в нем присутствует некая странность. А уж родившись, слово «странность» само собой перевоплощается в другое, близкое по созвучию «страшность».
– Таково уж свойство слов, – говорил как-то Р., – они живые. И могут перевоплощаться в нечто новое и несходное с первоначальным их значением, ну, как гусеница перевоплощается в бабочку. Но это если брать совсем реальные параллели. А сейчас уместнее другое: ну, допустим, как гусеница на твоих глазах превращается в ядовитую змею. Слова перестают подчиняться тебе, а сами тебя подчиняют; они теперь опасны. Слова диктуют свои условия; попробуй не выполни! Они не управляются тобой, а тобой управляют; бесплотные и невидимые существа слов обрушиваются на тебя подобно лаве. Они по произволу выхватывают из близкого или далекого прошлого то, что так хотелось бы забыть; преграждают путь к забвению. Они предсказывают будущее, которого не предотвратить…
Страшность, беспощадность, страх… Бутову эти слова напоминают ночь, когда он потерял мать и детство окончилось.
Окончилось в пять лет.
Может быть, оттого, что в коридоре темновато, вспоминается самая черная ночь жизни.
Ночь, описанная в статье «блестящего литератора» прежних времен. Бутов впоследствии часто перечитывал в публичной библиотеке этот газетный подвал и жадно слушал рассказы более взрослых очевидцев тех событий, стараясь понять нечто, не дающееся сознанию, что имеет прямое отношение не только к его, Бутова, далекому прошлому, но и к будущему чуть не всего мира.
…Тогда сквозь слитный человеческий крик, стон, призыв о помощи, как пожар неудержимо со всех сторон города приближающийся к центру, звучал еще неумолчный медный звон. Благовест? Ведь слова «горевест» не было и нет. Звук словно бьет в литавры, словно смерть и еще более страшное, чем смерть, приближается в некоей противоестественной пляске.
Стон – оооо! – до бесконечности, и – бом-бом-бом – удары металла по металлу. Литавры? Набат?
Тогда люди разделились на имеющих право жить и евреев, этого права лишенных. И в еврейских кварталах города, между богатыми домами и многочисленными тесно сгрудившимися жилищами бедняков как бы разом исчезли или сделались невидимыми – заборы; они нужны, чтобы охранять благополучие, а сейчас, перед смертной бездной – к чему они?
Тогда люди разделились на вооруженных и невооруженных; невооруженные пытались защититься хотя бы кочергами, чугунами, если уж нет пуль и снарядов. Тогда многие сотни тысяч повторяли одно – про себя, а иногда и вслух: «Нас это, слава богу, не касается!»
– А что сделали вы, пришедшие на Землю, чтобы спасти тех, у которых живые души? Что сделали для того, чтобы спасти ту, которая была моей названой матерью? Ведь не было человека с душой более светлой… – спросил мертвый Бутов у Некто.
– Спасти убиваемых мог только ОН. А ОН не знал, что творится на земле. А может быть, и так: ОН считал, что если люди не способны спасти самих себя, мужчины – защитить своих женщин и детей, если так, то какое право на существование имеет человечество?! Пусть останутся лошади, олени, муравьи, птицы, все те, кто не поедает друг друга, все те, на которых нет зла. Поняли, БуДтов?
И еще Некто сказал: «Страх входил как главное в жизнь не одного большого города, даже не одной великой страны, а всего человечества. Кровь была и за спиной и впереди – во веки вечные. Куда он исчез, Тот, «в белом венчике из роз», настолько необходимый миру, что Он не мог не явиться? Был расстрелян ночным патрулем? Узнанному или не узнанному, судьба Ему предстояла одна. Впрочем, все двенадцать ведь были убиты: те, которые шли за Ним, которым Он Сам показывал дорогу. Только горе в этой стране перелетало невредимым из поколения в поколение; и не было ему конца на земле».
…Страх входил в жизнь всего мира, чтобы больше никогда его не покидать. И самому «блестящему литератору» придется несчетное число раз обмирать от смертного ужаса и выть, выть в безнадежности, как голодный пес; про себя выть или вслух – не так уж важно. И те из банды Григорьева и из «Дикой дивизии» будут в свой срок уничтожены еще при жизни одного поколения, вместе с украинским, кубанским, терским, амурским и всеми другими казачествами, вместе с половиной крестьянства крестьянской страны.
Вглядитесь – вот они, ледяные трупы женщин и детей, валяются где-то в тундре – даже волки сыты и не трогают их в тундре, куда их привезли и бросили. В самом деле: «мело, мело по всей земле во все пределы…» Прислушаемся к мертвой метели! В одном стихотворении есть прекрасная строка: «жить с правдой, как с ребенком на руках»; а я своими глазами видел женщину с закутанным в лохмотья замерзшим трупиком ребенка, которого она нежно укачивала.
Это было время, когда правда гибла во льду и в огне.
…Пора напомнить, что все тут излагается не в привычной для живых временной последовательности. Лента, тем, незримым, снимавшаяся секунда за секундой, разрезана на множество частей и заново склеена не так, чтобы день ко дню, а – ложь ко лжи, правда к правде, предательство к предательству; иначе как бы ей служить показанием на страшном суде?
И, кроме того, тот, кто записывал и расшифровывал эти показания, Алексей Теплов, военный друг Бутова, очень торопился – причины будут разъяснены – и выбирал из множества случившегося лишь то, что при беглом взгляде представлялось самым необходимым. И я, кому совершенно случайно после смерти Теплова попала эта тетрадь, – невольно вношу некоторые свои разъяснения к тому, что кажется смутным.
…Самым главным была – кровавая река. Она заливала один край за другим, одно сословие за другим, народы – один за другим. Может статься – река была подземной, а вот вырвалась на волю. Ну и теперь льется всегдашним половодьем. Только-только Икс-младший тиснул в вечерней газетке заметку, что отрекается от Икса-старшего и разрывает с ним и с матерью своей всякие связи. И только-только отец и мать отправляются в северном направлении, куда пароходы с баржами на буксире идут вереницей, переполненные; люди в них навалом, как малоценная древесина. И обратно пароходики с опустевшими баржами мчатся с наивозможной быстротой за новым грузом человеческой древесины.
Пока происходит все это, в редакцию той же газетки являются братья, и двоюродные братья, и троюродные сестры, самые верные друзья и подруги Икса с покорнейшей просьбой поскорее поместить платное объявление о том, что они порывают с Иксом-младшим, – тоже, несмотря на печатное отречение, репрессированным вслед за родителями; порывают, разрывают, а из этих разрывов, как из наотмашь перерубленных артерий, хлещет кровь, вымывая последние остатки человеческого.
…Знал ли студент Александр Бутов о том, что творилось в стране? Если и умудрился не знать, то только по той причине, что, закрыв глаза, ничего не видишь; а увидев даже краешком глаза – как же жить?!
В Университете у Бутова был близкий друг Олег – старше его, аспирант уже, когда Бутов учился еще на втором курсе. Девчонки были чуть ли не поголовно влюблены в Олега. И вот вдруг в середине учебного года Олег исчез. Вернулся только перед весенней сессией. Что-то изменилось в нем за время отсутствия; что же именно – Бутов не понимал. Подсказала одна из этих влюбленных девушек:
– Он погасший!
– А ведь ты говорила, что его глаза как изумруды?!
– Так было, а сейчас глаза погасшие.
Бутов вгляделся и увидел, что девчонка права.
– Какие глаза? – переспросил Некто Бутова.
– Выжженные, пустынные, – ответил Бутов. – Нет, не выжженные и пустынные, а просто пустые; и это от того, что он стал одним из них, – угрюмо сказал Некто.
О том, где он был и что делал, Олег молчал. Редко вырывались одна, две фразы. Раз он сказал:
– Работал на коллективизации.
Раньше он ходил в старой кожаной тужурке, а вернулся в лисьей шубе.
– Откуда у тебя она? – спросил Бутов.
– Там много валялось брошенного, вот я и прихватил. Не пропадать же добру. – … Того, кто раньше ходил в этой шубе, – он убил, – сказал Некто.








