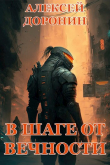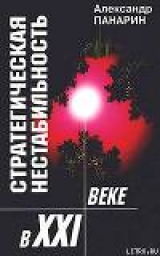
Текст книги "Стратегическая нестабильность ХХI века"
Автор книги: Александр Панарин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Характерно это "не одним только". Оно означает, что современные теоретики либерализма вовсе не являются такими романтиками идеи, которые готовы противопоставить прежнему корыстно-захватническому империализму, жаждущему чужих богатств, новый, идейный империализм, воодушевленный мотивами "либерального интернационализма" и бескорыстной помощи притесняемым подпольщикам либерализма на мировой периферии.
Напротив, Хабермас готов прагматически учитывать ту полезную подпитку, которой империализм колониального типа может снабдить новый интернационализм «идейного» типа.
«…Слабым местом глобальной защиты прав человека является отсутствие исполнительной власти, которая в случае надобности могла бы путем вмешательства в осуществление верховной власти национального государства создать условия для соблюдения Всеобщей декларации прав человека. Так как во многих случаях права человека пришлось бы утверждать вопреки желанию национальных правительств, то необходимо пересмотреть международно-правовой запрет на интервенцию» (с. 302).
Можно ли после этого утверждать, что нынешняя американская агрессия против суверенных государств, оказавшихся на идеологическом подозрении, грозящая перерастанием во всеразрушительную мировую войну, является чем-то скандальным, чем-то непредусмотренным по либеральному идеологическому счету?
Напротив, мы видим, что либеральная идеология прямо-таки требует этой войны. В этом отношении ее нынешнее, разгоряченное победой над коммунизмом, состояние напоминает состояние коммунистической идеологии 1918–1920 годов, когда она жила ощущением мировой пролетарской революции и готова была оправдывать военные интервенции республики Советов во всех странах мира.
Новейшая агрессивно-либеральная реинтерпретация Канта также напоминает большевистскую реинтерпретацию Маркса. Так, мы читаем у Хабермаса: «Современная переформулировка кантовской идеи всемирно-гражданского умиротворения вдохновляет собой энергичное стремление к реформе организации объединенных наций, вообще к расширению супранациональных действующих мощностей в различных регионах земли… Совет Безопасности мог бы быть расширен до дееспособной исполнительной власти по образцу брюссельского Совета Министров. Впрочем, свою традиционную внешнюю политику государства лишь в том случае начнут согласовывать с императивами мировой внутренней политики, если всемирная организация сможет под собственным командованием применять вооруженные силы и осуществлять полицейские функции» (с. 308–309, 310–311).
Нельзя не отметить революционную новацию либерализма в области внешней политики, поразительно напоминающую новации троцкизма. Оказывается, наряду с традиционной мировой политикой, субъектами которой выступают суверенные государства, существует еще и мировая внутренняя политика, где такой суверенитет не действует, а действует революционная целесообразность либеральных интернационалистов, готовых откликнуться на призывы либеральной пятой колонны или даже обойтись без этих призывов, осуществляя интервенцию в соответствии со своим либеральным самосознанием.
И венчает этот глобальный либеральный дискурс философия двойного стандарта. Оказывается, мировое правительство, имеющее неограниченные права на интервенцию во имя "прав человека", не является последовательно наднациональной инстанцией, с высоты которой все страны и народы равны. Хитрость мирового либерального разума состоит как раз в том, что он постулирует наличие такой национальной политической среды, такого государственного суверенитета, который полностью совпадает с требованиями мирового гражданского общества и современного либерального интернационала.
Как легко догадаться, речь идет о западной политической среде и западных государственных суверенитетах. Они не подвластны суду мирового либерального разума – они сами персонально его воплощают. По отношению к ним мировой либеральный разум апологетичен, по отношению к другим он беспощадно репрессивен. Хабермас выстраивает перспективу, в которой нынешняя, основанная на равенстве всех государств, международная институциональная структура будет решительно преобразована.
В самом деле: «Но фактически Всемирная организация объединяет сегодня под своей крышей почти все государства, именно вне зависимости от того, имеют ли они республиканское устройство и соблюдают ли права человека или нет. Всемирная Организация абстрагируется не только от различий в легитимности ее членов в рамках сообществ государств, но и от различий в их статусе в рамках стратифицированного мирового сообщества» (с. 304).
Хабермас указывает, в каком направлении данное положение может быть исправлено. Для этого он воспроизводит известное деление планеты на первый, второй и третий миры, но подчеркивает, что теперь это деление включает современно новое содержание, относящееся уже не столько к критериям развитости, сколько к критериям суверенности и несуверенности.
«Однако после 1989 года символы первого, второго и третьего миров получили иное значение. Третий мир состоит сегодня из территорий, где государственная инфраструктура и властная монополия развиты столь слабо (Сомали) или разрушены до такой степени (Югославия), где социальное напряжение столь сильно, а порог терпимости политической культуры столь низок, что внутренний порядок сотрясают непосредственные акты насилия мафиозного или фундаменталистского толка» (с. 305).
Легко догадаться, что большая часть нового "третьего мира" образована бывшими социалистическими странами и именно здесь требуется решительное "гуманитарное вмешательство" мирового либерального ("цивилизованного") центра.
«В противоположность этому, второй мир образован державно-политическим наследием, которое возникло в процессе деколонизации. Идею нового для них государственного суверенитета национальные государства переняли из Европы. Нестабильность отношений в своих внутренних делах эти государства часто уравновешивают авторитарностью государственного строя, вне себя настаивая (как, например, в регионе Персидского залива) на суверенитете и невмешательстве» (с. 305).
Как легко догадаться, эти притязания на суверенитет тоже являются нелегитимными по критериям либерального интернационала, и, следовательно, мы вправе ожидать применения в отношении их аналогичной "гуманитарной миссии" мирового либерального центра.
И только государства "первого мира" составляют завидное исключение: их партикулярно-эгоистические национальные интересы практически полностью совпадают с требованиями мировой либеральной идеи. «Только государства первого мира могут себе позволить до определенной степени согласовывать свои национальные интересы с теми нормативными аспектами, которые сколько-нибудь определяют всемирно-гражданский уровень требований Объединенных Наций» (с. 305–306).
Поэтому не будем удивляться и возмущаться, когда Соединенные Штаты Америки объявляют зоной своих национальных интересов самые отдаленные уголки мира. Даже если при этом они мыслят национально-эгоистическими категориями, мировая либеральная идея «додумывает» за них их вселенскую миссию и подлинную подоплеку их мировой экспансии.
Американский солдат может быть грубияном, топчущим своим сапогом местные святыни. Американские летчики могут бомбить и расстреливать с неба беззащитное население мировой периферии, в том числе женщин и детей. Но не таков статус либеральной идеи, чтобы его могли поколебать прискорбные свидетельства эмпирического опыта.
В свое время коммунизм различал "правду жизни" и "правду факта" (иногда и прискорбную). Новый либерализм научился это делать еще успешнее. Даже коммунистическая идея обладала известными пережитками стыдливости перед фактом. Либеральная идея в этом отношении поднялась на новую ступень. Либеральное "министерство правды", не стесняясь, говорит о "гуманитарных бомбардировках" (!), "гуманитарной интервенции", "гуманитарных акциях возмездия".
Этот переход от техницизма прежних теорий «конвергенции» и единого индустриального (постиндустриального) общества к гуманитаризму мирового либерального интернационала в чем-то является поистине революционным поворотом. Дело в том, что старые «технократы» страдали болезнями реформизма, пацифизма и постепенщины. Нынешний военно-революционный либерализм от этих болезней избавился. Он предлагает миру новый постулат, заключающийся в идее совпадения мировой американской войны с мировой либеральной революцией.
В свое время революционный большевистский экстремизм троцкистского толка ожидал и приветствовал полное разложение "буржуазного общества", крушение всех его институтов– от армии и предприятия до семьи и церкви. Революционный пролетарий, не связанный с буржуазным обществом никакими обязывающими узами, не может успокоиться в своем революционном порыве, пока противостоящий ему мир не будет разрушен "до основанья". Теперь мы видим загадочное смыкание разрушительной идеи рубежа XIX—ХХ веков с разрушительной идеей рубежа ХХ—ХXI веков. Буржуазный законченный индивидуалист, подобно неистовому большевистскому пролетарию, оказался зараженным неслыханной асоциальной энергией. Он также требует "полного и окончательного" разрушения социальных институтов, так или иначе противостоящих его инстинкту ничем не ограниченного стяжательства. Ленин определял диктатуру пролетариата как власть, "не связанную никакими законами", "прямо и непосредственно опирающуюся на насилие".
Новая диктатура либерального "безграничного индивидуализма" также не желает быть связанной никакими моральными и правовыми законами. Она формирует нового "супермена накопления", распространившего практики нелегитимного насилия буквально на все повседневные отношения людей. Неистовому индивидуалисту, идеологически подбадриваемому новым передовым учением, явно тесно в условиях "традиционной легальности". Он осуществляет явочный пересмотр всех прежних морально-правовых норм во имя идеала безграничного самоутверждения.
§ 3. «Новый человек» либеральной эпохи
Наступившая стратегическая нестабильность должна быть оценена не только в свете данных экономики, политологии и геополитики; необходимо принять во внимание ее антропологическую составляющую. Силы хаоса не «работали» бы с такой ужасающей эффективностью, если бы им не потакал и даже по-своему с ними не сотрудничал человек «нового типа». Причем речь идет не только о людях, управляющих собратьями и принимающих решения, но и о рядовых представителях новейшего «массового общества». Структура этого нового антропологического типа дестабилизационна по своей сути: ее психологические «пружины» устроены таким образом, что работают на разрыв и самой личности, и общественных институтов, так или иначе ей сопричастных. Первая из таких «пружин» связана с техническим прогрессом.
Современная техническая цивилизация в антропологическом смысле включает программу, связанную с освобождением человека от напряженных физических усилий. Логика этой цивилизации в известном отношении реализуется как программа постепенной выбраковки людей прежнего типа, этика и психология которых базировалась на императивах физического усилия, терпения и выносливости. Люди могли быть добрыми или злыми, скупыми или щедрыми, великодушными или злопамятными, но общая их психологическая структура включала сходный запас прочности, тестируемый в опыте тяжкого труда, частых войн, неурожайных лет, бытовых неудобств и лишений.
Причем методами физической антрополистики мы вряд ли смогли бы подобраться к сути этого человеческого типа: зачастую он был представлен не отменными здоровяками, а низкорослыми и худосочными людьми с гипертрофированными руками на нескладном теле. Следовательно, «мотор», сообщающий им неслыханную в наше время выносливость, заключен не в их теле, а в их ментальной структуре, являющейся носительницей специфического векового опыта. Возьмите любого современного спортсмена и дайте ему нагрузку, характерную для этого опыта, – он быстро «скиснет». И это при том, что занятия спортом требуют колоссальных ежедневных перегрузок, методичности, целеустремленности. Но все эти качества, даже будучи представлены на уровне специфического «профессионализма», вписаны в ментальную программу совсем другого типа.
Это программа достижительности, а не самоотверженности, успеха, а не долготерпения, индивидуалистической притязательности, а не аскезы.
Словом, новые "социальные программы" – в том случае, если они требуют большой физической выносливости – локализованы в сфере "вторичных потребностей" и являются факультативными, тогда как старые программы относились к сфере насущно-первичного и необходимого.
Если же взять не игры спорта или экзотику исчезающих «романтических» профессий, а массовую профессиональную и бытовую повседневность, то «дестринированность» и «дезадаптированность» нашего современника, по стандартам традиционного образа жизни, будет неоспоримым фактом. И уже здесь мы сталкиваемся с разрывами уровней «эталонного» и типичного.
Эталоны формируются не по законам фактического личного опыта, а по законам социальной имитации и заимствования. Как только «авангардные» социально-профессиональные группы прорвались в сферы, где физическая выносливость и терпение выглядят анахронизмами, следующая за этим социокультурным авангардом масса тотчас же примеряет на себя эти новые возможности и соответствующим образом преобразует свою систему социальных оценок и ожиданий. Физический труд и связанные с ним массовые профессии начинают терять свою привлекательность в глазах самих масс: профессия остается массовой с точки зрения объективной общественной экономической потребности, но с точки зрения субъективной готовности к ней подключиться она успевает окончательно обесцениться. В этот момент она становится уделом либо «мигрантов», либо неврастеников, проклинающих свой удел, вместо того чтобы принимать его как нечто само собой разумеющееся. Общество поражает специфическая болезнь, связанная с психологией избегания усилий.
Этому способствует, наряду с технологическими революциями, новейшая революция гедонистического досуга. Типичный представитель современного массового общества идентифицирует себя не с ролями труда, а с ролями более или менее престижного досуга. В этом смысле классическая социология, исходящая из презумпций профессиональной идентичности личности, – выделяющая личности промышленного рабочего, сельскохозяйственного рабочего, фермера и более стратифицированные их разновидности, – оказывается посрамленной. Современная промышленная, техническая цивилизация по сравнению с традиционной цивилизацией ознаменовалась колоссальным шагом назад по одному существенному критерию: она перестала формировать, на массовом уровне, по-настоящему профессионально ангажированных людей, питающих экономику незаменимой энергией человеческой увлеченности, старательности, ответственности.
Чем больше проникает в недра профессиональной сферы психология нового человека досуга, уже откровенно тяготящегося всем серьезным и ответственным, тем сомнительнее выглядит человеческий горизонт современной технической цивилизации. С дефицитом способности совершать физические усилия она в принципе способна справиться, переложив их на машины. Но все дело в том, что новая "этика избегания усилий" касается не только собственно физических усилий, но и усилий умственных, моральных, дисциплинарных. Техническая цивилизация объективно способна примириться с физической изнеженностью, но она не способна примириться с морально-психологической изнеженностью, проявляющейся в равнодушии, невнимательности, безответственности. Напротив, последние качества для нее гораздо более противопоказаны, учитывая особенности современных видов профессионализма и специфическую хрупкость высокосложных технических систем. Именно здесь проявляется ее драматический парадокс: она требует личности, которую научилась формировать. Тайна этого парадокса заключена в гетерогенности современной цивилизации: в качестве развитого промышленного общества она требует ответственного человека, по-прежнему способного на напряженные профессиональные усилия, но в качестве торгового экономического общества она требует гедонистически ненасытного и безответственного человека, переориентированного с профессиональных на потребительские роли.
Когда-то отец современной экономики Кейнс спас капитализм, открыв его историческую экстравагантность: если прежние общества страдали от кризисов недопроизводства и требовали, соответственно, человека, способного переносить лишения и довольствоваться малым, то новое буржуазное общество страдает от кризисов перепроизводства и, соответственно, требует человека, алчущего все новых предметов потребления и во все больших масштабах. Современные отрасли промышленности, производящие гигантские объемы продукции, немедленно стагнировали бы, если бы адресатом их был прежний бережливый потребитель, осуждающий расточительство и жизнь не по средствам. Кейнс как раз и открыл, экономически обосновал способы жить "не по средствам", на чем, собственно, и основана вся его "экономика спроса". Речь идет об экспансии кредита, ориентированной не только на авантюрного потребителя, не боящегося залезать в долги, но и на авантюрных предпринимателей, осваивающих новые, непроверенные рынки, опираясь на возможности, связанные с низким банковским процентом, дефицитным финансированием из госбюджета и тому подобные явления "дешевых денег".
Так начала формироваться специфическая система "инфляционной демократии", базирующаяся на двух отрывах: отрыве потребительской психологии от дисциплинарного этоса профессионально ответственной личности и отрыве сферы циркуляции денег как платежного средства от сферы циркуляции факторов производства.
Превышение способности потреблять над способностью производить, спровоцированное механизмами "экономики спроса", привело не только к разбалансированности денежной и товарной массы (инфляции), но и к общей социально-экономической и социокультурной разбалансированности "потребительского общества".
С одной стороны, современный массовый тип все более являет нам черты промышленного дезертира, все более откровенно тяготящегося профессиональной дисциплиной и норовящего сбежать с трудового фронта в гедонистику досуга; с другой стороны, он же предъявляет небывало завышенные счеты и требования потребительского характера. Прежде соответствующие поползновения новоевропейского буржуазного толка пресекались или ограничивались доставшимися от прошлого институтами: церковью, патриархальной семьей, традиционным общественным мнением, отличающимся "назойливой неотступностью".
Все эти институты частично были подорваны новой стихией буржуазного образа жизни, частично были сознательно демонтированы системой "экономики спроса", сконструированной по заказу заправил нового массового производства, эксплуатирующих законы морального старения продукции и экспансию притязаний.
Какой горизонт нам открывается с появлением нового массового типа, склонного к промышленному дезертирству, но не склонного умерять свои потребительские притязания?
Ясно, что дезертир, обуреваемый безумной жаждой потреблять, неминуемо кончает тем, что становится мародером.
Вот она, главная антропологическая тайна наступающей эпохи: общества наводняются мародерами, представляющими в данном случае не какой-то маргинальный тип, а соответствующий духу времени и механизмам формирования "новейшей личности". Как взять максимально многое при минимуме личных усилий – вот вопрос, который преследует эту личность и ставится ею в центр всех жизненных стратегий.
Мы бы погрешили против истины, если бы стали отрицать связь такого типа психологии с интенцией новоевропейского прогресса как такового. Разве прогресс как идеология, построенная на подмене образа небесного рая раем земным, не обещал новоевропейскому человеку избавление и от прежних тяжких усилий, и от прежней нужды? Разве эта идеология не игнорировала изначально внутреннее противоречие между обещаниями праздности и обещаниями изобилия?
Если «парадокс» традиционного образа жизни был замешан на сочетании крайних усилий с крайней жизненной скудостью, то парадокс современного образа жизни замешан на сочетании досуговой утопии с утопией изобилия.
Этот главный парадокс современности практически пыталась разрешить коммунистическая система. Она взяла от капитализма одну сторону – промышленный образ жизни с его трудовой аскетикой, одновременно попытавшись избавиться от давления законов рынка, рождающих авантюрно-гедонистическую "экономику спроса". Формула "опережающего роста средств производства по сравнению с ростом предметов потребления" как раз и отражала эту не только промышленно-экономическую, но и антропологическую (социокультурную) стратегию строителей социализма, пуще всего опасающихся буржуазно-индивидуалистической распущенности и «дезертирства».
Обещанный коммунистический рай, отвечающий сентенциям посттрадиционной секуляризованной личности, был промежуточным образованием: с одной стороны, в нем содержалось гедонистическое упование, с другой – он сохранял трансцендентально-потусторонний характер, роднящий его в чем-то с раем традициональных религий. Эта промежуточность – отсутствие имманентного стабилизационного стержня – и сгубила коммунизм. По критериям идеологии прогресса и характерных для нее морально-психологических ожиданий он оказался менее последовательным, чем новейшая либеральная идеология. Субъективно – с позиций личности эмансипаторского типа – новый либерализм выглядит более адекватным, чем коммунизм.
Поэтому-то либеральная идеология оказалась субъективно более убедительной, чем коммунистическая, что и определило ход событий в переломные восьмидесятые годы ушедшего века. Коммунизм, с одной стороны, включал программу эмансипации, но понимал ее в духе большой традиции классической европейской философии: как эмансипацию труда, но не как эмансипацию от труда. Эмансипация труда соответствовала долговременной программе развития как перехода от природного состояния к разумному состоянию, венчающему историческое развитие человека как творческой космической силы, призванной «развеществить» всю материю, превратив ее из состояния вещи-в-себе в вещь для нас.
В конечном счете здесь в превращенном виде содержалась идея об особом, космическом статусе человека, характерная для великих монотеистических религий. Напротив, новая либеральная программа освобождения от труда находится в опасной близости к апологетике естественного состояния человека, вполне способного быть понятым как праздник инстинкта. Либеральная гедонистическая программа вполне соответствовала тому реваншу принципа удовольствия над принципом реальности, о котором говорят неофрейдисты и который так подкупает современное массовое гедонистическое сознание.
Здесь необходимо сделать ряд оговорок. Первая из них касается недавнего опыта неоконсервативной волны на Западе. Как известно, неоконсерваторы достаточно жестко критиковали кейнсианскую "экономику спроса", противопоставляя ей добрую старую "экономику предложения". Под первой из них они понимали не только политику "дешевых денег", направленных на поощрение авантюрного предпринимательства и авантюрного потребительства, но и политику «большого» социального государства, умножающего социальных иждивенцев. Последовательно проведенный принцип неоконсервативной "экономики предложения" в пределе означал, что потребителями могут быть только производители: потребляющее население ограничивалось бы самодеятельным населением, за вычетом всех неэффективно работающих, забракованных рыночным естественным отбором.
При этом неоконсервативные экономисты недооценили тот факт, что в современном постиндустриальном обществе возрастание доли потребляющего населения в его отношении к непосредственно производящему связано не только с ролями досуга и давлением "культуры пособий", но и с возрастанием роли обучения и образования, все более поздним вступлением учащейся молодежи в профессиональную жизнь, а также с ростом творчески экспериментального социального времени различных новационных групп, к которым нельзя предъявлять требования немедленной экономической отдачи. В возникшем недоразумении между носителями буржуазного неоконсервативного реванша и носителями постэкономического общества будущего нашел отклик давний конфликт буржуа с культурой, мещанина– с творчеством. Вскорости, впрочем, неоконсервативное вето на гедонистический индивидуализм "экономики спроса" было практически снято.
Сегодня господствующий идеологический стиль на Западе обрел откровенно классовый характер: угрозу инфляции и неконкурентоспособности стали видеть не в индивидуалистическом гедонизме дезертиров из промышленной армии, а в социальных завоеваниях трудящихся, обременяющих патронат дорогостоящей социальной ответственностью. Беспощадная критика социального государства, умеренно избирательная критика постиндустриальной творческой сферы, связанной с наукой и образованием, при полной реабилитации индивидуалистического потребительного гедонизма – вот итоговый баланс неоконсервативных ристалищ конца ХХ века применительно к внутренней среде западного общества.
Совсем иной баланс получается, если мы обратимся к опыту применения неоконсервативной рыночной критики социального государства и культуры к странам не-Запада, и в первую очередь к постсоветскому пространству. Здесь мы имеем случай сделать вторую оговорку относительно соотношения принципа удовольствия и принципа реальности. Вся критика коммунизма со стороны как внешних, так и внутренних «западников» в конечном счете свелась к тому, что он представляет собой утопию, потакающую тем, кто оказался не приспособленным к железным законам рынка и рыночного "естественного отбора".
В конечном счете известные «реформы» свелись не к тому, чтобы на Востоке построить массовое потребительское общество, аналогичное западной "экономике спроса", а к тому, чтобы построить жестко селективное, дихотомически организованное общество. На одном его полюсе сосредоточивается меньшинство, потребляющее элитную продукцию иностранных или немногих выживших и приспособившихся к рынку местных предприятий, на другом – большинство, стремительно лишающееся базы своего существования – национальной промышленности и поставляемых ею дешевых товаров.
К меньшинству современная либеральная идеология повернута своими "принципами удовольствия", обещая ему жизнь без традиционных стеснений, связанных с местной ограниченностью, а также национальной «привязкой» и национальной ответственностью вообще. К большинству же она повернута предельно жестким "принципом реальности", призывая отвыкать от прежнего "государственного патернализма" и от всего того, что индивидуалистическая экономика "непосредственной прибыльности" финансировать не намерена. Получается так, что эта «экономика» смотрит на местное население со всеми его привычками, традициями и правами – в том числе и правом на жизнь – со стороны, глазами иной, "более высокой" цивилизации.
И в этой новой оптике открывается совершенно особая картина: подавляющее большинство туземного населения выглядит как незаконнорожденное, не имеющее обычных прав на жизнь. С точки зрения единственно объективных рыночных законов прочие законы социального бытия людей не считаются объективными – большинство бывшего советского народа, как, впрочем, и большинство других незападных народов земли, существует незаконно. Эти массы людей представляют собой либо пережиток прошлого, уже не имеющего никаких прав, либо результат особого исторического адюльтера между коммунизмом – этим пасынком Запада, сбежавшим на Восток, – и российской "скифской стихией".
Словом, надо прямо сказать: по критериям, с которыми либеральные «младореформаторы» подходят к туземному населению, само существование последнего является нелегитимным. Ни у экспортированной либеральной идеологии, ни у рыночной теории новейшего "чикагского образца" нет никаких имманентных оснований для узаконения народов, существующих в новом реформационном пространстве лишь де-факто, но не де-юре. Когда ему не выплачивают зарплату или определяют ее размер, во многие десятки раз ниже прожиточного минимума, когда его лишают других жизненных средств в виде доставшейся от прошлого системы здравоохранения, социальной защиты и т. п., то речь идет не о каких-то ошибках, эксцессах и отклонениях, а о том, что буквально соответствует "духу и букве" реформационной стратегии. Напротив, отклонениями следует признать противоположные случаи, когда зарплату все-таки выплачивают, услуги социального страхования предоставляют, привычные льготы сохраняют. Именно эти случаи "признания де-факто" следует считать временными, промежуточными, компромиссными. И компромиссы эти определяются не намерением реформаторов, не диктатом их теории, а инерцией "проклятого прошлого" и сопротивлением среды, искажающим логику теории.
Иными словами, сценарии новейшего либерального реформаторства во всех посткоммунистических и "посттрадиционалистских" странах являются дестабилизационными в радикальном смысле. Не в том смысле, что всякий переходный период характеризуется дефицитом устойчивости, а в том радикальном смысле, что данные сценарии означают геноцид населения, не имеющего "либерально-демократического" и «рыночного» алиби.
Однако пора перевернуть эту либеральную перспективу и посмотреть на либеральную социальную антропологию с другой стороны – со стороны объективных требований нормального и долгосрочного человеческого существования на земле.
Выше отмечалась субъективная привлекательность либерального эмансипаторского проекта, во всем потакающего гедонистически ориентированному индивидуалистическому эгоизму. Перед лицом этого эгоизма и связанных с ним ожиданий коммунистическая идеология была непоследовательной, тогда как либеральная – последовательной. Если первая сочетала проект исторического освобождения с аскезой трудового промышленного образа жизни и психологией "отложенного счастья", то вторая не ждет исхода эпопеи коллективного освобождения, а позволяет индивидуалистам освобождаться в одиночку и немедленно, в духе известного рекламного тезиса: "Звоните прямо сейчас".
Но здесь и возникают роковые вопросы, затрагивающие существо либерального эмансипаторского проекта.
Вопрос первый: если мне можно «позволить себе все», не дожидаясь, когда предпосылки освобождения созреют на общественном уровне (например, в виде новой общественной производительности труда, новых успехов научно-технического прогресса, образования, здравоохранения, социальной и политической демократии), то не вытекает ли из этого и позволение освобождать себя за счет других и вопреки их интересам? Опережение времени индивидуального освобождения по отношению к темпам исторического прогресса в целом снижает не только социальную ответственность личности, но и заинтересованность ее в коллективном прогрессе общества.