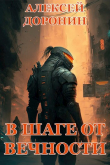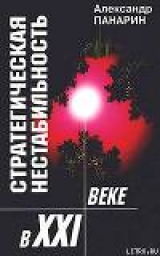
Текст книги "Стратегическая нестабильность ХХI века"
Автор книги: Александр Панарин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
§ 2. Почему народ «мешает» либеральной демократии
Наверное, ни разу во всей культурной истории человечества с народом и с самой идеей народа не происходили столь зловещие приключения в собственном государстве, как сегодня. Либеральная политика в России, понятая как полный отказ от всяких специальных идей и обязательств в пользу «естественного рыночного отбора», поставила народ в условия вымирания. Все экономисты знают, что минимальная заработная плата примерно равняется сумме жизненных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы в данных социально– исторических условиях. В России минимальная заработная плата примерно в 40 раз ниже этой суммы. Ясно, что это влечет за собой ряд «нетривиальных» следствий. Во-первых, физическое недоедание, деградацию образа жизни, запредельное сокращение рождаемости и раннюю, патологическую смертность от болезней и бытового перенапряжения. Во-вторых, это ведет наиболее молодую и дееспособную и одновременно наиболее социально неприкаянную и незащищенную часть населения к стремительному отходу от легальных практик, обрекающих на вымирание, к нелегальным практикам под девизом: «Выживаемость любой ценой».
Мир еще не знал столь острого конфликта между цивилизацией и молодежью, брошенной и отвергнутой этой цивилизацией. И прежде социологи – разработчики "теории новаций" предполагали возможность конфликта между обществом, ориентированным на статус-кво, на традицию, и молодежью, ориентированной на новое, на научно-технический и социальный прогресс. А. Турен, наблюдавший студенческие бунты в 1968 году во Франции, писал: "Молодежь не принадлежит обществу, она принадлежит прогрессу". Теперь мы можем с вполне оправданным сарказмом перефразировать: "Молодежь не принадлежит обществу, она принадлежит регрессу".
Дело в том, что у либеральных реформаторов в России подпали под подозрение сразу два социально-исторических образования. Первое – это вся система социально-экономического роста, созданная при коммунистическом режиме, финансируемая и поддерживаемая государством. Эта система вызывает у правящих либералов одновременно и острейшее идеологическое неприятие как идеологически чуждое, и практическое (экономическое) неприятие как непредусмотренная рыночной самоорганизацией нагрузка на экономику. Разумеется, если под экономикой понимать некий коллективный общественный организм, то есть посмотреть на нее с позиций общественного воспроизводства в целом, то государственные инвестиции в науку и наукоемкие производства, в образование и здравоохранение никак нельзя понимать как "накладные расходы", противоречащие критериям рентабельности. Напротив, как показала современная экономическая теория,[16]16
Один из ее представителей, экономист «чикагской школы» Г. Беккер, получил Нобелевскую премию за обоснование теории «человеческого капитала» и его ключевой роли в современной экономике.
[Закрыть] вложения в развитие человеческой способности к труду – «человеческий капитал» – являются наиболее рентабельными в стратегическом экономическом плане.
Но все дело в том, что наша либеральная идеология не оперирует такими понятиями, как "общественное производство", "национальная экономика" и другими "коллективными сущностями". Центральным понятием этой теории, основанной на номинализме,[17]17
Философия номинализма утверждает, что реально существуют лишь отдельные единицы, а общее (в том числе человеческое общество) – это всего лишь сумма отдельного.
[Закрыть] является «индивидуальный собственник», подсчитывающий только личную выгоду, причем в масштабах своего индивидуального времени. Ясно, что то, что может быть наиболее перспективным для экономики в целом – инвестиции в инфраструктуру, в долгосрочные фонды, в систему коммуникаций, равно как и вложения в систему образования, науки и культуры, – на его индивидуальном уровне не воспринимаются как рентабельные, то есть сулящие ему лично скорую и ощутимую отдачу.
Иными словами, буржуа как специфический персонаж новейшей либеральной теории не ассоциирует себя с обществом. Он скорее воспринимает себя как заброшенный в чуждую ему среду персонаж, сознающий, что все то, что может быть выгодно ему, совсем не обязательно дает выгоду обществу. Это сознание делает его особого рода подпольщиком, и в качестве такого подпольщика он и действует: дает взятки чиновникам, подкупает правоохранительные органы, депутатов и министров, дабы выгодное лично ему, но не обществу тем не менее прошло цензуру общественного контроля. Между краткосрочной рентабельностью на частнособственническом уровне и долгосрочной рентабельностью на коллективно-общественном уровне возникло все более ощутимое противоречие, которое пытается во что бы то ни стало затушевать либеральная экономическая теория. Общество предстает как извечный оппонент этой теории, которого она всячески стремится принизить и притязания которого – дискредитировать.
Здесь-то мы сталкиваемся с самым главным – с вопросами стратегического характера. Они касаются того, кто будет лечить общество от нынешних крайностей "дикого капитализма". Многим, успевшим вкусить всю горечь общественных результатов российского «реформаторства», еще хотелось бы надеяться, что между нынешней капиталистической практикой в России и передовой либеральной теорией, между нецивилизованным российским капитализмом и цивилизованной системой Запада существует принципиальное противоречие, которое и будет постепенно преодолеваться под давлением "истинной теории" и "истинной цивилизованности". И конечно, ключевой темой здесь является судьба народного большинства и, соответственно, тема геноцида, которому это большинство фактически сегодня подвергается. Отношение тех, кто сегодня воплощает – теоретически и практически, на уровне высоких идей и на уровне повседневных решений – современную цивилизацию, к народу вообще и к русскому народу в частности, является стратегической проблемой современности. К ее рассмотрению мы и перейдем.
Для этого нам предстоит обратиться к тем концепциям и к тем персонажам, которые заведомо свободны от всяких подозрений в причастности к какому бы ни было экстремизму, вообще ко всему тому, на чем лежит малейшая тень нереспектабельности. Мы должны учитывать, что, кроме тех, кто никогда не доверял буржуазному реформаторству, и тех, кто сегодня в нем окончательно разуверился, существуют еще и другие – которые продолжают рассчитывать на спасительное вмешательство "передовой цивилизации" в нынешний катастрофический ход российской истории – вмешательство примером, прямым политическим давлением или таинственно-анонимным давлением "исторической закономерности" и «рациональности». Поэтому мы должны рассмотреть эту передовую цивилизацию не со стороны ее собственных пережитков или маргиналий, а с самой безупречно передовой стороны, которая выражает имманентную логику передового цивилизованного мышления, – теории демократии, гражданского общества, прав человека.
Какова судьба народа как реальности и как ценностной категории в свете перспектив, открываемых и освещаемых этими, центральными по своему идеологическому статусу, теориями? (Немаловажно здесь и то, что, в отличие от теорий собственности, на которых лежит печать определенного группового интереса, эти теории сочетают строгий академизм с неподдельной либеральной взволнованностью.)
Начнем с выяснения отношений понятия «народ» с понятием «демократия», как они выглядят в свете ныне господствующей (то есть либеральной) теории демократии. Это важно уже потому, что народ в 1990–1991 годах пошел за «демократами», поверив в буквальное значение термина «демократия» ("власть народа"). Он выразил свое недовольство властвующей коммунистической номенклатурой как раз по причине того, что она подменила власть народа властью партии в ее значении привилегированного и узурпаторского меньшинства. В момент этой национальной иллюзии передовая теория поощряла народ, замалчивая свои принципиальные разногласия с ним. И только после того, как дело было сделано и "демократический переворот" состоялся – в Кремле впервые поселилось правительство, устраивающее Запад, передовая теория подала свой голос, обнажив перед всем миром тот факт, что настоящим оппонентом ее является не коммунизм как более или менее эфемерное образование, а народ вообще, русский народ – в особенности.
Первая из страшных идеологических тайн демократического века состоит в том, что демократия, как и сама буржуазная собственность, представляет номиналистическую систему, то есть ставит на место общества как целого совокупность индивидов, имеющих свою волю и свой интерес, отличный от общественных. Если общество– онтологическая и ценностная реальность, то само собой подразумевается, что наряду с индивидуальными интересами частных лиц существует реальный коллективный интерес общества, который по своему рангу выше любых частных интересов. Выстраивается следующая иерархия: наверху интересы всего общества, ниже– коллективные интересы различных общественных групп, в самом низу – частный интерес индивида.
Такой картине более соответствует политическая система народных демократий, известных из коммунистического прошлого, чем буржуазная демократия, адресующаяся к избирателю как индивиду. Далее: демократические выборы лишь тогда достойны своего названия, когда их результат заранее неизвестен. Иными словами, подлинная демократия выступает как стохастическая вселенная, в которой процессы протекают под знаком непредопределенности и непредсказуемости конечного результата.
Демократия с этой точки зрения сродни рыночной конкуренции, как ее определил Ф. Хайек: она есть процедура открытия таких фактов, которые никаким другим, плановым путем, заранее открыть невозможно. Заранее знают результаты выборов только их недемократические подтасовщики – нарушители демократии. Иными словами, демократия заранее постулирует принципиальную неизвестность воли большинства – в противном случае демократические выборы были бы излишними.
Но это означает, что ни в коем случае нельзя путать электоральное большинство с народом как коллективным субъектом истории. Если народ – субъект, то у него есть его коллективная воля, которая может быть известна заранее и которая не сводима к воле составляющих индивидов, живущих под знаком своих мелких частных интересов. Между тем вся система либеральной демократии работает с отдельными избирателями, противопоставляет их друг другу, манипулирует ими, «тасует» их, как карточную колоду. Само выражение "борьба за голоса избирателей" потеряло бы всякий смысл в случае предположения (защищаемого марксизмом), что люди ведут себя как лояльные члены тех групп, с которыми их связывает общность социального положения, происхождения и судьбы. В таком случае результаты выборов всегда давали бы заранее просчитываемый результат, соответствующий удельному весу соответствующих классов в обществе. Если рабочий класс составляет, к примеру, около 70 % населения страны, то и партия (или партии) рабочего класса не сможет не получить на выборах примерно того же процента голосов. В такой ситуации партия буржуазного меньшинства была бы заранее обречена: ведь она могла бы рассчитывать лишь на голоса тех, кто реально входит в круг буржуазных собственников. Иными словами, в такой системе народное большинство всегда будет находиться по ту сторону буржуазного меньшинства. Поэтому для действия буржуазной политической демократии как стохастической системы, в которой реальность не наследуется как исторический факт, а конструируется посредством политических избирательных технологий, необходимо дезавулировать само понятие народа, или народного большинства, обозначив его нейтрально – как электорат, или электоральное большинство.
Характеристики народа заранее известны, характеристики электорального большинства – неизвестны. Чтобы буржуазная представительная демократия как система конструирования заранее не заданного большинства действовала, необходимы два условия.
Первое: максимально возможное дистанцирование отдельных индивидов – особенно из народных классов– от своей социальной группы, от групповой картины мира и групповых (коллективных) ценностей. Персонажем электоральной системы может быть не тот рабочий, который всегда со своим классом, а тот, которого в ходе избирательной кампании можно убедить покинуть классовую нишу рабочих и проголосовать за представителей других партий. Только при условии такого свободного дистанцирования от групп, когда индивиды ведут себя как свободные электроны, покинувшие классовую орбиту, из них можно формировать текучий демократический электорат, меняющий свои очертания от одних выборов к другим. Устойчивые коллективные групповые сущности здесь противопоказаны, а народ как устойчивая коллективная сущность – тем более.
Необходимо задуматься и над условиями дистанцирования избирателя как "свободного электрона" от своей социальной группы с ее специфическим коллективным этосом и интересом. Здесь нам и открывается смысл представительной демократии как формальной, которая социально не равных людей трактует как равных по статусу «собственников» избирательного голоса. Для того чтобы последние готовы были отвлечься от своего долговременного социального опыта и отказаться от своей групповой лояльности, должно произойти одно из двух: либо они должны поверить в то, что политика способна перечеркнуть долговременные действия экономики, истории, культуры и в самом деле может подарить им завтра "новую жизнь"; либо они участвуют в политике как представители особой "культуры досуга", которой нет дела до реальных социальных проблем и тягот повседневности.
Здесь особо надо подчеркнуть подразумеваемые, но не высказываемые вслух асимметрии. Для того чтобы либеральные партии собственников могли побеждать на выборах, требуется одновременно, чтобы класс собственнического меньшинства выступал более или менее монолитно, то есть с классовым сознанием, а представители социального большинства, напротив, составили "стохастическую массу", ориентированную не изнутри, собственным опытом и интересами, а управляемую извне, на основе техник манипуляции. Философской основой этих манипулятивных техник является конвенционализм, столь же необходимо входящий в арсенал либеральной демократии, как и номиналистическое отрицание классовых, народных и национальных общностей. Демократия– это система, которая подменяет понятие объективной истины понятием согласованного мнения, конвенции.
Конвенциальное мнение большинства является высшей, хотя и временной – до образования следующей конвенции, – инстанцией, которую нельзя оспаривать от имени объективных истин. Это в науке возможны ситуации, когда один человек (например, Коперник) утверждает одно, большинство – нечто совсем другое, но объективная истина остается за этим одним.
Если демократию мы станем спрашивать по строгому счету объективных истин, тогда легитимность воли избирательного большинства повиснет в воздухе, а вместе с ним – и легитимность самой демократии. Это не означает, что демократия представляет собой безошибочную систему; скорее это система, которая имеет шансы исправлять возможные ошибки электорального большинства на следующих выборах. У демократии, следовательно, есть два оппонента, судьба которых решается именно сегодня.
Первый оппонент – вера в историю, в то, что она имеет единый высший смысл, касающийся конечных судеб человечества. Этот смысл открывается сознанием, воспитанным в древней монотеистической традиции и потому приученным за калейдоскопом внешних событий просматривать скрытый контекст, связанный с Божественной волей, с деятельностью абсолютного духа (Гегель) или – с объективными законами истории (Маркс). Почему такой тип сознания несовместим с современным западным пониманием демократии? Потому что основной презумпцией этой демократии является полное равенство соревнующихся партий перед лицом истории; история здесь понимается как «всеядная», не имеющая партийных любимцев, которым она всецело доверяет представительствовать себя и выражать ее «волю» или ее «законы». Иными словами, демократические партии соревнуются между собой не перед лицом Истории (с большой буквы), а перед лицом грешного избирателя, который меняет свои мнения, которого можно убеждать и переубеждать. Если бы в демократическом сознании была актуализирована идея Истории, оно сразу же перестало бы быть плюралистическо-демократическим.
В самом деле, представим себе, что среди множества соревнующихся партий есть одна авангардная партия, вооруженная высшим историческим знанием, то есть лучше других знающая, куда движется мировая история и каков ее смысл. Как мы понимаем, такая партия лучше знает интересы народа, чем сам народ, не посвященный в планы Большой истории. Следовательно, эта партия обладает особой легитимностью, отличающейся от демократически понимаемой. Легитимность ее притязаний на власть определяется не количеством голосов, которые она способна получить на выборах, а степенью проникновений в высшие законы и тайны истории. Она отвечает за народ, как «знающие» взрослые отвечают за «незнающих» детей, и потому имеет право навязывать свою волю профанному большинству.
Ясно, что здесь мы представили логику авангардной партии большевистского типа. Именно на основе такой логики большевики, получившие на выборах в Учредительное собрание меньшинство голосов (24,5 %), обосновали свое право на захват власти. Этот травмирующий исторический факт – большевистский переворот – послужил поворотным пунктом в развитии западного плюралистическо-демократического сознания: отныне оно стало сознательно агностическим сознанием, не посягающим на знание смысла истории. С тех пор либералы преследуют малейшие поползновения к поиску смысла Истории и с подозрением относятся ко всем видам исторического воодушевления. Их излюбленным социальным типом стал обыватель, целиком погруженный в повседневность и не помышляющий о высших исторических смыслах. Именно обыватель относится к политике как к товару: он выбирает на рынке партийных программ и предвыборных обещаний наиболее приятные ему лично, не заботясь о том, что они могут значить по большому социально-историческому счету.
Но сегодня, когда авангардные партии, непосредственно апеллирующие к Большой истории и ее высшим закономерностям, сошли со сцены в результате либерального переворота, обнаружилось, что у демократии есть и другой оппонент, временно выпавший из виду, – народ как культурно-историческая целостность. Оказалось, что он обладает почти всеми «авангардными» грехами: коллективной идентичностью, исключающей последовательный индивидуализм и плюрализм (свободные перемещения индивидов вдоль социально-политического спектра); коллективной верой (или верованиями), мало совместимыми с плюралистической всеядностью демократии; коллективной исторической памятью, создающей основы внепрагматических выборов и предпочтений.
Новейшая теоретическая рефлексия западной демократии достигла уровня, с которого открывается тотальная несовместимость народа и плюралистической демократии, народа и гражданского общества, народа и прав человека. Эту рефлексию, в частности, представляют два современных законодателя западной либеральной мысли: знаменитый создатель этики либеральной справедливости Дж. Ролз и "последний классик" франкфуртской школы Ю. Хабермас. Их работы закладывают основы новейшей либеральной стратегии на ХХI век, и стратегия эта не оставляет такому историческому образованию, как народ, ровно никаких шансов.
В своей новой книге "Вовлечение другого. Очерки политической теории" Ю. Хабермас сталкивает два понятия: "нация граждан" и "нация соотечественников". Под "нацией соотечественников", собственно, и скрывается знакомый и привычный нам исторический персонаж – народ. Одна из известных попыток примирения демократии с коллективной национальной идентичностью принадлежит деятелям консервативной революции в Германии. Глядя на анемичную и нежизнеспособную Веймарскую республику, которой западные победители категорически запретили мыслить категориями национальной идентичности (точь-в-точь как сегодня западные победители запрещают это России), К. Шмидт предрекал ей социальную дестабилизацию и историческое поражение. Шмидт исходил из того факта, что легче договариваются между собой, вступают в гражданскую кооперацию и находят совместные решения люди, связанные между собой чем-то большим, чем временный интерес «рыночного» типа. По-настоящему договариваются лишь те, у кого есть общий базовый ценностный язык, поле совместных стереотипов и интуиций. Словом, те, кто оказываются «договорившимися» еще до формальных договоров. Только в этом случае мы имеем шанс бесконечное разнообразие ситуаций свести к алгоритму совместной, коллективной воли. "Априорное предпонимание гарантировано субстанциальной однородностью соотечественников, которые в качестве особой нации отличаются от других наций" – так резюмирует Хабермас позицию Шмидта.[18]18
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. с. 240.
[Закрыть]
Мишенью шмидтовской критики является либеральное понимание индивида как "разнузданной самости", эгоистическая рассудочность которой исключает устойчивость любых коллективных общностей, заложенных конъюнктурными союзами "на время и на определенных условиях". "Формирование политического происходит, согласно данному (шмидтовскому. – А. П.) описанию, исключительно в виде переговоров о том или ином modus vivendi, при том что возможность взаимопонимания с этической или моральной точки зрения отсутствует".[19]19
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. с. 244.
[Закрыть]
То, что Хабермас в данном случае рассматривает как постулат определенной идеологической доктрины (ему враждебной), на самом деле подтверждается экспериментальными данными когнитивной психологии и исследованиями культурной антропологии. Человеку свойственно по самой его социальной природе говорить не только «я», но и «мы», без умения проводить и отстаивать дихотомию "мы– они" личность теряет устойчивость, становясь неврастеничной. Но и на коллективном уровне минимально необходимая устойчивость обеспечивается лишь тогда, когда наряду с умышленно принимаемыми в расчет связями и отношениями людей объединяют некие фоновые, не осознаваемые факторы близости, связанные с их коллективной культурной памятью. Как признается П. Бурдье, хотя и сам причастный к постмодернистскому развенчанию метафизических коллективных смыслов, «соглашения заключаются тем легче… и тем полнее полагаются на „добровольность“, чем генеалогически ближе участвующие в них группы».[20]20
Бурдье П. Практический смысл. с. 225.
[Закрыть]
Почему же в таком случае современная либеральная теория рискует противопоставлять себя не только своим идеологическим оппонентам, но и эмпирическим научным теориям, равно как и совместно зафиксированным свидетельствам культурного опыта?
Создается впечатление, что ее центральный персонаж – не признающий никаких коллективных инстанций и авторитетов эгоистический индивидуалист – является, подобно "пролетарскому классу" у Маркса, революционно-разрушительной, дестабилизирующей конструкцией. Подобно тому как у Маркса рабочий класс, противопоставляющий себя всем другим классам, являлся не естественно-историческим образованием, существующим по попущению стихийной истории, а конструктом, самосозидающимся в ходе перманентной разрушительности классового чувства, индивид либералов также существует не в естественно-историческом качестве, а созидается в ходе перманентного взбадривания нигилистическо-эгоистической воли. Презумпции этой воли прямо противоположны презумпциям социализированного человека, признающего социальные привязанности, цену которых не спрашивают, обязательства, не оговоренные в специальных соглашениях и документах, ценности, которые выше моего личного благополучия.
***
Новая эгоистическая воля мобилизуется в виде решимости порвать все унаследованные социальные связи, в оформлении которых я, как сознательный агент, лично не принимал участия, подвергнуть пересмотру все те консенсусы, которые утратили смысл по критерию эгоистического расчета.
Кредо новой либеральной теории: единственно приемлемыми должно считать те социальные связи и соглашения, которые каждым участником приняты вполне добровольно и сознательно, с учетом возможного баланса личных обретений и издержек. Здесь-то и проявляется коренное отличие либерального понятия гражданского общества от нелиберального понятия общности соотечественников или народа. Граждане сознательно, с учетом критериев личной выгоды конструируют социальную реальность, тогда как соотечественники ее наследуют.
В одном случае на передний план выступает личный выбор, в другом – коллективная судьба. Там – рассудочно-эгоистическое начало, здесь – иррационально-жертвенное.
Хабермас полагает, что до сих пор Европа жила с амбивалентным сознанием, в котором «дорефлексивно» уживались эти два гетерогенных начала гражданственности и народности.
«Своим историческим успехом национальное государство обязано тому обстоятельству, что оно заменило распадавшиеся корпоративные узы раннего новоевропейского общества солидарной взаимностью между гражданами государства. Но это республиканское завоевание оказывается в опасности, если интегративная сила гражданской нации сводится обратно к дополитической данности народа, возникшего естественным путем, то есть к чему-то, что не зависит от формирования общественного мнения и политической воли самих граждан»(1).
Хабермас противопоставляет "просвещенческую ситуацию" конца XVIII века, когда по инициативе основателей первой республики во Франции нация понималась как политическое объединение, скрепленное договором (конституцией), и "романтическую ситуацию" начала XIX века. Здесь политическую нацию снова теснит народ, обретающий свою идентичность не из конституции, которую он сам для себя создает. «Эта идентичность есть скорее доконституционный, исторический факт… совершенно случайный и тем не менее не произвольный, а скорее… не подлежащий отмене для тех, кто обнаруживает свою принадлежность тому или иному народу»(2).
Либеральную теорию смущает именно эта не подлежащая отмене идентичность, впитываемая с молоком матери и получающая одновременно и статус привычки, создающей неосознанную предрасположенность, и статус высшей ценности, способной воодушевлять. Однако у "нации романтиков" и "нации конституционалистов-просветителей", кроме несомненных различий, имеется и нечто общее. К различиям в самом деле относится этническая нечувствительность просвещенческого политического разума, заставившего основателей французской республики перейти от административного деления на провинции, имеющие этническую идентичность, к делению на департаменты, сознательно эту идентичность перечеркивающие. Но тем не менее сходство здесь таково, что ставит под сомнение все либеральные презумпции перерешаемой договорной общности. Дело в том, что у политической нации, идентифицирующейся на основании политического документа– конституции, появляется свое прошлое, обладающее всеми признаками наследственной неперерешаемости. Республики имеют сакрализуемых отцов-основателей, воля которых для них, потомков, является священной. Граждане второго и последующего поколений не имеют права отменять конституцию отцов-основателей – соответствующие попытки рассматриваются как реакционная реставрация или незаконный антидемократический переворот.
В конституцию можно вносить поправки, как и в систему демократических учреждений. Но в той и в другой наличествует твердый костяк, имеющий статус устойчивой субстанции, не разлагаемой свободной рефлексией перманентно сомневающегося и спорящего разума. Это касается не только разума в его собственно политической ипостаси: это относится к природе просвещенческого разума вообще. Этот разум имеет свою догматическую или аксиоматическую базу, опираясь на которую он совершает свои набеги на старые традиционалистские твердыни.
Новейшая либеральная теория отрицает эти исторические и логические факты, ибо, в отличие от классиков эпохи просвещения, индивидуализм для нее – это не возврат к устойчивому состоянию естественного человека, а перманентная революция индивидуалистических ниспровержений всего надындивидуального. Вот почему Хабермас постулирует понятие коммуникативного разума, ориентирующегося не на объективно разумное (истинное), а на субъективно разумное. Коммуникативный разум ищет не вечные истины (которые бы заново связывали личность), а места, по поводу которых возможно гражданское согласие на данный момент. Истина может иметь сколь угодно высокий статус по объективным историческим, логическим и моральным критериям, но тем не менее коммуникативный разум имеет все основания отвергнуть ее, если она останется субъективно неприемлемой. Природу этого коммуникативного разума хорошо раскрывает Дж. Ролз, на которого Хабермас по данному поводу ссылается: «разумными называются те точки зрения, которые конкурируют друг с другом в рефлексирующем сознании за право с помощью лишь лучших оснований реализовать собственные притязания на значимость в долгосрочном публичном дискурсе… Для нее… не может быть уверенности в том, что среди разумных доктрин, откуда ее можно вывести, есть хотя бы одна, которая является вместе с тем и истинной» (с. 145–146).
Здесь мы видим, что демократический коммуникативный разум последовательно отрицает и объективные истины, и высшие коллективные ценности. Объективную истину нельзя допускать в пространство гражданского дискурса потому, что она одна сразу же перевешивает весь калейдоскоп мнений и требует безоговорочной капитуляции от тех, кто с нею не в ладах. По этому критерию ложь или мнимость демократичнее истины, ибо ложных мнимостей много и они могут бесконечно конкурировать друг с другом, «беспринципно» меняться в зависимости от конъюнктуры и убедительности оппонентов, образовывать подвижные комбинации, тогда как истина обладает опасной неуступчивостью– имеет нелиберальную природу.
Не менее предосудительными свойствами с либеральной точки зрения обладают и "так называемые" высшие ценности. Люди, воодушевленные ими, помещают себя не в открытое либеральное, а в закрыто-фундаменталистское пространство. Они готовы вступать в коммуникацию только с единомышленниками и глухи к аргументам несогласных. Вот почему для Ролза и Хабермаса политическое сродни ценностно ("метафизически") нейтральному, способному наполниться любым, заранее не заданным содержанием. Политическое – значит коммуникативное, то есть пускаемое в свободный оборот гражданского спора без всякой протекционистской защиты со стороны высших ценностей.
Демократический разум прямо-таки обязывает быть онтологически поверхностным (не докапываться до объективных истин) и морально беззаботным – без этого гражданское общество не станет по-настоящему "открытым обществом", куда может войти всякий, предварительно освободившись от груза "твердых убеждений". Современная либеральная теория видит в качествах такого, морально и метафизически облегченного, разума не только гарантию демократического плюрализма в гражданском обществе, но и важнейший резерв будущего, когда в этом обществе все чаще будут встречаться люди разного этнического и конфессионального происхождения.