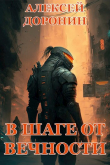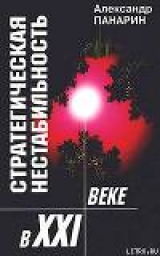
Текст книги "Стратегическая нестабильность ХХI века"
Автор книги: Александр Панарин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Старая либеральная догма (до сих пор насаждаемая в наших учебниках по современной "культуре гражданского согласия") состояла в требовании последовательного отделения интересов от ценностей. Прагматики, ориентированные на интерес, значительно легче договариваются между собой, менее запальчивы и нетерпимы, чем романтические приверженцы "принципов, которыми нельзя поступиться". Отсюда требование: долой принципы!
Дж. Ролз предлагает в данном случае более корректный вариант, исходящий из новой реальности мультикультурных обществ. Для этого Ролз предлагает понятие "перекрывающего консенсуса". Как комментирует это Хабермас, «Ролз предлагает ввести разделение труда между политическим и метафизическим с тем, чтобы содержание, в котором граждане могут быть согласны друг с другом, было отделено от тех или иных оснований, исходя из которых отдельный человек принимает это содержание как истинное» (с. 169).
Иными словами, либеральная политическая система мультикультурного общества принимает граждан различного этнического и конфессионального происхождения, не требуя от них предварительного отказа от своей культурной памяти и убеждений. Она видит свою задачу в том, чтобы не переубеждать граждан, "заглядывая им в душу", а подогнать готовые результаты их опыта под некий общий знаменатель.
Но это требует таких кульбитов либерального разума, которые только неустанный академический педантизм Ролза может по видимости привести в систему. Парадоксы этого либерализма не ускользнули и от Хабермаса. «В разделении труда между политическим и метафизическим отражается комплиментарное отношение между публичным агностицизмом и приватизированным вероисповеданием» (с. 171).
Иными словами, теория Ролза перевертывает нормальные отношения между содержанием частной и содержанием общественной сфер. В частно-бытовом смысле я могу оставаться ценностно ангажированным человеком, верить в те или иные идеалы, постулировать наличие высших, не подлежащих "свободному обмену" ценностей. Напротив, как только я выступаю в роли гражданина, я тут же занимаю остраненно-безразличную позицию в отношении моих любимых ценностей и соглашаюсь быть переубежденным аргументами других, исповедующих, возможно, нечто прямо противоположное. Надо сказать, добрая старая демократия классического типа остерегалась таких парадоксов.
Она, напротив, полагала, что публичная сфера требует от гражданина высокой ангажированности и мотивированности; она противопоставляла новый демократический идеал старым, но отнюдь не ценностное безразличие и неверие ценностному воодушевлению как таковому. Без демократического ценностного воодушевления невозможно представить себе тираноборческие движения нового времени и формирование новых европейских наций. Ниже мы попытаемся раскрыть подоплеку этой либеральной репрессии, направленной против воодушевляющих ценностей или по меньшей мере, как у Ролза, на изгнание их из гражданского большого пространства в малые приватные.
Сейчас еще раз присмотримся к механизмам либерального гражданского консенсуса. «…Граждане не интересуются содержанием других доктрин… Скорее они придают значение и вес только факту, наличию разумного перекрывающегося консенсуса самого по себе» (с. 180–181).
Но как же работает этот перекрывающийся консенсус, какого типа гражданской субъективности он требует? Как разъясняет Хабермас, «данная конструкция исходит из двух, и только двух перспектив: каждый гражданин соединяет в себе перспективу участника и перспективу наблюдателя… Однако, приняв объективирующую установку наблюдателя, граждане не могут вновь проникнуть в другие картины мира и воспроизвести их истинное содержание в соответствующей внутренней перспективе. Поскольку они загнаны в рамки дискурса, констатирующего факты, им запрещено занимать какую бы то ни было позицию по отношению к тому, что верующие или убежденные участники в перспективе первого лица считают так или иначе истинным, правильным и ценным» (с. 169–170).
Итак, "перекрещивающий консенсус" Ролза – это нивелирующее согласие людей, переставших вкладывать в свои гражданские роли свою идентичность. В этом свете открывается новый смысл самого понятия "формальной демократии". Ранее ее формальный характер понимался как ее (прискорбное в глазах обездоленного большинства) безразличие к социальным различиям людей: социально неравных людей она интерпретировала как равных, хотя таковыми равными они могут выступать раз в несколько лет – в качестве выборщиков, имеющих на руках каждый по одному бюллетеню для голосования. (На самом деле и в этот период они не равны: одни направляют манипулятивную "машину голосования", другие оказываются жертвами этой машины.) Теперь же формальность демократии проявляется не только в ее равнодушии к фактическому социальному неравенству людей, но и в равнодушии к вопросам истины, добра и долга.
Такого рода «формализм» имеет свои небезопасные последствия. Перекрещивающий консенсус покупается не ценой переубеждения людей, когда они одни убеждения меняют на другие, оказывающиеся, по их мнению, более подлинными и достойными – «настоящими». Напротив, он покупается ценой возрастающего равнодушия к любым ценностям вообще – циничной всеядности прагматика-стилизатора, умеющего надеть личину любых ценностей, если они к месту. Такая демократия, несомненно, готовит беспринципных конформистов, судьба которых – служить силе или деньгам, но не истине и справедливости. Она, следовательно, оправданна только при том «метафизическом» допущении, что ни больших испытаний, ни больших врагов в нашей истории больше не встретится и потому доспехи ценностного воодушевления, готовящего подвижников и героев, могут быть выброшены на свалку, подобно тому как наши правящие либералы поспешили выбросить на свалку оборонный потенциал страны.
Иными словами, новая либеральная демократия выступает как конструкция, целиком базирующаяся на потребительско-гедонистической утопии мира, в котором верность, жертвенность и самоотверженность никогда больше не понадобятся.
Но дело не только в этих историческо-метафизических «пределах». Даже если отвлечься от экстрем «начала» и "конца истории", а ориентироваться исключительно на ее золотую "демократическую середину" – когда традиционные нужды и дефицит уже преодолены, а новые, посттрадиционные (связанные, например, с "пределами роста") еще не дают о себе знать, то и здесь легкомысленное пренебрежение вопросами о добре и зле, о справедливом и несправедливом оказывается демократически некорректным. Те, кто говорит о "культуре согласия" и в то же время третирует ценностно ангажированных людей, кажется, не понимают истинную природу согласия, его моральные предпосылки.
Согласие вовсе не есть вежливое равнодушие, купленное ценою ценностной остраненности. Этот тип сознания способен к согласию лишь в более или менее беспроблемной ситуации, когда никаких "усилий согласия", собственно, и не требуется.
Согласие как серьезная проблема гражданского общества выступает как раз в серьезных ситуациях: когда сторонам предстоит поступиться весьма значимыми интересами, когда согласие действительно требует взаимных жертв и нешуточных уступок в пользу другого. В этой ситуации мы как раз и замечаем, что субъекты нового либерального образца, прошедшие выучку в школе "последовательного индивидуализма", качественно не способны к согласию. Они в таких ситуациях стихийно воспроизводят социал-дарвинистскую атмосферу, в которой "горе слабым". Истина современного индивидуализма состоит не в консенсусе, а, напротив, в готовности вероломно нарушить консенсус, выйти из него, если он в самом деле обязывает к чему-то серьезному. Именно современные индивидуалисты в период приватизации государственной собственности предпочли вместо действительного консенсуса свою монополию на собственность, даже ценой рисков, вытекающих из ее нелегитимности. Нечто аналогичное мы наблюдаем в международном масштабе. Сегодня новые капиталисты откровенно отказываются финансировать социальное государство – основу межклассового консенсуса – и шантажируют национальные правительства тем, что немедленно переведут свои капиталы за рубеж, если их будут обременять высокими налогами и другими социальными обязательствами перед неимущими и незащищенными.
И такая ситуация возникла не тогда, когда либерализм подвергался давлению коммунизма и других «нетерпимых» политических сил и идеологий, а именно тогда, когда он утвердился в качестве победителя.
На деле, следовательно, либерализм оказался не школой терпимости и гражданского согласия, а школой нового монополизма.
Новая "теория гражданского согласия" переводится на общепонятный язык весьма просто: «мы вас лишили привычных социальных прав, а вы соглашайтесь, мы экспроприируем и присваиваем то, что нам не принадлежало, а вы не спорьте – проявляйте демократическую терпимость».
Приходится признать, что по своим глубинным морально-психологическим основаниям согласие – категория скорее «традиционная», связанная с жертвенной и общинной моралью верующих и совестливых людей, а не либерально-постмодернистская, связанная с установками эгоистического индивидуализма и моральной вседозволенности. Судя по всему, новейший либерализм находится в плену своих старых пропагандистских доктрин, используемых в период холодной войны с коммунистическим противником.
Речь идет в первую очередь о теориях деидеологизации и конвергенции. Проблема, которая стояла перед западными стратегами в ту эпоху, сводилась к тому, чтобы идеологически разоружить коммунизм, лишив его питающего идеологического энтузиазма. Вот тогда и вышел на арену сконструированный персонаж – субъект, помещаемый между двумя противоположными мирами и самостоятельно конструирующий свое мировоззрение из блоков разного идеологического происхождения: немножко плана, немножко рынка, немножко демократии равенства, связанной с социальным государством, немножко демократии свободы, связанной с либеральной инициативой.
Словом, нетерпимость интерпретировалась исключительно как идеологическая нетерпимость людей, разделенных железным занавесом. Достаточно снизить идеологическую температуру, подогреваемую фанатиками, и терпимость немедленно появится. Но ведь в данном случае нам говорят не о терпимости и нетерпимости людей, разделенных железным занавесом и барьером идеологии. Речь идет о гражданском согласии людей, имеющих разные фактические возможности власти и влияния. Ясно, что в этих условиях учителя терпимости и согласия должны были бы обращаться со своей проповедью в первую очередь к тем, кто имеет преимущественные позиции– ведь именно им предстоит поступиться хотя бы частью своей властной и собственнической монополии в пользу более обделенных. Вместо этого либеральные учителя сделали мишенью своей кампании идеологической дискредитации народную "традиционалистскую ментальность", "религиозно-фундаменталистскую мораль", "архаичные мифы" социального равенства и справедливости. Получается, терпимости учат не тех, у кого всего много, а тех, у кого и без того мало, не тех, кто держит власть и собственность, не желая поступиться и крохами того или другого, а тех, кто испытывает притеснения со стороны первых. Многозначительная асимметрия "либерального разума"!
Между тем действительная проблема гражданского согласия связана с преодолением тех крайностей индивидуалистического гедонизма, которые сегодня насаждаются новейшим либерализмом и служат алиби новой социальной обязательности держателей собственности и власти, которые прежде, в долиберальные времена, еще как-то тушевались перед лицом общественного мнения и были готовы к определенным уступкам. Словом, специалистами по гражданскому согласию ныне выступают как раз те, чья идеология зоологического индивидуализма и социальной безответственности работает как фактор, подрывающий длительно складывающийся социальный консенсус и саму структуру социально согласительного (а значит, социально ответственного и в меру жертвенного) сознания.
"Формальная демократия" этих господ знает только идеологические препоны согласия, но начисто игнорирует его социальные предпосылки, связанные с деятельной гражданской солидарностью и социальной ответственностью. Либеральная теория за предпосылку согласия выдает безразличие к ценностям. Но как раз безразличие к ценностям порождает ту предельную социальную глухоту и безответственность, которая породила нынешнюю волну буржуазного контрнаступления на социальные права и грозит подрывом самих предпосылок действительного гражданского согласия.
Мы имеем здесь дело со злостной подменой терминов. То, что зовется «гражданским» согласием, на самом деле ограничивается «надстроечной» политико-идеологической сферой, не затрагивающей социальные отношения гражданского общества. Здесь мы видим, что гражданское общество как среда, воодушевленная глубоко содержательными социальными вопросами, касающимися реальных прав трудящихся на предприятии, прав жителей регионов, прав потребителей, имеет своей основой понятие народа. Именно народ сохраняет в своем мышлении тягу к реальной гражданской сфере в ее социальном значении, тогда как "профессиональные либералы" интересуются только правами "крикливого меньшинства", живущего «надстройкой».
Только народ своим социальным, политическим и моральным давлением способен воспрепятствовать вырождению «гражданского договора» в манипулятивные политические игры и насытить его конкретикой эффективного социального контракта, затрагивающего повседневное «качество жизни».
И только народ как носитель определенной социокультурной и нравственной традиции создает дорефлективные, латентные основания гражданского согласия, кроющиеся в базовых ценностях.
Последовательно либеральная точка зрения состоит в том, чтобы на место народа как субстанциональной общности, являющейся исторической и моральной «данностью» для всякого, к нему принадлежащего, поставить понятие интерсубъективности – общности, поминутно рождаемой (и поминутно "перерешаемой") в ходе коммуникационного процесса между автономными индивидами.
Ясно, что при такой постановке вопроса невозможно решать никакие долговременные коллективные задачи: для таких задач нет устойчивого субъекта.
Ясно также (но либеральная теория предпочитает об этом умалчивать), что в этой коммуникационной картине общества, где устойчивые общности подменяются «консенсусными», те самые люди, которые обладают наибольшими возможностями (экономическими и политическими капиталами), будут выступать постоянными инициаторами пересмотра и разрыва стеснительных правил консенсуса.
Словом, именно те, кто мог бы принести обществу (и входящим в него общностям) максимальную пользу, оказываются менее всего склонными это делать. Либеральная система, таким образом, включает механизм социальной деградации – политической, экономической и культурной. В этой системе те, кто в силу своих возможностей должен представлять свою группу, то и дело ее «подставляют», явочным образом разрывая социальные контракты. Включая механизмы эксгруппового сознания, либеральная система создает возможности сговора различных «элит» за спиной тех, кого они призваны представлять. "Права человека", противопоставленные коллективной идентичности, коллективной норме и долгу, оказываются правом выхода из консенсуса в любое удобное для данного лица (и может быть, губительное для группы) время.
«…Обеспечение коллективной тождественности вступает в конкуренцию с… кантовским единственным и изначальным правом человека…» (с. 330).
Здесь сталкиваются два типа либерализма. Один, отдавая себе полный отчет в том, что мораль и культура как нормативные системы заведомо будут обязывать индивида к обязывающей коллективной идентичности и ответственности, предлагает просто вывести их за скобки. Об этом говорит Хабермас: «Либералы типа Ролза и Дворкина требуют этически нейтрального правопорядка, который каждому обязан обеспечивать равенство шансов в следовании той или иной собственной концепции блага» (с. 337).
Иными словами, здесь приватизируются не только материальные блага, но и мораль; отныне каждому разрешается иметь собственную мораль взамен общепризнанной.
Вместо единой морали возникает настоящая конкуренция моральных картин мира, в которой вчерашние "моральные изгои" общества – казнокрады, преступники, наркоманы и извращенцы – не только могут найти полное успокоение в том, что они следуют собственной морали, но и получают возможность свободно переубеждать "архаичных ортодоксов" старой морали, еще знающей различие между добром и злом, добродетелью и пороком. Хабермас уходит от этой логики частного присвоения морали, совершая не предусмотренную доктриной подтасовку. Он постулирует ситуацию фонового контекста: люди свободно конкурируют, сталкивая и сопоставляя любые мыслимые практики, но на фоне фактически усвоенного ими предшествующего культурного и морального опыта.
«Ибо целостность отдельного субъекта права не может быть гарантирована без охраны того интерсубъективного разделенного контекста опыта и жизни, в котором он был социализирован и сформировал свою тождественность» (с. 357–358).
Но подобная оговорка совершенно не законна в рамках логики, которую уже принял либеральный философ.
Во-первых, именно он развернул перед нами программу «развеществления» всех фоновых значений, то есть перевода их из безусловного статуса молчаливо принимаемого наследия в статус наследия, принимаемого лишь по "здравым индивидуальным размышлениям" – при условии, если меня лично это наследие устраивает и не стесняет. Во-вторых, с такой беззаботностью о культурном и моральном наследии еще допустимо рассуждать западноевропейцу, индивидуализм которого страхуют и корректируют доиндивидуалистические (добуржуазные) условия и богатства культуры. В случае же переноса этого индивидуализма на почву других, не подготовленных для этого культур фоновые коррекции индивидуалистического беспредела не срабатывают.
Итак, мы видим, что либеральное понятие автономного индивида как единственной социальной реальности, с которой отныне надлежит считаться, находится в прямо антагонистическом отношении с понятием народа. Концепт самодостаточной и самопроизвольной индивидности постоянно высвечивает в понятии народа (и обозначаемой им реальности) все новые признаки агрессивной архаики, не совместимой с либеральными ценностями. Так народ из естественной и самодостаточной субстанции, которая прежде просто не ставилась под сомнение, превращается в сложную составную конструкцию, подлежащую последовательной «деконструкции». Либеральная аналитика демонстрирует специфическую зоркость, недоступную прежнему «народническому» восприятию, к которому, мол, все с детства приучены.
Для нас, русских, это особенно интересно, ибо, как оказывается, русский народ сегодня выступает олицетворением той самой народности, которую либеральные деструктивисты исполнены решимости разъять окончательно. Стратегическая гипотеза современного мирового либерализма состоит в том, что русские являются последним оплотом народности как всемирно-исторического феномена, враждебного западному индивидуализму.
Во-первых, народ выиграет как хранитель коллективной исторической памяти, обязывающей каждого индивида к уважению и сохранению определенной традиции. «Преданья старины глубокой», «любовь к отеческим гробам» – это не просто особенность исторического романтизма, усвоенного по литературным источникам. Это тот тип культурного «подсознания», который мешает установлению системы универсального обмена и победе глобального рынка как не только экономической, но и социокультурной системы. Несущие в своей душе эти преданья и эту любовь стоят на том, что не все обменивается и не все продается. Есть вещи, которые не продаются ни за какую цену, – это вещи, освященные нашей сакрализованной памятью.
Такая память в принципе не может быть принадлежностью индивидуалистического типа сознания, и наоборот, пока она существует, последний не может утвердиться. Культурно-историческая память в индивидуалистическом горизонте превращает "вещи прошлого" в антиквариат – весьма ценимый на сегодняшнем мировом рынке. Казалось бы, здесь есть полное совпадение признаков: скрупулезность изучения и собирания реликтов прошлого, герменевтическая вживаемость в утраченный культурный контекст, даже личная сентиментальность здесь не исключены. Тем не менее противоположность налицо: приобщенность к коллективной культурной памяти народа рождает героев, приобщенность к наследию в индивидуалистическом ключе – антикваров как разновидность агентов современного постиндустриального рынка.
Во-вторых, народ оказывается хранителем общинного сознания в эпоху, когда общинность репрессирована политически, экономически и идеологически.
В этом смысле народ оказался великим подпольщиком современного гражданского общества. Он сохранил этос общинности с помощью двух уловок (которые, возможно, являются уловками самой цивилизации или охраняющего ее мирового исторического разума).
Первая уловка состоит в том, чтобы вытолкнуть общинное начало из сферы публичности, жестко контролируемой нетерпимыми цензорами и миссионерами современности, в сферу жизненного мира. Общинность состоит не только в необходимой бесплатной взаимопомощи, когда односельчане помогают строить дом, обмениваются соседскими услугами и демонстрируют узаконенное обычаем любопытство в отношении жизни и дела другого. Этот тип общинности уходит вместе с деревенским образом жизни. Но и внутри современного городского образа жизни сфера обмена надстраивается над скрытой сферой бесплатного, «факультативного» социального участия, изобличающего сохранившуюся социальную спонтанность старого общинного типа. Бессчетные авансы взаимного доверия, не обеспеченного векселем и подписью, не проговоренные, не подразумеваемые условия восполнения контрактов, даже объективное моральное сочувствие к тем, кто попал в затруднительное положение, – все это «реликты» доиндивидуалистической морали.
Само общественное мнение представляет собой феномен, нарушающий не только законы рынка, но и законы естественного эгоизма. Эти законы предполагают, что обладают готовностью вмешиваться в те или иные процессы только в том случае, если они затрагивают меня лично: сулят мне выгоду или угрожают мне потерями. Но парадоксальность общественного мнения проявляется как раз в его прагматически не заинтересованном характере: оно несет в себе энергию «вытесненной» общинности, как погасшие реликтовые звезды до сих пор несут свой свет.
А вторая уловка народа состоит в том, чтобы не проговаривать некоторые значимые смыслы, связанные с репрессированной общинностью: народ– великий молчальник современной истории, и это молчание наверняка объясняется не только его недостаточной образованностью и отчужденностью от системы современных массовых коммуникаций, монополизированных "крикливым меньшинством".
Народное молчание является необходимым условием сохранения бесценных навыков традиционного опыта, которые современная цивилизация не "может терпеть", даже не отдавая себе отчета, чем на самом деле они ему обязаны.
"Целиком современная" личность не способна служить в армии, заниматься тяжелым физическим трудом и просто заполнять те профессии, которые с точки зрения фактической потребности общества остаются массовыми, а с точки зрения представлений о современности и престижности уже не выдерживают никакой критики.
Перед лицом этого противоречия современная цивилизация пускается на незаконные, по ее собственному счету, шаги: она приглашает "несовременных людей", используя услуги неприхотливых мигрантов, цветных, людей забытой глубинки, сохранивших способность выносить те тяготы бытия, которые современными идеологами прогресса просто "не предусмотрены".
Если бы народ вместо того, чтобы отмалчиваться по важнейшим вопросам "традиционной морали" перед лицом воинствующих адептов современности, вступил с ними в откровенную полемику, цивилизация лишилась бы тех «реликтовых» образований, без которых на самом деле она не в состоянии существовать: трубадуры модерна и постмодерна немедленно мобилизовались бы для очередного погрома.
Современный "цивилизованный Запад" после своей победы над коммунизмом открыл "русское народное подполье", стоящее за коммунизмом и втайне питавшее его потенциалом скрытой общинности. Не завтра, так послезавтра всему человечеству станет ясно, что общинность "тайно питает" не только коммунизм; ею оплачены все разрушительные социальные эксперименты бесчисленных революционеров, реформаторов, модернизаторов… В тайных нишах народной общинности находил укрытие жизненный мир с его до сих пор скрытыми законами, может быть, в принципе не переводимыми на язык прогрессизма. Ибо прогрессизм оперирует морально стареющими вариантами, каждый из которых теми или иными фанатиками модерна выдается за нечто, венчающее весь ход истории, тогда как практики жизненного мира базируются на инвариантах – неперерешаемых условиях человеческого бытия, которому, вопреки обещаниям очередного великого учения, не дано превратиться в рай.
В-третьих, народ по некоторым признакам является природным или стихийным социалистом, сквозь века и тысячелетия пронесшим крамольную идею социальной справедливости. Разумеется, коммунизм по-своему акцентировал и гиперболизировал народную идею социальной справедливости, придав ей догматическую форму «демократии равенства», нетерпимой к естественным социальным и индивидуальным различиям. Тем не менее остается бесспорным, что в современной тяжбе между материальной «демократией свободы» и социалистической «демократией равенства» народ тяготеет к поддержке последней. С позиций «герменевтики текста» обнаруживается, что встреча «текста» стихийной народной правды с текстом социалистической идеологии позволила высветить в толще народного сознания, в недрах народной культуры те рациональные «моральные смыслы», которые ставят народ в конфликтное отношение с буржуазной цивилизацией.
В этом смысле Маркс был не меньшим «народником», чем те русские революционеры, которые начали свой поход из городских центров в деревню как подпольную хранительницу общинного социализма. Но если русские народники выступали в роли восприемников готового народного социалистического текста, то марксисты выступили в роли ученых герменевтиков, высветивших скрытое содержание этого текста и подвергших его очистке от искажающих примесей. На этом, собственно, основывается советско-марксистская теория "революционной демократии" и "народной демократии".
Иными словами, представляется небеспочвенной новейшая либеральная догадка, что обоснование "марксистского текста" на почве русской народной культуры не является случайностью, что советский народ есть идеологическая экспликация смыслов, заложенных в русском народе – социальном правдолюбце и тираноборце. А следовательно, и "советская империя" есть не просто империя, а способ мобилизации всех явных и тайных сил, не принявших буржуазную цивилизацию и взбунтовавшихся против нее.
Анализ либеральной идеологии показывает, что у нее на подозрении оказывается народная субстанция как таковая – советский народ здесь не является каким-то особым исключением. Исключительность его роли не в том, что он выражал нечто, не укладывающееся в нормы стихийного морального сознания любого народа, а в том, что он позволил этим стихиям вырваться из подполья, преодолеть цензуру либеральной современности, олицетворяемую господствующими силами Запада. Именно совпадение коммунистического этоса советского типа с народным этосом как таковым вызвало величайшую тревогу Запада перед "русским вызовом". Были в прошлом и возможны в будущем и более могущественные во временном отношении и при этом враждебные Западу империи. Но они не вызывали и не вызывают такой тревоги на Западе, ибо их оппонирование ему носит либо банальный по меркам исторического опыта характер военно-силового соперничества за ресурсы и власть в мире, либо характер "конфликта цивилизаций".
Перед лицом "конфликта цивилизаций" Запад как оспариваемая цивилизация может только консолидироваться. Перед лицом же вызова со стороны социальной идеи – а именно таким был советский вызов – Запад мог раскалываться, а народные низы Запада оказывались на подозрении как среда, восприимчивая к крамольной "социальной правде". Для симметричного ответа на этот вызов буржуазному Западу необходимо было найти на "коммунистическом Востоке" фигуру, способную стать пятой колонной последнего – подпольщика, аналогичного народному антибуржуазному подполью на Западе.
Этим "подпольщиком либерализма" и стал носитель эгоистической индивидуальности, видящей на Западе свое тайное отечество.
В этом смысле многие из современных западных политических технологий, используемых и против СССР и против России – в той мере, в коей она продолжает оставаться на подозрении, – являются плагиатом у "третьего интернационала" коммунистов. Интернационал не знающих отечества "граждан мира" стратегически символичен третьему интернационалу. Так же как Третий интернационал нарушал законы социальной революции, провоцируя извне те процессы, которым положено было быть инициированными изнутри, либеральный интернационал нарушает законы либеральной революции, поощряя, ссужая деньгами, покровительствуя извне «революционерам» радикал-либерализма, разрушающим нормы местного социума.
И здесь самое время снова обратиться к теории Хабермаса, ибо этот "респектабельнейший из либералов" со всей откровенностью выражает позицию, практически полностью совпадающую с позицией Буша-младшего, затеявшего новую мировую войну. Внимательно прочитать Хабермаса – значит уяснить себе, что американская мировая авантюра не является какой-то патологической экстравагантностью ястребов ковбойского происхождения, заполучивших власть на капитолии. Их нынешний вызов миру запрограммирован в самой идеологии новейшего либерализма, то есть является идеологически необходимым.
Хабермас прямо говорит, что демократический Запад не может дожидаться, когда либеральные индивидуалисты изнутри разложат до конца коллективистскую авторитарность нелиберальной государственности в разных частях мира. Эти индивидуалисты имеют право призывать себе на помощь внешние силы, а Запад со своей стороны имеет право для военного вмешательства в пользу этих адептов против человека.
«Применение военной силы определено уже не одним только в сущности партикуляристским государственным мотивом, но и желанием содействовать распространению неавторитарных форм государственности и правления» (с. 288).