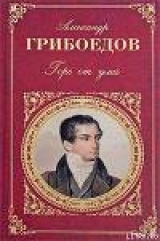
Текст книги "Горе от ума (сборник)"
Автор книги: Александр Грибоедов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
О переводе «Семелы» Шиллера
Вы знаете прекрасные сцены Шиллеровой «Семелы». По усиленной просьбе моей, А. А. Жандр согласился перевести их на русский язык и добавить от себя, чего недостает в подлиннике. Вообще он обогатил целое новыми, оригинальными красотами. И в отрывке, который при сем препровождаю, лирическое во втором явлении от слова до слова принадлежит ему. Грибоедов.
1817
Письмо к издателю «Сына отечества» из Тифлиса от 21 января (1819 г.)
Вот уже полгода, как я расстался с Петербургом; в несколько дней от севера перенесся к полуденным краям, прилежащим к Кавказу (не мысленно, а по почте: одно другого побеспокойнее!); вдоль по гремучему Тереку вступил в скопище громад, на которые, по словам Ломоносова, Россия локтем возлегла, но теперь его подвинула уже гораздо далее. Округ меня неплодные скалы, над головою царь птица и ястреба, потомки Прометеева терзателя; впереди светлелись снежные верхи гор, куда я вскоре потом взобрался и нашел сугробы, стужу, все признаки глубокой зимы; но на расстоянии нескольких верст суровость ее миновалась: крутой спуск с Кашаура ведет прямо к весенним берегам Арагвы; оттуда один шаг до Тифлиса, и я уже четвертый месяц как засел в нем, и никто из моих коротких знакомых обо мне не хватится, всеми забыт, ни от кого ни строчки! Стало быть, стоит только заехать за три тысячи верст, чтобы быть как мертвым для прежних друзей! Я не плачу́ им таким же равнодушием, тем, которых любил, бывши с ними в одном городе; люблю и теперь вспоминать проведенное с ними приятное время, всегда об них думаю, наведываюсь у приезжих обо всем, что происходит под вашим 60 градусом северной широты; всё, что оттуда здесь узнать можно, самые незначущие мелочи сильно действуют на меня, и даже газетные ваши вести я читаю с жадностью.
Теперь представьте мое удивление: между тем, как я воображал себя на краю света, в уголке, пренебреженном просвещенными жителями столицы, на-днях, перебиравши листки Русского Инвалида, в № 284 прошедшего декабря, между важными известиями об американском жарком воскресенье, о бесконечном процессе Фуальдеса, о докторе Верлинге, Бонапартовом лейб-медике, вдруг попадаю на статью о Грузии: стало быть, эта сторона не совсем еще забыта, думал я; иногда и ею занимаются, а следовательно, и теми, которые в ней живут… И было порадовался, но что ж прочел? Пишут из Константинополя от 26 октября, будто бы в Грузии произошло возмущение, коего главным виновником почитают одного богатого татарского князя. Это меня и опечалило, и рассмешило.
Скажите, не печально ли видеть, как у нас о том, что полагают происшедшим в народе, нам подвластном, и о происшествии столько значущем, не затрудняются заимствовать известия из иностранных ведомостей, и не обинуясь выдают их по крайней мере за правдоподобные, потому что ни в малейшей отметке не изъявляют сомнения, а можно б было кажется усомниться, тем более что этот слух вздорный, не имеет никакого основания: вероятно, что об истинном бунте узнали бы в Петербурге официально, не чрез Константинополь. Возмущение народа не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она дает дурной спектакль: оно отзывается во всех концах империи, сколько, впрочем, ни обширна наша Россия. И какие есть татарские князья в Грузии? Их нет, во-первых, да если бы и были: здесь что татарский князь, что немецкий граф – одно и то же: ни тот ни другой не имеют никакого голоса. Я, как очевидец и пребывая в Тифлисе уж с некоторого времени, могу вас смело уверить, что здесь не только давно уже не было и нет ничего похожего на бунт, но при твердых и мудрых мерах, принятых ныне правительством, всё так спокойно и смирно, как бы в земле, издавна уже подчиненной гражданскому благоустройству. Вместо прежнего самоуправства ныне каждый по своей тяжбе идет покорно в дом суда и расправы, и русские гражданские чиновники, сберегатели частных прав, каждого удовлетворят сообразно с правосудием. На крытых улицах базара промышленность скопляет множество людей, одних для продажи, других для покупок; иные брадатые политики, окутанные бурками, в меховых шапках, под вечер сообщают друг другу рамбавии (новости) о том, например, как недавно здешние войска в горах туда проложили себе путь, куда, конечно, из наших никто прежде не заходил. На плоских здешних кровлях красавицы выставляют перед прохожими свои нарумяненные лица, которые без того были бы гораздо красивее, и лениво греются на солнышке, нисколько не подозревая, что отцы их и мужья бунтуют в Инвалиде. В караван-сарай привозятся предметы трудолюбия, плоды роскоши, получаемые через Черное море, с которым ныне новое ближайшее открыто сообщение сквозь Имеретию. В окрестностях города виртембергские переселенцы бестревожно обстраиваются; зажиточные исчисляют, сколько веков, годов и месяцев составят время, времена и полвремени, проповедуют Ш(тиллингов) золотой Иерусалим с жемчужными вратами, недостаточные работают; дети их каждое утро являются на улицах и в домах с духовными виршами механика К***, которых никто не слушает, и с ковришками, которые все раскупают, и щедро платят себе за лакомство, им на пропитание. Вечером в порядочных домах танцуют, на саклях (террасах) звучат бубны и завывают песни, очень приятные для поющих. Между тем город приметно украшается новыми зданиями. Всё это, согласитесь, не могло бы так быть в смутное время, когда богатым татарским князьям пришло бы в голову возмущать всеобщее спокойствие.
Не думаю, чтобы повод к распространению таких слухов подала прошлогодняя экспедиция командующего Грузинским отдельным корпусом генерала от инфантерии Ермолова. Вот что было: заложена крепость на Сунже с намерением пресечь шатания чеченцев, которые часто слезают с лесистых вершин своих, чтобы хищничать в низменной Кабарде. Крепостные работы окончены успешно и беспрепятственно. Имея притом в виду во всех направлениях расчистить пути среди гор, в которых многие места по сие время для нас были непроходимым блуждалищем, и разрыть во множестве сокровенные в них богатства природы, дано им было предписание генерал-майору Пестелю занять Башлы в Дагестане. Акушинцы и другие народы, не уразумев истинных его намерений, испуганные, обсели соседственные высоты; когда туда же приступил от крепости Грозной сам генерал Ермолов, они мгновенно рассеялись; возбудителям этого скопления дарована пощада, и одним словом никогда в тамошних странах державная власть нашего государя не опиралась столь надежно на покорстве народов, как ныне. Еще нужны труды и подвиги, подобные тем, которые подъяты здешним Главноначальствующим с тех пор, как он вступил в управление земель и народов, ему вверенных, – и необузданность горцев останется только в рассказах о прошедшем. Впрочем, если и принять в уважение, что экспедиция, о которой я сейчас упомянул, причиною толков о мнимом грузинском бунте, на что же нам даны ландкарты, коли в них никогда не заглядывать? Они ясно показывают, что события с Кавказской линии также не годится переносить в Грузию, как в Литву то, что случается в Финляндии.
Я бы, впрочем, не взял на себя неблагодарного труда исправлять газетные ошибки, если бы обстоятельство, о котором дело идет, не было чрезвычайно важно для меня собственно по месту, которое мне повелено занимать при одном азиатском дворе. Российская империя обхватила пространство земли в трех частях света. Что не сделает никакого впечатления на германских ее соседей, легко может взволновать сопредельную с нею восточную державу. Англичанин в Персии прочтет ту же новость, уже выписанную из русских официальных ведомостей, и очень невинно расскажет ее кому угодно в Тавризе или Тейране. Всякому предоставляю обсудить последствия, которые это за собою повлечь может.
А где настоящий источник таких вымыслов? Кто первый их выпускает в свет? Какой-нибудь армянин, недовольный своим торгом в Грузии, приезжает в Царьград и с пасмурным лицом говорит товарищу, что там плохо дела идут. Приятельское известие передается другому, который частный ропот толкует общим целому народу. Третьему не трудно мечтательный ропот превратить в возмущение! Такая догадка скоро приобретает газетную достоверность и доходит до «Гамбургского Корреспондента», от которого ничто не укроется, а у нас привыкли его от доски до доски переводить, так как же не выписать оттуда статью из Константинополя?
Потрудитесь заметить почтенному редактору «Инвалида», что не всяким турецким слухам надлежит верить, что если здешний край в отношении к вам, господам петербуржцам, по справедливости может назваться краем забвения, то позволительно только что забыть его, а выдумывать или повторять о нем нелепости не должно.
Заметка по поводу «Горя от ума»
Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишет для сцены: Расин и Шекспир подвергались той же участи, – так мне ли роптать? – В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, – но его поняли, всё уже внятно, и ясно, и сильно. Для того с обеих сторон требуется: с одной – дар, искусство; с другой – восприимчивость, внимание. Но как же требовать его от толпы народа, более занятого собственною личностью, нежели автором и его произведением? Притом, сколько привычек и условий, ни мало не связанных с эстетическою частью творения, – однако надобно с ними сообразоваться. Суетное желание рукоплескать, не всегда кстати, декламатору, а не стихотворцу; удары смычка после каждых трех-четырех сот стихов; необходимость побегать по коридорам, душу отвести в поучительных разговорах о дожде и снеге, – и все движутся, входят и выходят, и встают и садятся. Все таковы, и я сам таков, и вот что называется публикой! Есть род познания (которым многие кичатся) – искусство угождать ей, то есть делать глупости.
1824—1826
Частные случаи петербургского наводнения
Я проснулся за час перед полднем; говорят, что вода чрезвычайно велика, давно уже три раза выпалили с крепости, затопила всю нашу Коломну. Подхожу к окошку и вижу быстрый проток; волны пришибают к возвышенным троттуарам; скоро их захлеснуло; еще несколько минут, и черные пристенные столбики исчезли в грозной новорожденной реке. Она посекундно прибывала. Я закричал, чтобы выносили что понужнее в верхние жилья (это было на Торговой, в доме В. В. Погодина). Люди, несмотря на очевидную опасность, полагали, что до нас не скоро дойдет; бегаю, распоряжаю – и вот уже из-под полу выступают ручьи, в одно мгновение все мои комнаты потоплены; вынесли, что могли, в приспешную, которая на полтора аршина выше остальных покоев; еще полчаса – и тут во́ды со всех сторон нахлынули, люди с частию вещей перебрались на чердак, сам я нашел убежище во 2-м ярусе, у N. П. – Его спокойствие меня не обмануло: отцу семейства не хотелось показать домашним, чего надлежало страшиться от свирепой, беспощадной стихии. В окна вид ужасный: где за час пролегала оживленная, проезжая улица, катились ярые волны с ревом и с пеною, вихри не умолкали. К театральной площади, от конца Торговой и со взморья, горизонт приметно понижается; оттуда бугры и холмы один на другом ложились в виде неудержимого водоската.
Свирепые ветры дули прямо по протяжению улицы, порывом коих скоро воздымается бурная река. Она мгновенно мелким дождем прыщет в воздухе и выше растет и быстрее мчится. Между тем в людях мертвое молчание; конопать и двойные рамы не допускают слышать дальних отголосков, а вблизи ни одного звука ежедневного человеческого; ни одна лодка не появилась, чтобы воскресить упадшую надежду. Первая – гобвахта какая-то, сорванная с места, пронеслась к Кашину мосту, который тоже был сломлен и опрокинут; лошадь с дрожками долго боролась со смертию, наконец уступила напору и увлечена была из виду вон; потом поплыли беспрерывно связи, отломки от строений, дрова, бревна и доски – от судов ли разбитых, от домов ли разрушенных, различить было невозможно. Вид стеснен был противустоящими домами; я через смежную квартиру П. побежал и взобрался под самую кровлю, раскрыл все слуховые окна. Ветер сильнейший и в панораме пространное зрелище бедствий. С правой стороны (стоя задом к Торговой) поперечный рукав на место улицы между Офицерской и Торговой; далее часть площади в виде широкого залива, прямо и слева Офицерская и Английский проспект и множество перекрестков, где водоворот сносил громады мостовых развалин; они плотно спирались, их с троттуаров вскоре отбивало; в самой отдаленности хаос, океан, смутное смешение хлябей, которые отвсюду обтекали видимую часть города, а в соседних дворах примечал я, как вода приступала к дровяным запасам, разбирала по частям, по кускам и их, и бочки, ушаты, повозки и уносила в общую пучину, где ветры не давали им запружать каналы; всё изломанное в щепки неслось, влеклось неудержимым, неотразимым стремлением. Гибнущих людей я не видал, но, сошедши несколько ступеней, узнал, что пятнадцать детей, цепляясь, перелезли по кровлям и еще неопрокинутым загородам, спаслись в людскую, к хозяину дома, в форточку, также одна (девушка)[25]25
Слово «девушка» прочитано предположительно. – Ред.
[Закрыть], которая на этот раз одарена была необыкновенною упругостию членов. Всё это осиротело. Где отцы их, матери!! Возвратясь в залу к С., я уже нашел, по сравнению с прежним наблюдением, что вода нижние этажи иные совершенно залила, а в других поднялась до вторых косяков 3-х стекольных больших окончин, вообще до 4-х аршин уличной поверхности. Был третий час пополудни; погода не утихала, но иногда солнце освещало влажное пространство, потом снова повлекалось тучами. Между тем вода с четверть часа остановилась на той же высоте, вдали появились два катера, наконец волны улеглись и потоп не далее простер смерть и опустошение; вода начала сбывать.
Между тем (и это узнали мы после) сама Нева против дворца и адмиралтейства горами скопившихся вод сдвинула и расчленила огромные мосты Исакиевский, Троицкий и иные. Вихри буйно ими играли по широкому разливу, суда гибли и с ними люди, иные истощавшие последние силы поверх зыбей, другие на деревах бульвара висели над клокочущей бездною. В эту роковую минуту государь явился на балконе. Из окружавших его один сбросил с себя мундир, сбежал вниз, по горло вошел в воду, потом на катере поплыл спасать несчастных. Это был генерал-адъютант Бенкендорф. Он многих избавил от потопления, но вскоре исчез из виду, и во весь этот день о нем не было вести. Граф Милорадович в начале наводнения пронесся к Екатерингофу, но его поутру не было, и колеса его кареты, как пароходные крылья, рыли бездну, и он едва мог добраться до дворца, откудова, взявши катер, спас нескольких.
Всё, по сю сторону Фонтанки до Литейной и Владимирской, было наводнено. Невский проспект превращен был в бурный пролив; все запасы в подвалах погибли; из нижних магазинов выписные изделья быстро поплыли к Аничкову мосту; набережные различных каналов исчезали и все каналы соединились в одно. Столетние деревья в Летнем саду лежали грядами, исторгнутые, вверх корнями. Ограда ломбарда на Мещанской и другие, кирпичные и деревянные, подмытые в основании, обрушивались с треском и грохотом.
На другой день поутру я пошел осматривать следствия стихийного разрушения. Кашин и Поцелуев мосты были сдвинуты с места. Я поворотил вдоль Пряжки. Набережные железные перилы и гранитные пиластры лежали лоском. Храповицкий[26]26
Мост. – Ред.
[Закрыть] отторгнут от мостовых укреплений, неспособный к проезду. Я перешел через него, и возле дома графини Бобринской, середи улицы очутился мост с Галерного канала; на Большой Галерной раздутые трупы коров и лошадей. Я воротился опять к Храповицкому мосту и вдоль Пряжки и ее изрытой набережной дошел до другого моста, который накануне отправило вдоль по Офицерской. Бертов мост тоже исчез. По пловучему лесу и по наваленным поленам, погружаясь в воду то одной ногою, то другою, добрался я до Матиловых тоней. Вид открыт был на Васильевский остров. Тут, в окрестности, не существовало уже нескольких сот домов; один, и то безобразная груда, в которой фундамент и крыша – всё было перемешано; я подивился, как и это уцелело. – Это не здешние; отсюдова строения бог ведает куда унесло, а это прибило сюда с Ивановской гавани. – Между тем подошло несколько любопытных; иные, завлеченные сильным спиртовым запахом, начали разбирать кровельные доски; под ними скот домашний и люди мертвые и всякие вещи. Далее нельзя было итти по развалинам; я приговорил ялик и пустился в Неву; мы поплыли в Галерную гавань; но сильный ветер прибил меня к Сальным буянам, где, на возвышенном гранитном берегу, стояло двухмачтовое чухонское судно, необыкновенной силою так высоко взмощенное; кругом поврежденные огромные суда, издалека туда заброшенные. Я взобрался вверх; тут огромное кирпичное здание, вся его лицевая сторона была в нескольких местах проломлена, как бы десятком стенобитных орудий; бочки с салом разметало повсюду; у ног моих черепки, луковица, капуста и толстая связанная кипа бумаг с надписью: «‡ 16, февр. 20. Дела казенные».
Возвращаясь по Мясной, во втором доме от Екатерингофского проспекта заглянул я в нижние окна. Три покойника лежало уже, обвитые простиралами, на трех столах. Я вошел во внутренний двор, – ни души живой. Проникнул в тот покой, где были усопшие, раскрыл лица двоих; пожилая женщина и девочка с открытыми глазами, с оскаленными белыми зубами; ни малейшего признака насильственной смерти. До третьего тела я не мог добраться от ужаснейшей наносной грязи. Не знаю, трупы ли это утопленников или скончавшихся иною смертию. На Торговой, недалеко от моей квартиры, стоял пароход на суше.
Необыкновенные события придают духу сильную внешнюю деятельность; я не мог оставаться на месте и поехал на Английскую набережную. Большая часть ее загромождена была частями развалившихся судов и их груза. На дрожках нельзя было пробраться; перешед с половину версты, я воротился; вид стольких различных предметов, беспорядочно разметанных, становился однообразным; повсюду странная смесь раздробленных <…>[27]27
Недописано. – Ред.
[Закрыть]
Я наскоро собрал некоторые черты, поразившие меня наиболее в картине гнева рассвирепевшей природы и гибели человеков. Тут не было места ни краскам витийственности, от рассуждений я также воздерживался: дать им волю, значило бы поставить собственную личность на место великого события. Другие могут добавить несовершенство моего сказания тем, что сами знают; г-да Греч и Булгарин берутся его дополнить всем, что окажется истинно замечательным, при втором издании этой тетрадки, если первое скоро разойдется и меня здесь уже не будет.
Теперь прошло несколько времени со дня грозного происшествия. Река возвратилась в предписанные ей пределы; душевные силы не так скоро могут притти в спокойное равновесие. Но бедствия народа уже получают возможное уврачевание; впечатления ужаса мало-помалу ослабевают, и я на сем останавливаюсь. В общественных скорбях утешен мыслию, что посредством сих листков друзья мои в отдаленной Грузии узнают о моем сохранении в минувшей опасности, и где ныне нахожусь, и чему был очевидцем.
Ноябрь 1824
Загородная поездка
Отрывок из письма южного жителя
На высоты! на высоты! Подалее от шума, пыли, от душного однообразия наших площадей и улиц. Куда-нибудь, где воздух реже, откуда груды зданий в неясной дали слились бы в одну точку, весь бы город представил из себя центр отменно мелкой, ничтожной деятельности, кипящий муравейник. Но куда же вознестись так высоко, так свободно из Петербурга? – в Парголово.
В полдень, 21-го июня, мы пустились по известной дороге из Выборгской заставы. Не роскошные окрестности! Природа с великим усилием в болоте насадила печальные ели; жители их выжигают. Дымный запах, бледное небо, скрипучий песок – всё это не располагает странников к приятным впечатлениям. Подымаемся на пригорок и на другой (кажется, на шестой версте); лошадям тяжело, но душе легче, просторнее. Отсюда взор блуждает по бесконечной поверхности лесной чащи. Те же ели, но под скудною тенью их редких ветвей, в их тощей зелени, в бездушных иглах нет отрады, теперь же, с крутизны холма, пирамидальные верхи их сглажены, особенности исчезли; под нашими ногами засинелся лес одной полосой, далеко протяженною, и вид неизмеримости сообщает душе гордые помышления. – В сообществе равных нам, высших нас, так точно мы, ни ими, ни собою не довольные, возносимся иногда парением ума над целым человечеством, и как величественна эта зыбь вековых истин и заблуждений, которая отовсюду простирается далеко за горизонт нашего зрения!
Другого рода мысли и чувства возбуждает, несколько верст далее, влево от большой дороги, простота деревенского храма. Одинок, и построен на разложистом мысе, которого подножие омывает тихое озеро; справа ряд хижин, но в них не поселяне. Нежная белизна красавиц и торопливость их услужников напоминают… не знаю именно, о чем; но здесь они менее озабочены чинами всякого рода.
Вот и край наших желаний. Всё выше и выше, места картинные: мирные рощи, дубы, липы, красивые сосны, то по нескольку вместе стоят среди спеющей нивы, то над прудом, то опоясывают собою ряд холмов; под их густою сению дорога завивается до самой вершины, – доехали.
Тут всякий спешит на дерновую площадку, на которую взбегают уступами, со стороны сада. Сквозь расчищенный просек виднеются вдали верхи башен петербургских. Так рассказывают, но мы ничего не видали. Наше зрелище ограничивалось тем живописным озером, мимо которого сюда ехали; далее всё было подернуто сизыми парами; и вот одно ожидание рушилось, как идея поэта часто тускнеет при неудачном исполнении. В замену изящной отдаленности, мы любовались тем, что было ближе. Под нами, на берегах тихих вод, в перелесках, в прямизнах аллей, мелькали группы девушек; мы пустились за ними, бродили час, два; вдруг послышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские, с того же возвышения, где мы прежде были. Родные песни! Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги? – Приходим назад: то место было уже наполнено белокурыми крестьяночками в лентах и бусах; другой хор из мальчиков; мне более всего понравились двух из них смелые черты и вольные движения. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полу-европейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико всё, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами, а народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами.
Песни не умолкали; затянули: Вниз по матушке по Волге; молодые певцы присели на дерн и дружно грянули в ладоши, подражая мерным ударам весел; двое на ногах оставались: Атаман и Есаул. Былые времена! как живо воскрешает вас в моей памяти эта народная игра: тот век необузданной вольности, в который несколько удальцов бросались в легкие струги, спускались вниз по протоку Ахтубе, по Бузан-реке, дерзали в открытое море, брали дань с прибрежных городов и селений, не щадили ни красоты девичьей, ни седины старческой, а, по словам Шардена, в роскошном Фируз-Абате угрожали блестящему двору шаха Аббаса. Потом, обогатясь корыстями, несметным числом тканей узорчатых, серебра и золота, и жемчуга окатного, возвращались домой, где ожидали их любовь и дружба; их встречали с шумною радостью и славили в песнях.
Время длилось. Северное летнее солнце, как всегда перед закатом, казалось неподвижно; мой товарищ предложил мне пуститься верхом, еще подалее, к другой цепи возвышений. Сели на лошадей, которые здесь сродни горным мулам, но из нашей поездки ничего не вышло, кроме благотворного утомления для здоровья. Дым от выжженных и курившихся корней носился по дороге. Солнце в этом мраке походило на ночное светило. Возвратились опять в Парголово; оттуда в город. Прежнею дорогою, прежнее уныние. К тому же суровость климата! При спуске с одного пригорка мы разом погрузились в погребной, влажный воздух; сырость проникала нас до костей. И чем ближе к Петербургу, тем хуже: по сторонам предательская трава; если своротить туда, тинистые хляби вместо суши. На пути не было никакой встречи, кроме туземцев финнов; белые волосы, мертвые взгляды, сонные лица!
Июнь 1826


