Вечерний свет
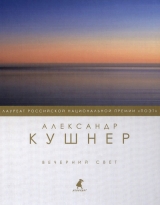
Текст книги "Вечерний свет"
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Платформа
Промелькнула платформа пустая, старая,
Поезда не подходят к ней, слой земли
Намело на нее, и трава курчавая,
И цветочки лиловые проросли,
Не платформа, а именно символ бренности
И заброшенности, и пленяет взгляд
Больше, чем антикварные драгоценности:
Я ведь не разбираюсь в них, виноват.
Где-нибудь в Нидерландах или Германии
Разобрали б такую, давно снесли,
А у нас запустение, проседание,
Гнилость, ржавчина, кустики, пласт земли
Никого не смущают, – цвети, забытая
И ненужная, мокни хоть до конца
Света, сохни, травой, как парчой, покрытая,
Ярче памятника и пышней дворца!
«Художник напишет прекрасных детей…»
С. В. Волкову
Художник напишет прекрасных детей,
Двух мальчиков-братьев на палубной кромке
Или дебаркадере. Ветер, развей
Весь мрак этой жизни, сотри все потемки.
В рубашечках белых и синих штанах,
О, как они розовы, черноволосы!
А море лежит в бледно-серых тонах
И мглисто-лиловых… Прелестные позы:
Один оглянулся и смотрит на нас,
Другой наглядеться не может на море.
Всегда с ними ласкова будь, как сейчас,
Судьба, обойди их, страданье и горе.
А год, что за год? Наклонись, посмотри,
Какой, – восемьсот девяносто девятый!
В семнадцатом сколько им лет, двадцать три,
Чуть больше, чуть меньше. Вздохну, соглядатай,
Замру, с ними вместе глядящий на мел
И синьку морскую, и облачность эту…
О, если б и впрямь я возможность имел
Отсюда их взять на другую планету!
«Венеция, не умирай, не надо!..»
Венеция, не умирай, не надо!
Переживи нас всех и напиши о нас
Винтами на воде, как ты была нам рада,
С приезжих не сводя своих зеленых глаз.
Как любовались мы твоим полураспадом,
Притопленный ценя твой мрамор и кирпич,
И смерть была такой прекрасной с нами рядом,
Что в руки взять ее хотелось и постичь.
Нисколько не боясь, вникая в закоулки,
С канала на канал легко переходя,
С моста на мост, как бы найдя в твоей шкатулке
Не страшную ничуть разгадку бытия.
«Как горит на закате…»
Как горит на закате
Крепостная стена,
Как уложена кстати
Кирпичами она!
С кирпичом не сравнится
Ни один матерьял,
Так он влажно лоснится,
Так он сумрачно-ал!
И в Венеции дожи
Поощряли кирпич,
И Манчестера тоже
Без него не постичь.
О, фабричные стены,
Как пылаете вы
Кирпичом откровенным
В ответвленьях Невы!
И гранита не надо,
Мрамор здесь ни при чем
В этих отсветах ада
С райским призвуком в нем.
«Корсика, Эльба и остров Святой Елены…»
Корсика, Эльба и остров Святой Елены,
Как они украшают Наполеона!
Больше, чем взятые им крепостные стены,
Жарче Египта и ярче любого трона.
Он и похож был на остров, покатоплечий,
Маршалов словно волною к нему прибило.
Ядрам не кланяясь и не страшась картечи.
А треуголка на Корсику походила.
И не дворцы, не кремли за его плечами
Видятся мне, а морские крутые скалы.
Бухтами он обведен, словно обручами,
Горными тропами: камни, кусты, провалы.
Как ему шло одиночество островное,
Так же, как слава, и даже еще сильнее!
Пенное, белое, желтое, кружевное,
Скорбный финал обвалившейся эпопеи.
Нет ничего притягательнее крушений,
Слаще руин и задумчивости глубокой
На безутешных обломках былых свершений,
Кто ж избежал той же участи одинокой?
У моря
С тяжелой женой в три обхвата
Спускается к морю старик.
Несчастна она, виновата,
Что вид ее страшен и дик.
Действительно, лучше бы дома
Сидела, зачем ей жара
И влажная эта истома,
И в море купанье с утра?
Купальник врезается в складки
На теле, как в студень сырой.
Но он молодец, всё в порядке,
Он помнит ее молодой.
Быть может, чуть-чуть полноватой,
Но полной веселья и сил.
Завистник какой, соглядатай,
Насмешник ее подменил?
Привязанность, скажем, и память,
Не цепь, будем думать, не сеть.
И лучше их так и оставить
Вдвоем и на них не смотреть.
«Супружеская пара. Терракота…»
Супружеская пара. Терракота.
Она и он. Этрусская гробница.
Не торопи меня. Мне грустно что-то.
А в то же время как не изумиться?
Не видно скорби. Что же это, что же?
Как будто даже рады нам с тобою.
Полулежат они на жестком ложе,
Как две волны, как бы фрагмент прибоя.
Как будто в жизнь могли бы возвратиться,
На берег выйти, смерть стряхнуть, как пену.
Как больно мне в их вглядываться лица!
Как будто мы пришли им на замену.
И так понятно мне, что ненадолго,
Что все века мучительны и зыбки.
Нужна замена, смерть нужна, прополка.
Когда б не эти две полуулыбки!
«Как с морем жаль бывает расставаться…»
Как с морем жаль бывает расставаться,
Как на пути обратном, – путь пролег
Средь горных круч, – в автобусе томятся,
И вдруг его лазурный уголок
Блеснет внизу, как сказанное вкратце,
Как быстрый взгляд, привет или намек.
И снова горы в тусклой позолоте,
В густой щетине сосен и дубов,
И тень, и тьма, – и вдруг на повороте
Опять жемчужный клин, как дальний зов,
Как часть души, как счастье на отлете,
Страна любви, пристанище богов.
Прощай, прощай! Последнее прощанье,
Горячий вздох, любимая мечта.
Наверное, так пишут завещанье
И произносят слово «навсегда»,
Но синий проблеск, есть в нем обещанье,
И «нет» сказав, надеешься, что «да».
3
Разговор с циклопом
Глубокоуважаемый циклоп!
Пожалуйста, в сторонку отойдите,
Вы в дрожь меня вгоняете, в озноб,
Вы в плесени пещерной, в жутком виде,
И почему-то глаз у вас на лоб
Посажен, это странно, извините.
У вас я оказался под рукой
Случайно – и прошу у вас прощенья.
Ведь вы на самом деле не такой,
Как кажетесь, вам мнительность и мщенье
Наскучили, спросите: «Кто такой?»
Скажу: «Никто», потупившись в смущенье.
Почиститесь, помойтесь, лучше врозь
Нам быть, зачем вам этот гнев и злоба?
Смотрите, как просвечен куст насквозь
И к солнцу льнут цветы гелиотропа…
О, если б ужас жизни удалось
Уговорить мне так же, как циклопа!
«Что случилось? – спросил я его вдову…»
Что случилось? – спросил я его вдову,
Неполадка какая-то в организме?
Иль тяжелой поездка была в Москву?
– Нет, – сказала, – он просто устал от жизни.
Говорил он мне это не раз, не два,
Не рисуясь, обдуманно и устало.
Мне бы вдуматься в эти его слова!
Я значенья им как-то не придавала.
А ведь всё было так хорошо. Успех
Поздновато пришел, но пришел, спасибо.
Говорил про унынье, что это грех,
За окном ему нравились клен и липа.
Я в окно посмотрел: что за благодать!
Солнце, дерево, в листья зарылся ветер, —
Боже мой, разве можно от них устать?
Значит, можно устать. От всего на свете.
«Очки должны лежать в футляре…»
Очки должны лежать в футляре,
На банку с кофе надо крышку
Надеть старательно, фонарик
Запрятан должен быть не слишком
Глубоко меж дверей на полке,
А Блок в шкафу с Андреем Белым
Стоять, где нитки – там иголки,
Всё под присмотром и прицелом.
И бедный Беликов достоин
Не похвалы, но пониманья.
Каренин тоже верный воин.
В каком-то смысле мирозданье
Они поддерживают тоже,
Дотошны и необходимы,
И хорошо, что не похожи
На тех, кто пылки и любимы.
«Представляешь, там пишут стихи и прозу…»
С. Лурье
Представляешь, там пишут стихи и прозу.
Представляешь, там дарят весной мимозу
Тем, кого они любят, – сухой пучок
С золотистыми шариками, раскосый,
С губ стирая пыльцу его и со щек.
Представляешь, там с крыльями нас рисуют,
Хоровод нам бесполый организуют
Так, как будто мы пляшем в лучах, поем,
Ручку вскинув и ножку задрав босую,
На плафоне резвимся – не устаем.
Представляешь, там топчутся на балконе
Ночью, радуясь звездам на небосклоне, —
И всё это на фоне земных обид
И смертей, —
с удивленьем потусторонним
Ангел ангелу где-нибудь говорит.
«Разговор ни о чем в компании за столом…»
Разговор ни о чем в компании за столом
Утомляет, какие-то шутки да прибаутки:
Так в спортзале с ленцой перебрасываются мячом,
Так покрякивают, на пруду собираясь, утки.
Хоть бы кто-нибудь что-нибудь стоящее сказал,
Вразумительное, – возразить ему, согласиться!
Для того ли наполнен и выпит до дна бокал,
Чтобы вздор этот слушать весь вечер, – ведь я не птица.
Я хотел бы еще раз о жизни поговорить,
О любви или Шиллере – как обветшал он, пылкий,
Потому что два века не могут не охладить
Романтический пыл, – и к другой перейти бутылке.
«Услужлив, узок, как пенал…»
Услужлив, узок, как пенал,
Хитер, усидчивостью взял,
Погладить моську рад чужую.
Сказала Софья, он смолчал:
Шел в комнату, попал в другую.
И нам в конце концов плевать,
Какую сделает опять
Он подлость, – сырость в нем и плесень —
Но фраза – что за благодать!
Одна из лучших в старой пьесе.
С ней, прихотливой, легче жить.
О чем жалеть? Зачем грустить?
И всем ее рекомендую.
Умрешь – и вспомнишь, может быть:
Шел в комнату – попал в другую.
Немецкая сказка
Это в старой сказке было важно,
Что в чужом томится котелке
На плите и хлюпает протяжно,
Что несут в котомке, в узелке.
Что у них подсохло, что намокло
И о чем под вечер говорят.
Не хочу смотреть в чужие окна,
Видеть женский торс или наряд.
Это там, в тени средневековой
Узких улиц, в чудной тесноте
За чужой покупкой и обновой
Взгляд следил, потворствуя мечте.
Сватовство, кокетство, волокитство,
Мотовство, ребячество и блуд.
У меня большого любопытства
К людям нет, все как-нибудь живут.
Хороши пространства и просторы,
В отношеньях легкий холодок.
Я люблю, когда на окнах шторы
И людей не видит даже Бог.
Портрет
Не заноситься – вот чему
Портрет четвертого Филиппа
Нас учит, может быть, ему
За это следует спасибо
Сказать; никак я не пойму
Людей подобного пошиба.
Людей. Но он-то ведь король,
А короли какие ж люди?
Он хорошо играет роль
Бесчеловечную по сути.
Ты рядом с ним букашка, моль,
Он смотрит строго и не шутит.
Всё человеческое прочь
Убрал Веласкес из портрета.
Усы, как веточки точь-в-точь,
Уходят вверх, – смешно же это?
Нет, не смешно! И ночь есть ночь,
Дневного ей не надо света.
И власть есть власть, и зло есть зло,
Сама тоска, сама надменность.
Из жизни вытекло тепло,
Забыта будничность и бренность.
Он прав, когда на то пошло.
Благодарю за откровенность!
«Дождь не любит политики, тополь тоже…»
Дождь не любит политики,
тополь тоже,
Облака ничего про нее не знают.
Ее любят эксперты и аналитики,
До чего ж друг на друга они похожи:
Фантазируют, мрачные, и вещают,
Предъявляют пружинки ее и винтики,
Видно, что ничего нет для них дороже.
Но ко всем новостям, завершая новости,
Эпилогом приходит прогноз погоды,
И циклоны вращают большие лопасти,
Поднимается ветер, вспухают воды,
Злоба дня заслоняется мирозданием,
И летит, приближаясь к Земле, комета
То ль с угрозою, то ли с напоминанием,
Почему-то меня утешает это.
«Отгородясь от мира ясенем…»
Отгородясь от мира ясенем,
Кипящим за моим окном,
Как будто с чем-то не согласен я
И помышляю об ином,
Но под живой его защитою,
Как за зеленою стеной,
Я не срываюсь, не завидую,
Не рвусь, как воин, в вечный бой.
Я счастлив лиственным кипением,
Зеленым дымом без огня.
И Блок, наверное, с презрением
Посматривает на меня,
Но вечный бой, и гнев, и взвинченность
Ведут к такой большой беде,
Что лучше слабость, половинчатость,
Несоответствие мечте.
На Большом проспекте
Большой проспект году в сорок седьмом
Представь себе – и станет страшновато
Не потому, что старый гастроном
Вернется, а давно исчез куда-то,
Не потому, что вырубленный сквер
Зашелестит опять, ведь это чудно,
Не потому, что мальчик-пионер
Тебя смутит – узнать его нетрудно,
Не потому, что праздничный портрет:
Усы, мундир, погоны на мундире,
Два этажа собою занял, свет
Затмив кому-то на три дня в квартире,
А потому, что все, почти что все,
Идущие по делу и без дела
В загадочности взрослой и красе
Лениво, быстро, робко или смело
В привычной для проспекта полумгле,
Он узок, как гранитное ущелье, —
Их никого нет больше на земле,
Нет никого, какое ж тут веселье?
«Разве мы виноваты в почтовых своих адресах…»
А. В. Кулагину
Разве мы виноваты в почтовых своих адресах,
В том, что улицы наши имеют такие названья?
В городке под Москвой – Карла Либкнехта, словно впотьмах
Выбирали его неизвестно кому в назиданье.
Коминтерна, и Стойкости, улица Красных Ткачей,
И проспект Октября, и, ужасно подумать, Культуры!
Что мы сделали здесь из единственной жизни своей?
Ночью звезды недаром над нами так скупы и хмуры.
И стесняется глупого адреса наш адресат,
Выводя аккуратно и четко его на конверте,
Но с таким отвращеньем, как будто и впрямь виноват,
Что преследовать будет его этот адрес до смерти.
Новая Земля
Какое чудное названье,
Подумай, – Новая Земля!
Когда б не тундра, не зиянье,
Не ледовитое дыханье,
А летний зной и тополя!
Топонимическая шутка,
Насмешка, смыслу вопреки?
Представь, как вьюга воет жутко,
Торчат торосы, как клыки.
Какое чудное названье!
Кто, в экспедиции какой
Его придумал в оправданье
Мечты несбыточной, земной?
А там еще и Мыс Желанья
Есть, Мыс Желанья, боже мой!
«Любимый прозаик считал, что Паскаля…»
Любимый прозаик считал, что Паскаля
Неплохо читать и печатать в газете,
Газеты бы сразу разумнее стали,
За Бога и жизнь пребывая в ответе,
А в книгах с обрезом златым, как пыльцою
Покрытых, на верхней хранящихся полке,
Газетные новости лучше с ленцою
Читать, объявления и кривотолки.
«Когда судьба тебе свою ухмылку…»
Когда судьба тебе свою ухмылку
Предъявит или черную печать,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти Шаламова опять.
И пустяком покажется обида,
И ерундой вчерашняя напасть,
Еще чуть-чуть поморщишься для вида,
Но обретешь свою над ними власть.
И вспомнишь речку, рощу или море,
Еще печенье в шкафчике найдешь
И скажешь: это горе всё не горе,
И мрак в душе не мрак, и дрожь не дрожь.
«Слово „весел“, „веселый“, „веселье“…»
Слово «весел», «веселый», «веселье»
Повторяется, я подсчитал,
Раз пятнадцать – то рядом с метелью,
То с камином, то это бокал
На пиру, то на крону лесную
Посмотрел, то примерил коньки,
То в скульптурную он мастерскую
Заглянул и замедлил шаги.
Что же мы, замыкаясь сурово
И угрюмости мрачной верны,
Так стесняемся этого слова,
Словно нет ни зимы, ни весны,
Словно что-то такое о жизни
Знаем нынче, чего он не знал,
Не бывал ни в беде, ни на тризне,
И не мыслил, и слез не глотал?
«Из письма я узнал о чужом несчастье…»
Из письма я узнал о чужом несчастье.
Неужели в стихах напишу об этом?
Буду рифму искать? Окажусь во власти
Слов, согласных смириться с таким сюжетом?
Разбегайтесь, слова, отвернитесь в страхе,
Откажитесь, в глубокую тень зайдите,
Станьте пеплом, залягте в пыли и прахе,
Перепутайте все смысловые нити.
Это хуже предательства. Это скупка
И продажа, трюкачество и паденье,
Что-то вроде бессовестного поступка,
И не надо такого стихотворенья.
«– Уж если умирать, то осенью, – сказали…»
– Уж если умирать, то осенью, – сказали.
Случайно я чужой подслушал разговор.
Хотелось уточнить, в конце или в начале
Осенних дней, но я прошел, потупив взор
И не взглянув на них: вопрос задать неловко.
Наверное, в конце, в слезливом ноябре
С опавшею листвой. Была бы жеребьёвка,
Я вылез бы тайком на свет, как мышь-полёвка,
За жребием в сырых подтёках на коре.
В преддверии зимы, среди травы пожухлой
И прутьев, на трухе и слякоти скользя,
С лежащей под кустом забытой детской куклой,
Разбухшей под дождем, непоправимо-пухлой.
А летом умирать или весной нельзя!
«В импрессионизме милосердия…»
В импрессионизме милосердия
Столько, сколько радости и света…
Розоватым воздухом бессмертия
Подышу – так нравится мне это.
Есть ли смерть? – спрошу французских лодочников,
Лодочники скажут: смерти нету.
Я ответ их внятный, установочный
Рад принять за чистую монету.
Потому что завтрак продолжается
Вместе с поцелуями и смехом,
И всё это где-то отражается
В небесах каким-то вечным эхом.
Потому что ближе человечество
Никогда уже не подходило
К раю близко так: не надо жречества,
Дьякона не надо и кадила,
Потому что солнцем лучше лечится
Всё, что на земле страданьем было.
«Питер де Хох оставляет калитку открытой…»
Питер де Хох оставляет калитку открытой,
Чтобы Вермеер прошел в нее следом за ним.
Маленький дворик с кирпичной стеною, увитой
Зеленью, улочка с блеском ее золотым!
Это приём, для того и открыта калитка,
Чтобы почувствовал зритель объём и сквозняк.
Это проникнуть в другое пространство попытка, —
Искусствовед бы сказал приблизительно так.
Виден насквозь этот мир – и поэтому странен,
Светел, подробен, в проёме дверном затенён.
Ты горожанка, конечно, и я горожанин,
Кажется, дом этот с давних я знаю времен.
Как безыдейность мне нравится и непредвзятость,
Яркий румянец и вышивка или шитье!
Главная тайна лежит на поверхности, прятать
Незачем: видят и словно не видят ее.
Скоро и мы этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли, что мы расскажем о нем?
Смысл в этом желтом, – мы скажем, – кирпичном и синем,
И в белокожем, и в лиственном, и в кружевном!
4
«Пока Сизиф спускается с горы…»
Пока Сизиф спускается с горы
За камнем, что скатился вновь под гору,
Он может отдохнуть от мошкары,
Увидеть всё, что вдруг предстанет взору,
Сорвать цветок, пусть это будет мак,
В горах пылают огненные маки,
На них не налюбуешься никак,
Шмели их обожают, работяги,
Сочувствующие Сизифу, им
Внушает уваженье труд Сизифа;
Еще он может морем кружевным
Полюбоваться с пеною у рифа,
А то, что это всё в стране теней
С Сизифом происходит, где ни маков,
Ни моря нет, неправда! Нам видней.
Сизиф – наш друг, и труд наш одинаков.
«Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная…»
Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная, —
Это значит, что грекам жилось неплохо.
Подгоняла триеру волна морская,
В ней сидели гребцы, как в стручке гороха.
Налегай на весло, ничего, что трудно,
В порт придем – отдохнет твоя поясница.
А в краях залетейских мерцает скудно
Свет и не разглядеть в полумраке лица.
Я не знаю, какому еще народу
Так светило бы солнце и птицы пели,
А загробная, тусклая жизнь с исподу
Представлялась подобием узкой щели!
Как сказал Одиссею Ахилл, в неволе
Залетейской лишенный огня и мощи,
На земле хорошо, даже если в поле
Погоняешь вола, как простой подёнщик.
Так кому же мне верить, ему, герою,
Или тем, кто за смертной чертой последней
Видит царство с подсветкою золотою,
В этой жизни как в тесной топчась передней?
«Что Вергилий про воду в ведре и про лунный луч…»
Что Вергилий про воду в ведре и про лунный луч
Или солнечный в темном, наверное, помещенье
Написал: к потолку прилепляется, как сургуч,
И дрожит, и мерцает чудесное отраженье.
Этот отблеск порхает, скользит, умиляет взгляд
И, резьбу потолочную сделав волнообразной,
Ходит по потолку, словно призрак, вперед, назад,
Драгоценный, колышется, дышит во тьме, алмазный.
Медь ведра и вода в нем, под ярким лучом дрожа,
Демонстрируют на потолке торжество побега.
Разреши мне, Вергилий, добавить, что есть душа
У материи тоже, не только у человека.
«А теперь он идет дорогой темной…»
Джону Малмстаду
А теперь он идет дорогой темной
В ту страну, из которой нет возврата, —
Было сказано с жалобою томной
Про воробышка, сдохшего когда-то.
Плачьте, музы! Но, может быть, дороги
Той не следует нам бояться слишком,
Если даже воробышек убогий
Проскакал раньше нас по ней вприпрыжку.
Проскакал – и назад не оглянулся,
Тенью стал – и мы тоже станем тенью.
Мне хотелось бы, чтобы улыбнулся
Тот, кто будет читать стихотворенье.
«Англии жаль! Половина ее населенья…»
Англии жаль! Половина ее населенья
Истреблена в детективах. Приятное чтенье!
Что ни роман, то убийство, одно или два.
В Лондоне страшно. В провинции тоже спасенья
Нет: перепачканы кровью цветы и трава.
Кофе не пейте: в нем ложечкой яд размешали.
Чай? Откажитесь от чая или за окно
Выплесните, только так, чтобы не увидали.
И, разумеется, очень опасно вино.
Лучше всего поменять незаметно бокалы,
Пить из чужого, подсунув хозяину свой.
Очень опасны прогулки вдоль берега, скалы;
Лестницы бойтесь, стоящей в саду, приставной.
Благотворительных ярмарок с пони и тиром,
Старого парка в его заповедной красе.
Может быть, всё это связано как-то с Шекспиром:
В «Гамлете» все перебиты, отравлены все.
Епископ
Викторианская эпоха.
Епископ – праздничный наряд —
Но прорисован как-то плохо,
Иль общий сумрак виноват?
С батистовыми рукавами,
Как важный сан его велит,
Как будто недоволен нами,
Высокомерен и сердит.
Но есть какая-то стыдливость,
Неловкость в том, как он ладонь
На книге держит, – что случилось? —
Как будто руку жжет огонь,
Сомненье чудится, обида,
Отсюда мглистость и туман;
Или «Происхожденье видов»
Прочел, тайком от прихожан?
«Как выточен, как выпучен…»
Как выточен, как выпучен,
Похож на звероящера
Пузатый стол гостиничный
С его пустыми ящиками!
Пустоты деревянные,
Бессмысленные полости
С расчетом на пространные
Потерянные повести.
О, если бы из ящика
Извлечь чужую рукопись
Забытую, шуршащую
От времени и сухости.
Назвался бы издателем
Шедевра неизвестного
И удружил читателям
Скупого века пресного.
«Таманью» или «Вертером»,
Но с новой подоплекою,
Любовное поветрие
Связав с тоской глубокою.
Пускай влечет рассказчика
Стол, внутренность рассохлая.
Чур! Револьвера в ящике
Нет, – только муха дохлая.
«Когда листва, как от погони…»
Когда листва, как от погони,
Бежит и ходит ходуном,
Как в фильме у Антониони
И у Тарковского потом,
Я отвести не в силах взгляда,
Такая это мгла и свет,
И даже фильмов мне не надо, —
Важна листва, а не сюжет.
Когда б на каннском фестивале,
Припомнив всю тоску и боль,
Ей, буйной, премию давали
За ею сыгранную роль,
Как это было б справедливо!
Она б раскланялась, опять
Фрагмент кипенья и надрыва
Сумев так чудно показать.








