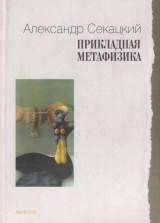
Текст книги "Прикладная метафизика"
Автор книги: Александр Секацкий
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В отличие от бройлеров, верхняя прослойка российского бизнес-сообщества (собиратели первоначальных капиталов и инициаторы ответственных решений, способные отвечать за базар) к похлебке из гузок Буша относится с презрением. Они исповедуют корпоративную философию братвы, своего рода криминальный экзистенциализм, где ключевыми терминами являются «фарт», «пруха», «за падло» и другие емкие понятия из сферы конкретно-всеобщего. Криминальный экзистенциализм практически не исследован, что даже странно, учитывая его несомненную близость к внутренней философии. Духовная нива братвы еще ждет неутомимых путешественников.
Наконец, любопытную и перспективную для исследования нишу представляет собой «философия зеленых», куда перекочевало немало прежних стражей духовности. Но ее, конечно, лучше изучать в Европе, где эта несобственная философия вошла в свою высшую и последнюю стадию, в стадию экологического маразма – что и позволило ей стать господствующим мировоззрением.
ВЫБОР ВАМПИРА
Заставка
Сегодня знакомство с ними начинается, как правило, с киноэкрана. Вампиры – так называются существа, прокусывающие горло или впивающиеся в кожу, чтобы испить крови. С образом вампира связана более или менее устойчивая атрибутика: клыки, ногти-когти, связки чеснока и осиновый кол.
Следует признать, что кинематограф сделал вампира одним из героев современности – от «Носферату» до «Интервью с вампиром» сотни фильмов выстроены вокруг влекущей к себе фигуры, чье бытие нас чем-то глубоко волнует. Чем? В соответствии с принципом остранения В. Шкловского хотелось бы спросить: почему столь существенна разница между двумя дискретными фирменными приемами – с одной стороны, персонаж Стивена Сигала, в каждом фильме особым эффектным движением ломающий конечность своему противнику, и с другой – обобщенный персонаж, впивающийся зубами в живую человеческую плоть? Почему в первом случае речь идет о нюансе, а во втором – об особой манифестации сущего, пугающей и одновременно манящей?
Кинематограф изъял вампира из задворков культуры, пусть даже посредством маргинального киножанра. Только за последние десятилетия Роман Полански, Коппола, Тарантино с Родригесом и ряд других известных режиссеров отдали должное вампириософской тематике, и флер иронической стилизации не должен вводить в заблуждение – речь идет о повороте к достаточно серьезным исследованиям, венцом которых на сегодняшний день является книга Джелала Тауфика[1]1
Taufic J. Vampires. Berkley, 1994.
[Закрыть].
Выбор аспектов
Исключительно важным представляется угол рассмотрения проблемы. В зависимости от того, будет ли задействована антропология, культурология или семиотика (например, семиотика кино), рассмотрение может получиться более или менее содержательным. От сделанного выбора зависит и научный статус исследования – что весьма существенно для столь необычного предмета.
Учитывая как раз необычность поля исследования, лучше всего выбрать самый радикальный ход. В некоем предельном аспекте рассмотрения вампир будет фигурировать как метафизическая конструкция, которая, будучи активизированной, несет в себе свой собственный метод. Не как сущее, рассматриваемое извне и наделяемое в зависимости от точки обзора набором региональных признаков, а как центр возможной рефлексии, движущийся наблюдательный пункт, позволяющий фиксировать не только исходящие, но и входящие впечатления. Семиотика, фольклористика, отголоски исторических преданий Трансильвании и Валахии – все это приобретает совсем иной смысл, если всматриваться через собственную смещенную оптику вампира. Датчики тепловизора способны зафиксировать контуры иной, непривычной метафизики, не говоря уже об очертаниях социальнопсихологической ниши, исторически меняющейся (порой до неузнаваемости) среды обитания. Лучшим исследовательским девизом здесь могут быть приспособленные к случаю слова Флобера: «Носферату – это я!»
Поправка на кровь
Источником многих заблуждений в интересующем нас вопросе служит излишнее внимание, уделяемое Трансильвании. Нагромождение этнографических подробностей искажает суть дела. В качестве альтернативного подступа к феномену вампиризма можно рассмотреть, например, фрагмент из японского военного трактата XIV века. Речь идет о подготовке будущих воинов.
«Обучение в начальной группе не следует растягивать более чем на месяц, ибо дальнейшее обучение может оказаться попросту бесполезным без решающей проверки. Проверкой же служит поединок, предусматривающий обязательное пролитие крови. В ходе такого поединка наставник и определяет пригодность к дальнейшим занятиям. Ученики, не теряющие самообладания при кровопролитии, допускаются к дальнейшему обучению, и их отбор осуществляется на следующих этапах. Ряд учеников испытывают при виде крови прилив энтузиазма и наилучшим образом используют полученные навыки – их наставник берет на заметку как кандидатов в хорошие воины. Другие, напротив, чувствуют внезапную слабость и оказываются не в состоянии применить приемы, которыми уже овладели. Таковые дальнейшему обучению не подлежат, ибо шанса стать воинами у них нет»[2]2
Hounuki S. Guides for Warriers. Boston, 1974. P. 376–377. Hounuki S. Guides for Warriers. Boston, 1974. P. 376–377.
[Закрыть].
Процитированный фрагмент текста вводит чрезвычайно важную маркировку – поправку на кровь', введенная поправка, в свою очередь, указывает на некую пропасть, разделяющую смертных. По одну сторону разделительной черты остаются хронически мирные люди (каким бы вздорным характером они ни обладали), по другую – способные откликнуться на зов, преодолевающий телесную разобщенность смертной природы. О них, по преимуществу, и пойдет речь в дальнейшем.
Решающая роль поправки на кровь известна, можно сказать, капралам всего мира. Она лежит в основе воинской инициации и не слишком зависит от имеющихся арсеналов оружия или концепций строительства вооруженных сил. Некоторая обыденность и в то же время недоговоренность относительно важнейшей инициации препятствует широким сущностным сопоставлениям; в фильмах трансляция вампиризма обычно опосредуется укусом – выбран и освоен лишь один из многих фольклорных вариантов. Тем самым кино, будучи едва ли не единственным видеорядом вампирического в современной культуре, утвердило особую компактную атрибутику, включая неизменные в основных чертах правила игры. Роль Голливуда в интересующем нас вопросе оказывается двойственной: с одной стороны, его кинопродукция не дает изгладиться из памяти важному, если не сказать важнейшему, напоминанию. С другой – визуализация вампира прочно увязывается с посторонними, иногда абсолютно случайными атрибутами.
Таким образом, мы имеем перед собой двоящийся объект исследования: яркий кинообраз перекрывает свой экзистенциальный и антропологический прообраз, возможно, в замаскированном виде благополучно существующий среди нас, смертных. Эту двойственность, иногда помогающую исследованию, а иногда сбивающую с толку, придется постоянно иметь в виду.
Зов бытия и голос крови
«Зов бытия зовет нас таким образом, что совершенно не слышать его означает попросту не быть»[3]3
Heidegger М. Gesammelte Werke. Bd. 2. S. 225.
[Закрыть]. Так говорит Хайдеггер, и описываемая им неодолимость зова пробуждает смутные воспоминания. Собственно зов бытия транслируется на всех частотах, но далеко не везде возникают зоны чистого приема. Сам Хайдеггер описывает преимущественно зов совести, обрекающий нас на сущностное одиночество; Лакан и его последователи обращают внимание на мама-язык, управляющий флуктуациями воображаемого. Но есть и другие волны, транслируемые через всю среду органического и заглушаемые разметкой экземплярности (делением на отдельные организмы). Таков голос крови – но не в смысле доведенного до уровня инстинкта родственного чувства и не в смысле генетически наследуемой предрасположенности (хотя это уже ближе). Голос крови дает себя знать как шум в ушах, как нарастающая музыка прилива, несущая опережающие позывные грозной стихии. Для иллюстрации можно обратиться к фильму Копполы – впрочем, и другие фильмы о вампирах так или иначе передают соответствующий эффект.
Вот граф Дракула смотрит на каплю крови, стекающую с лезвия опасной бритвы, – его гость, посетитель замка, порезался при бритье. Кровь, окрашивающая чистую сталь, полностью приковывает к себе внимание: резко сужается горизонт видимого, и влекущий зов становится явственно слышим. Куда, к чему он зовет? Нарастающий звук напоминает шум океана, который можно услышать, приложив к уху морскую раковину: каждому с детства знаком этот удивительный незабываемый звук.
Стало быть, голос крови, по крайней мере в первых тактах его слышимости, есть не что иное, как шум моря-океана. Тут нет ничего странного, ведь состав океанской воды химически очень близок к составу крови. Кровь теплокровных животных отличается лишь наличием гемоглобина, придающего этой древнейшей живой субстанции красный цвет, и более высокой средней температурой.
Вольфганг Гигерих предлагает рассматривать Океанос как единую стихию, включающую в себя внешний всеобъемлющий круг метаболизма – или собственно мировой океан, первичную среду жизни – и внутренние круги кровообращения, автономизированные, изъятые из единого потока отдельной телесностью[4]4
Giegerich W. Psychoanalyse des Atomische Bombe. Bd. 1. Tubingen, 1986. Ряд современных биологов считают кровяные тельца «потомками» ассимилированных обитателей океана, представителями микропланктона (наряду с микрофлорой кишечника). См. Maynard Smith J. The theory of evolution. Harmond, 1975, Мауг E. The growth of biological thought: Diversity Evolution and Inheritance. L., 1982.
[Закрыть]. Разобщенность двух кругов циркуляции, насчитывающая уже миллионы лет, не отменяет тем не менее их первоначального родства. В голосе крови распознаваем глубинный шум Океаноса, один из первичных позывов, анализу которых Фрейд посвятил работу «По ту сторону принципа наслаждения». Влечение к утраченному единству живого, к пресловутому телу-без-органов, точнее говоря, к зародышевому, общеродовому телу-без-организмов – таков конечный адресат первичного позыва, перехваченного и явственно услышанного вампиром. Более того, этот зов как раз и вызывает вампира к существованию, очерчивая присутствие особой сущности, подобно тому как застигнутые и окликнутые зовом Бытия обретают достоинство Dasein. Уместно спросить, что именно вызвано в нас так услышанным голосом крови? Глубокое наблюдение Фрейда, вполне подходящее в данном случае, свидетельствует о пробуждении спящих начал – «того, чему лучше было бы никогда не просыпаться»[5]5
Фрейд 3. Я и Оно. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1. Тб., 1991. С. 211.
[Закрыть].
Вся хищная природа живого воплощается в призыве, пробуждающем вампира; эту сублимированную песнь можно расслышать в стихотворении Мандельштама «Лестница Ламарка». Пульсирующая жизнь здесь еще не распределена по отдельным телам, экспансия бесформенной субстанции еще не векторизована восходящим или нисходящим направлением. Сработавший на прием этих позывных резонатор, возможно, и конституирует вампира. Существенно, однако, подчеркнуть, что чистота приема достигается нерасслышанностью другого зова, полной блокировкой позывных Танатоса, настигающих, согласно Фрейду, каждого смертного и определяющих самое могучее влечение организма (психосоматического единства) – «стремление умереть на свой лад»[6]6
Там же.
[Закрыть]. Именно эксклюзивность настроя на зов Первичного Океаноса в диапазоне голоса крови, невосприимчивость к требованию завершения бытия в собственном времени и не дает вампиру умереть «естественной смертью». Требуется некое дополнительное усилие оповещения, зафиксированное фольклором и отраженное киноэстетикой.
Авитал Ронелл в «Телефонной книге», наиболее известном своем произведении, обыгрывает некоторую двусмысленность хайдеггеровского зова, имеющую тем не менее прямое отношение к сути дела. Английское слово «call», равно как и немецкое «Ruf», означает одновременно и «зов» и «телефонный звонок» (вызов). Совпадение не случайно: наша спонтанная готовность снять трубку и откликнуться на телефонный звонок (call), прерывая при этом любой очный разговор, возможно куда более важный, является эмпирическим свидетельством настоятельности зова – и можно представить себе, насколько зов свыше требовательнее звонка случайного абонента[7]7
См.: Ronell A. The telephone Book. Nebraska, 1989.
[Закрыть]. Находка Авитал Ронелл может быть интерпретирована и для интересующего нас случая. Поскольку вампир не слышит зов бытия как бытия-к-смерти (а значит, и не подчиняется ему), приходится использовать резервную линию связи – осиновый call. Только такая принудительная форма подключения к позывным Танатоса, как осиновый call, и позволяет наконец призвать к прекращению завораживающей пульсации трансперсональной стихии, к успокоению мерцания в монотонном режиме смерти.
Неуемность, неудержимость существа, именуемого вампиром, чаще фиксируется интуицией писателя, чем исследованиями культуролога и предположениями психолога. В качестве примера глубокого проникновения можно сослаться на роман Наля Подольского «Книга Легиона». Один из главных героев, Легион, с детства отличается необычной способностью: льющаяся кровь вызывает в нем глубочайшие преобразования – сначала уже знакомый шум в ушах, заглушающий все посторонние мотивации, а затем и полное переключение регистра восприятия. К жизни пробуждается другое существо и даже другое сущее, не имеющее прямого отношения к этому телу[8]8
Подольский Н. Книга Легиона. СПб., 2002.
[Закрыть]. Видеоряд кино для изображения глубины трансформации использует устоявшиеся средства: выдвигаются клыки, на смену «слишком человеческой» приходит характерная экспрессия Чужого – но в принципе можно обойтись и без карикатурного внешнего антуража. Ведь сохранение прежней телесности не гарантирует сохранности прежнего существа – как и наоборот, при метаморфозах живой природы (типа бабочка – личинка – куколка) смена телесности не означает прекращения самотождественности представителя вида.
Просто пробудившийся Чужой ощущает тело, в котором он себя обрел (пробудился), как случайное и неокончательное: прежде всего как передатчик для трансляции позывов-команд, взывающих к новому синтезу, взламывающему разобщенность индивидуальных тел. Соответствующий поведенческий модус с интуитивной точностью выражен в лучших литературных и экранных образцах жанра (в том же «Носферату» Мурнау): осуществляется трансперсональный синтез некоего единства, основанного на кровных узах, причем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Регулярное, возобновляемое в соответствии с пульсирующим зовом кровавое жертвоприношение поддерживает существование вампириона – так в дальнейшем мы будем называть непосредственную кровную близость в отличие от опосредованного кровного родства. Понятие зова представляется здесь решающим – если рассматривать зов как инструкцию, альтернативную, но равномощную генетической инструкции (например, команде «построить тело!»). Тогда получает объяснение феноменальная, нечеловеческая сила вампира – она обусловлена как раз однородностью зова (голоса крови), отключающего все посторонние мотивы, и, прежде всего, мотив привязки к данному телу (инстинкт самосохранения). В целом же общая вампирология как метафизическая дисциплина требует создания собственного категориального строя с решающими включениями из сферы антропологии. Хотя историко-генетический аспект синтеза вампириона опирается на ряд случайных ароморфозов, без него разработка метафизического инструментария невозможна. Поэтому обратимся к антропогенезу.
Реабилитация маргинальной антропологии
Существует традиция, идущая еще от А. Уоллеса (современника и сподвижника Ч. Дарвина), рассматривать человечество как конгломерат различных предковых форм. Причем эти различия каким-то образом «успокоились» в единстве генотипа при полной несовместимости определенных фенотипических проявлений, доходящей до аннигиляции и взаимного исключения из класса себе подобных существ. А поскольку в само определение человека входит способность совмещать несовместимое вплоть до полного отождествления (например, знак и денотат), то территориальность античеловеческого, исключаемого из Erfullung при любых обстоятельствах, особенно важна.
Для дальнейшего исследования следует принять во внимание выводы двух русских антропологов: Б. Ф. Поршнева и его последователя и популяризатора Бориса Диденко. Среди удивительных прозрений и смелых гипотез Бориса Поршнева особое место занимает открытие экологической ниши палеоантропов. Согласно многолетним исследованиям антрополога, эти предки современных людей (неоантропов) специализировались на некрофагии – или, иными словами, были пожирателями падали. Подбор приводимых Б. Ф. Поршневым доказательств отличается высокой степенью убедительности. В рамках концепции получают объяснение и свобода доступа далеких предков человека к местам охоты хищников (единственными пищевыми конкурентами палеоантропов могли быть гиена и шакал, с которыми современный человек имеет наибольшее сходство в строении, например, зубной системы), и необходимость освобождения верхних конечностей для разбивания костей (и для расчленения трупов), и добывание огня – ведь при ударах камнями возникает большое количество искр. Собрано и множество других аргументов, укладывающихся в стройную теорию[9]9
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.
[Закрыть].
Помимо всего прочего, уникальность занимаемой экологической ниши привела к резкому ослаблению давления естественного отбора, в связи с чем началась дивиргенция палеоантропов и безнаказанное (до поры до времени) производство опасных уклонений к абсурду. Одним из таких уклонений стало мышление – непозволительная для других видов, находящихся под жестким гнетом естественного отбора, пауза, первоначально заполненная отсроченными реакциями и двигательными паразитизмами.
Обратимся теперь к любопытным соображениям Бориса Диденко, создавшего собственную необычную концепцию – весьма уязвимую, но зато начисто лишенную предрассудков современной «гуманистической» антропологии. Вот большой обобщающий пассаж из введения:
«Гипотеза видовой неоднородности человечества достаточно полно отвечает на большинство непонятных вопросов человеческого общежития. Эта гипотеза предполагает, что человечество является не единым видом, а семейством, состоящим из совершенно различных двух хищных и двух нехищных видов.
В процессе антропогенеза сформировались два хищных вида: суперанималы (сверхживотные), потомки первоубийц-адельфофагов, и суггесторы (псевдолюди) – агрессивные и коварные приспособленцы, ставшие подражателями и приспешниками суперанималов. Хищные виды пошли по пути наименьшего сопротивления, уже обкатанному природой: зверскому (жестокость и хитрость). Проявления хищного поведения весьма разнообразны – от морального издевательства до изуверских пыток и убийств.
Два нехищных вида характеризуются врожденным инстинктом неприятия насилия. Они делятся на диффузный вид – люди, легко поддающиеся внушению, и неоантропов, менее внушаемых людей, обладающих обостренной нравственностью. Нехищным видам свойственна предрасположенность к самокритическому мышлению, не всегда, впрочем, реализуемая.
Таким образом, согласно этой концепции врожденных видовых поведенческих различий в человеческом семействе, человечество представляет собой парадоксальное общежитие существ несовместимо разных, от рождения наделенных диаметрально противоположными психогенетическими комплексами: стадным, точнее, общественным (подавляющее большинство) и хищным (несколько процентов)[10]10
Диденко Б. Цивилизация каннибалов. Человечество как оно есть. М., 1999. С. 5–6.
[Закрыть]».
Здесь остановимся. Если отбросить не идущее к делу морализаторство, вроде обостренной нравственности неоантропов, остается ряд важных моментов, требующих дальнейшего осмысления. Во-первых, это идея принципиальной разнородности предковых форм – хотя таксономически вопрос о видовом единстве человечества считается решенным, но даже сохранившиеся на сегодняшний день различия экзистенциальных проектов «дополнены» нейрофизиологическими, гормональными и генетическими коррелятами, многократно превышающими соответствующие различия у близкородственных видов животных[11]11
Идею возможной внутривидовой генетической несовместимости поддерживают многие современные биологи от Ханса Селье до Питера Медавара.
[Закрыть]. Во-вторых, несомненно заслуживает внимания идея суперанимала как существа, наделенного нечеловеческой витальностью – такой, которая вообще недостижима в рамках традиционных подразделений органического (обычных организмов) и требует какого-то иного способа персонификации Жизни, не ограниченного уступками самосохранению. Речь идет не о хищности и даже не о «повышенной хищности». Отождествление суперанималов с «прирожденными убийцами», с жестокими агрессорами, уводит автора в сторону от сути дела. А ведь разгадка была буквально рядом. Отстаивая поршневскую идею исходной некрофагии палеоантропов, Борис Диденко пишет:
«Разгадка же состоит в том, что главная, характеризующая всех троглодитид (ранних палеоантропов. – А. С.) и отличающая их экологическая черта – это некрофагия (трупоядение). Один из корней ложного постулата, отождествляющего троглодитид с людьми, состоит в том, что им приписали охоту на крупных животных. Отбросить же эту запутывающую дело гипотезу мешают предубеждения. То, что наши предки занимались трупоядением, оказывается, видишь ли, унизительно для их потомков. Но надо вспомнить, что есть не труп вообще невозможно, разве что сосать из жил живую кровь или паразитировать на внутренних органах. Наша современная мясная пища является все тем же трупоядением – поеданием мяса животных, убитых, правда не нами, а где-то на бойне, возможно в другой даже части света, откуда труп везли в рефрижераторе. Так что нетрупоядными, строго говоря, являются только лишь вампиры (например, комары) и паразиты»[12]12
Диденко Б. Указ. соч. С. 10.
[Закрыть].
Очень меткое наблюдение, даже названо ключевое слово – осталось совсем чуть-чуть. Но неудачный пример («комары») сбивает на ложный путь, лишенный как научной добросовестности, так и метафизической радикальности.
Проект спекулятивной антропологии
Замечание насчет всеобщего трупоядения, сохраняющегося и по сегодняшний день, следует признать остроумным. Однако разница между «буйволом, только что убитым мною», о котором говорит пантера Багира, и падалью, составляющей меню шакала Табаки, весьма существенна. Тем более что троглодитиды-палеоантропы, как мы уже установили, были сотрапезниками именно шакала Табаки, а не Багиры. За это, разумеется, глупо их осуждать (тут Диденко прав), но и умиляться их пищевым предпочтениям тоже нет смысла. Быть может, на фоне исходной некрофилии предполагаемый суперанимал выглядел не таким уж и чудовищем.
Как, однако, смогла проявиться гипервитальность в том месте, где, казалось бы, меньше всего можно ее ожидать?
Все дело в исключительной комфортности экологической ниши – никаких естественных врагов, только конкуренты, да и те не слишком серьезные. Приручение огня ослабило зависимость от перепадов температуры, что, в свою очередь, привело к размыванию эструса (сезонной репродуктивной активности, приуроченной к периоду «течки») и образованию круглогодичного менструального цикла – позднее по этому же пути пошли и некоторые домашние животные. Выигрыш для расширенного воспроизводства популяции очевиден.
Одним словом, органическая материя никогда еще не оказывалась в столь благоприятной ситуации – не мудрено, что в этот раструб прошли и волны тератологии, обычно жестко отсекаемые стабилизирующим отбором. Уродства расцветали пышным цветом и быстро отцветали, хотя среди них были и те, которым повезло больше. Например, способность к взаимной интердикции, из которой впоследствии выросло мышление. Интердикция позволяла отключать блоки целесообразного поведения, высвобождая глубоко заторможенные «неадекватные рефлексы»[13]13
Такова генеалогия мышления, предложенная Б. Ф. Поршневым. Суть ее сводится к освобождению места, заставленного инстинктами, рефлексами и первоначальными фиксациями. Сходных взглядов придерживались Анри Валлон и Иньяс Мейерсон, а в философском ключе – Макс Шелер.
[Закрыть]: почесывания, странные звуки, жесты и другие несообразности, потенциально пригодные для создания знаков. Вторым отклонением, непосредственно интересующим нас, был как раз прорыв сверхвитальности – слышимости «голоса крови», взывающего к восстановлению полноты Океаноса и преодолению разобщенности кровообращений по индивидуальным телам.
Среди прочего, через расшатанные ворота безнаказанности присутствия осуществился и прорыв хаоса, осевшего в виде жребиев, жеребьевок, структур азарта и фатальных стратегий в смысле Бодрийара – но к этому мы еще вернемся. Что же касается манифестации жизни как целого, жизни, не подчиняющейся облагораживающим все налично живое правилам сдерживания, то здесь опять уместно вспомнить Фрейда, специалиста по перекличке первичных позывов:
«Мы привыкли видеть в первичном позыве момент, настоятельно движущий к перемене и развитию, а теперь должны увидеть в нем как раз противоположное, а именно, выражение консервативной природы всего живущего. С другой стороны, нам тотчас же приходят в голову те примеры из жизни животных, которые, по-видимому, подтверждают историческую обусловленность первичных позывов. Когда некоторые рыбы в период нереста предпринимают затруднительные странствия, чтобы метать икру в определенных водоемах, весьма отдаленных от обычных мест пребывания, то, по толкованию многих биологов, они только возвращаются в прежние жилища своей породы, смененные с течением времени на другие. Тем же объясняется и странствование перелетных птиц… Если, таким образом, все органические первичные позывы консервативны, приобретены исторически и направлены на регресс и восстановление прежнего, то успехи органического развития мы должны отнести за счет внешних нарушающих и отвлекающих влияний»[14]14
Фрейд 3. По ту сторону принципа наслаждения. С. 166–167.
[Закрыть].
Внешняя корректировка («отвлекающие влияния») как раз и обеспечивается естественным отбором – системой строгих допусков, регламентирующих проявления собственной витальности, или, как предпочитает выражаться Фрейд, «консервативной природой всего живущего». Пример с идущими на нерест рыбами здесь очень подходит, он свидетельствует о том, что даже система регуляторов, держащая в рамках экспансию вида, не всегда предотвращает выбросы суперанимации – расточительные, избыточные проявления природы, не принимающие во внимание автономность отдельных организмов. Как если бы команды, передаваемые «эгоистичными генами», по меткому выражению Ричарда Доукинса[15]15
См. Dawkins R. The selfish Gene. N. Y., 1984.
[Закрыть], могли бы в определенные моменты перебиваться более сильными командами, не содержащими записи «сохранить текст во что бы то ни стало».
Антропогенез такие возможности предоставил в избытке, и их реализация начисто опровергает расхожее представление о хрупкости и беззащитности жизни, все время нуждающейся в заботе, взращивании и покровительстве свыше. Если стихия жизни в чем-то и нуждается свыше, так это в окрике «стоять!», предотвращающем тератологическое расползание за пределы хороших форм[16]16
Секацкий А. К. Вода, песок, Бог, пустота // «Метафизика Петербурга». СПб., 1993. № 1. С. 170–191.
[Закрыть].
Природа вампира не составляет какого-то исключения, скорее именно она выражает сущность природы вообще, сущность фюзиса, которому позволено не считаться с логосом. В спекулятивном плане можно представить себе две составляющие жизни, Ж1 и Ж2. Вторая составляющая просачивается в явленность через ячейки отдельных организмов, контролируется как раз эгоистичными генами, а впоследствии и еще более «эгоистичными» сознаниями (эго-формациями).
Но составляющая Ж1, впервые описанная Эмпедоклом как «крутоногонерасчленнорукость», способна вырываться за поставленные пределы, преодолевая многочисленные препятствия, в том числе и внутренние, призванные сдерживать автотравматизм. В соответствии с излюбленным выражением медиков, каждый из таких прорывов может оказаться «несовместимым с жизнью» – но лишь в том случае, если речь идет о жизни, усмиренной в берегах отдельного организма или видовой самотождественности. Другое дело – волнение первичного Океаноса, переходящее в шторм. Синтез вампириона как раз и происходит тогда, когда проигнорировано штормовое предупреждение, когда ослаблены перемычки стабилизирующего отбора. Такое «буйство жизни» можно наблюдать повсюду. Именно оно не оставило камня на камне от городов цивилизации Мохенджо-Даро, зарастив окна техноценоза девственными джунглями. Если уж что-то называть хрупким, так это человеческие устроения, размещенные на кромке стихии Ж1.
Возьмем деревенский домик, оставленный без присмотра – если он окажется на месте прорыва сверхвитальности Ж1 (суперанимации), через несколько лет от него не останется и следа (отбросим даже не характерные для наших широт «полчища» саранчи, которым хватит и часа на расправу). Отсюда, кстати, следует, что присмотр состоит, прежде всего, в осуществлении команды «стоять!» и лишь затем в дополнительной помощи тем, кто избран и допущен – культурным растениям и домашним животным.
Так вот, экологическую нишу палеоантропов (и время антропогенеза в целом) можно рассматривать как крупнейший за всю историю живого прорыв крутоногонерасчленнорукости Ж1, который, однако, вопреки Фрейду, не поддается истолкованию в терминах регресса или прогресса, ибо толчки стихии случаются при любой степени приспособленности к среде. Здесь-то, помимо всего прочего, и рождается вампир – в сущности, рождается тем же усилием, что влечет на нерест целые популяции осетровых рыб. Но только не природа вида оповещает о себе избыточной тератологической экспансией. В данном случае, говоря языком Фрейда, речь идет о «природе всего живого» – или всего теплокровного. Как осетры, уплотненные в коллективное, совсем не призрачное тело вида, перепрыгивают и продираются через каменистые перекаты, чтобы замкнуть в кольцо ареал обитания, так вампир стремится разомкнуть малые автономные круги кровообращения, чтобы слить их в единый круг циркуляции, теплокровный Океанос, вампирион.
Вряд ли можно говорить о вампире как постоянном обитателе определенного тела: вампиризм скорее существует в мерцающем режиме прилива и отлива, нарастающего и отступающего шума, дня и ночи. Именно такими они предстают в легендах, преданиях и на экране. А переход из режима в режим лучше всего описывается посредством «туннельного эффекта» – так, по крайней мере, утверждает один из самых авторитетных знатоков вопроса, Джелал Тоуфик, – мы к этому еще вернемся. Кстати, в таком же мерцающем режиме, в чередовании сна и бодрствования, работает и сознание, обретенное в том же историческом промежутке антропогенной катастрофы. Одержимость голосом крови и, если можно так выразиться, одержимость сознанием в принципе альтернативны, хотя, как мы увидим в дальнейшем, не строго альтернативны; попытки синтеза единого целого осуществляются периодически, вплоть до формации чистого авантюрного разума.
Иными словами, реальность суперанимала, обеспечиваемая наследственной передачей устойчивых признаков, проблематична, но реальность явления superanima и по сей день экспериментально подтверждаема, в частности, поправкой на кровь. Есть и другие любопытные свидетельства.
Некрофилы и вампиры: наши деды и отцы
Если вглядываться в прошлое, пользуясь вампиром как оптико-диалектическим инструментом, мы получим достаточно расплывчатую, прерывистую картинку. Примерно такой же предстает и первобытная орда с ненавидящими отца братьями – то, что разглядел Фрейд с помощью своей психоаналитической оптики. Однако многие необъяснимые ранее факты теперь получают объяснение.
Итак, в самом начале мы застаем некрофагов, расчленителей трупов и пожирателей падали. Это проточеловечество и, одновременно, античеловечество – самый ранний плацдарм, от которого отсчитывается и в то же время отталкивается многоступенчатый процесс антропогенеза. Именно среди консументов-некрофагов появляются консументы второго порядка, те, чья пища есть кровь живых, а не плоть мертвых. Эти пришельцы из собственных рядов почти во всем похожи на своих сородичей и почти во всем им противоположны. Как уже отмечалось, степень антагонизма, возникающая в данном случае, превосходит все ранее известные внутривидовые и межвидовые антагонизмы в истории, создавая тем самым необходимое напряжение для производства радикальных поведенческих новаций.








