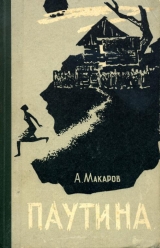
Текст книги "Паутина"
Автор книги: Александр Макаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– Путешественник мой, – произнесла она, прищуренным взглядом обводя лицо мужа. – Поспал? Молодец. Руку перевязывал? Молодец. Поужинаешь?.. Давай умывайся, я соберу на стол, вот-вот папаша вернется.
Любуясь женою, Николай встал.
– Ужас душу грызет, – продолжала она, готовя ужин и рассказывая о своем походе на усадьбу Минодоры. – В городу видывала крокодила в водяной ямине и то не испугалась, а уж этот не иначе как с того света приполз. Поверишь, Коля, глазища кровяные, будто задом наперед вставлены, морда клином с рыжим хвостиком, волосы на башке как костер горят, сам худющий, скелет смертельный… И почему это в сектах одни уроды?!
– Хорошие к ним добром не пойдут. Одно слово скрытники, а прячется всякая нечисть. Хотя есть у них одна смазливая девчушка, только и та бежит!..
Николай сообщил жене о своей встрече с Капитолиной, почти дословно передал рассказ девушки об обители и легонько упомянул про Агапиту с ее несчастьем. Над Лизаветой словно вдруг трахнул неожиданный гром.
– Утопили?! – простонала она, и крынка с молоком из ее рук грохнулась на пол. – Младенец… Чем надо быть… О-о-о!.. Чуяла я, чуяла, а ты еще смеялся… Полют в огороде?.. Да, так я и сделаю: побегу к ним в огород, да, да, да!
– Незачем, Лизута, туда сходит Арсен.
– Не запрещай и не упрашивай! – крикнула Лизавета с каким-то необычайным для нее упрямством; лицо ее вспыхнуло и передернулось. Он боялся слез, но она не заплакала. Что-то отрывисто шепча, она почти бегала из кухни в комнату и, точно обжигаясь обо все, к чему прикасалась, швыряла на стол посуду и хлеб. Под ее полусапожками трещали черепки разбитой крынки, а на полу пестрела почмокивающая дорожка.
– Лизута, под ноги взгляни, – тихонько попросил Николай.
– А-а… Ну, Минодора, ну, волчица, гляди!..
С тем же ожесточением она подтерла разлитое молоко и подмела черепки. Только всполоснув руки и ставя на стол миску с душистой окрошкой, Лизавета заговорила, будто извиняясь перед мужем:
– Нет, вправду, Коленька, схожу. Арсен Арсеном, а я женщина. Женщины с женщиной завсегда откровеннее. Да и помочь им надо в этакие-то минуты. Если бы я там красношарого не видела, если бы про ребенка не знала, а теперь ни за что баб одних не оставлю!
Зажигая лампу, она добавила:
– Может, я их обеих из-под носу у Прохора сегодня же к себе домой утащу!
– С ума сошла. А дезертиры – удирай?.. Никого не трогать до милиции!
– Ой, Коленька, забыла!.. Я же в поле Рогова видела, милицию ему пообещали на завтра.
– Ну вот то-то же… Очень хорошо!
– Теперь отпустишь к бабам?
– Н-не знаю…
Оба вдруг рассмеялись.
Ужинали молча, украдкою взглядывали друг на друга, словно в первые дни своего супружества. Нет-нет да и подливая окрошку в тарелку мужа, Лизавета старалась погуще снять сверху сметанный отстой. Николай же не прикасался к хлебным горбушкам, помня, что жена любит похрустеть корочками.
Заметно темнело; в растворенные окна вливалась ароматная прохлада и доносились пока еще не смелые переклики коростелей. Лампа разгоралась, казалось, все ярче, однако в удаленных от стола закутах избы все отчетливее вырисовывались черные лоскутья мрака. Будто разбуженный стонами ночных птиц, в укромной щели за печкой застрекотал сверчок. Николай неосторожно положил ложку в опустевшую тарелку – и глубоко задумавшаяся Лизавета вздрогнула. Заметив это, он поцокал языком, потом посоветовал:
– Ложись-ка спать, Лизута, устала ты, перенервничала, да и без тебя там обойдется.
– А если нет? – тихо откликнулась она. – Если не обойдется?.. Ты же знаешь, что обе они не только в страшном доме, но и в незнакомой деревне. И люди там не просто чужие им, а злые на них. Ты ведь сам говорил об этом, говорил ведь? Вдруг там такое случится, что не успеют ни вздохнуть, ни охнуть – и помощи ниоткуда?..
В глуховатом на этот раз позванивании голоса Лизаветы чувствовалась какая-то особая, нежная теплота. Николай вспомнил, как перед самой войной жена, бросившись с моста в бушующее половодье, спасла тонущую ашьинскую школьницу, и понял, что ее не отговоришь: чужое бедствие она всегда воспринимала куда острее, чем свое. Лизавета же угадала, что запрещения не последует, и постаралась успокоить мужа:
– Не бойся, Коленька, ничего зряшного я не сделаю. Мне охота только, чтобы бабенки поняли да развеселились: мол, не бросовы они на белом свете, вот и все… Я всего-навсего на часок. Придет папаша – накорми.
– Иду, иду! – раздался под окном голос Трофима Фомича.
Старик вошел, жизнерадостный, как всегда, суетливый, звонкоголосый, и подсел к сыну.
– Замешкался малым делом, – начал он, хитренько улыбаясь. – Арсюшка подцепил… На-ка вот писулю, Кольша.
Записка была от Арсена.
«Сегодня они ждут попа, – вполголоса прочитал Николай. – Бабы чистят колодец. Не завяну – прилечу. Водяной».
– Вот еще не было печали… Пресвитер!
– Коля, я ушла.
– Договаривай: спать.
– Коленька, разругаемся!..
Николай нахмурился, но не ответил; ему не хотелось спорить с женою при отце. Трофим Фомич плескался у рукомойника и рассказывал, как на покосе женщины из бригады Демидыча с утра до полдня ссорились из-за «святых» писем и как совсем неожиданно их примирило утиное гнездо.
– Никон подкосил гнездо-то, – говорил старик, принимаясь за окрошку. – А в гнезде двенадцать шилохвостниц. Расхватали бабы по два цыпленка: крылья, слышь, подрежем, да к домашним приучим… Разделили, нянькаются с ними, люлюкают и, гляди ты, помирились за милу душу!.. Одна Прося артачится – ой, и до чего же ералашная бабенка, неизвестно чего и хочет!.. Минодорина наушница, а, Лизанька?
– Было…
– Мало ее Фаддей лупцевал… Молочка я не хочу, сыт, побегу на часы.
Он встал из-за стола, небрежно, точно шуточно, перекрестился в передний угол на полочку с книгами и, захватив свою фузею, отправился к колхозному амбару.
– Вот что, Лиза, – заговорил Николай, когда за стариком стукнула калитка. – Или ты сейчас же ляжешь спать, или мы с тобой на самом деле поругаемся… Не мешай мне делать то, что приказал Рогов!
Последняя фраза была сказана с суровой четкостью, чтобы сломить упрямство жены; и Николай не ошибся. Лизавета молча убрала со стола, так же вышла в сени, где тотчас под нею сердито заскрипела кровать. Скрутив цигарку из самосадки, вышел из избы и Николай.
Он приостановился на крыльце. Против него, над светло-коричневым горизонтом, гигантской, добела раскаленной подковой висела луна. Из хлевушка доносилось тяжкое, как вздохи кузнечных мехов, пыхтенье коровы. Где-то на пойме призывно и жалобно крякала утка. «Обидели беднягу», – подумал о ней Николай и невольно прислушался к тишине в сенях, потом спустился во двор и медленно зашагал к речке.
Его встревожила записка Арсена, смущал пресвитер: старик он или молодой, мирный или вооружен, с его или без его ведома в общине скрываются дезертиры и детоубийца?.. «Будь он четырежды проклят, – рассуждал Юрков, садясь на бережок. – Нашел время ни раньше ни позже, и нужен-то он нам, как собаке пятая нога. Ладно, пускай немножко перетрусит: быть может, подальше от Узара уведет свою ораву. А может быть, еще не явится, может, все закончим до него?.. Хорошо бы!.. Но как быть с визгушами, черт бы их побрал?!. Вывести бы обеих на это время куда-нибудь в лес… Тьфу, устал я, чепуху мелю… Выкупаюсь, схожу к охотникам и посплю».
Теплая на поверхности, вода на дне, точно крапива, обжигала холодом. Чтобы не подмочить забинтованную руку, Николай шажок за шажком вошел в глубину, ежась, погрузился с плечами и, притерпевшись к прохладе, залюбовался рекой.
Прямо до светло-коричневого небосклона окаймленная нависшим над нею сплошным рослым тальником, чуть позолоченная новолунием река навевала покой. По ней, как по исполинской трубе, лился с лугов нескончаемый поток аромата свежескошенных трав. Будто для того, чтобы хлебнуть напоенного нектаром воздуха, над водою то и дело металась и мгновенно исчезала рыба. Чуть движимые течением листочки, оброненные тальником, представлялись острыми льдинками; и чудилось: протяни руку, схвати льдинку и поранишь пальцы.
Купанье, как хорошее вино, приглушило раздумья. Николай вылез из воды и, прислушиваясь к жалобным стонам утки, стал одеваться. Позади зашелестела мать-и-мачеха; он оглянулся – перед ним стоял Арсен.
– Пришел, Николай Трофимыч, – сказал парень.
– Вижу, – рассмеялся Николай.
– Да не я, а этот ну, пресвитер, что ли.
– Пресвитер? – переспросил Николай, чувствуя, как не то подпрыгнуло, не то упало сердце. – Откуда это видно?
– Он не блоха, чтобы без огня не видеть: орясина с деда Демидыча, в пальто, шляпа в лапе, баульчик в другой, космы.
– А, ну так, так, давай, давай!..
– Шагает вот таким манером, – парень потоптался на месте, и Николай по звуку понял, что пресвитер шел не спеша. – Шагает, идиот несчастный, и сморкается почем зря. Сижу я в бузине и сочиняю частушки про нашу электростанцию, а он как фурыгнет в кулак, аж в ушах созвенело. Ничего себе, думаю, культура – и за ним. Он в окно, видно, когтем постучал и молитву отслужил. Потом на крыльцо выплывает кума Прохоровна да на колени и в ноги ему – бах! «Братец», слышь, – а сама опять в ноги; но тут они ушли, а я – сюда!
– Все?
– Так точно… никак нет, товарищ колхозный полевод, с вас беломорку!
– Нету, Арсен, честное слово, сам бы покурил.
– Я слетаю, тряхну дядю Трошу, а?
– Ну самосадка и у меня есть.
«Пришел, – думал Николай, нащупывая в кармане баночку с табаком. – А это, пожалуй, он. Пальто, шляпа, баульчик, а не зипун, шапка и котомка. Да и Минодора перед простым странником на колени не падет. Жаль, но что-нибудь надумаем».
– Эх, и заборист табачок! – вполголоса воскликнул парень, внюхиваясь в крошево самосада. – Бумажку газетную вам, Николай Трофимович, или повежливее имеется? Я докуриваю очерк «Как вешали гестаповцев в Харькове», силен документ!
– Давай и мне с очерком, – сказал Николай, присаживаясь на бережок. – Еще какие новости, Арсен?
– Новость одна: имею агрессию супротив Капитолины Устюговой, решаюсь мобилизовать ее на мельничный фронт. Она специальная крупорушница, да и на охране плотины нам вдвоем с мамой не особенно весело!..
– Что ж, стоющее дело, поговори с Роговым.
После встречи с Капитолиной в глазах Арсена как-то невольно поблекли все узарские красавицы. Девушка привлекала парня не столько своей внешностью, сколько необыкновенным прошлым – кто знает, не удастся ли азинскому селькору написать с ее слов рассказик.
Но на Капитолину имел виды не один Арсен: девушка не выходила из поля зрения ни самой странноприимицы, ни старой проповедницы, не забывал о ней и Калистрат.
Под действием винных паров и от настойчивого подзуживания Минодоры Калистрат, казалось, утрачивал здравый рассудок. Немытый, нечесаный, босой, одна штанина короче другой, в расстегнутой и неподпоясанной рубахе бродил он по дому, по двору и угрюмо мычал одному ему известную не то песню, не то молитву. Встречая Капитолину, он замолкал, провожал ее отупевшим взглядом, а когда девушка исчезала, качал головой, вздыхал и брел к себе в келью.
Окрыленная общением с колхозниками, девушка решила либо перетянуть Калистрата на свою сторону, чтобы лишить Минодору возможной защиты, либо хотя бы выкрасть из-под его топчана ужасающий ее топор. Выждав, когда Минодора отправилась на работу, Прохор Петрович уселся за «святые» письма, а Платонида со странницами и Варёнкой принялись готовить верхние покои к приему пресвитера, Капитолина легонько, чтобы не разбудить Гурия, поскреблась в дверь кельи Калистрата.
Тот ответил «аминем», и девушка вошла.
Страдая от вчерашнего перепоя, Калистрат лежал на топчане. Увидев Капитолину, он вскочил, что-то невнятно промычал и не особенно послушными руками разгладил жесткую подстилку на своем топчане.
– Разрешите к вам присесть, Калистрат Мосеич, – попросила девушка уважительно и степенно.
– Завсегда с нашим почтеньицем, – ответил он, заметно просветлевая лицом, и снова, теперь с подчеркнутой ласковостью, похлопал по топчану ладонью: – Будьте при местичке, только извиняйте: хмельным от нас того-этого…
– Не пили бы вы, Калистрат Мосеич, – проговорила она, усаживаясь все-таки поближе к выходу.
– Так оно, конечно, дело… Покудов не видим – не потребляем, навроде бы и охотки нету, а как только того, так и сызнова того… Прямо сказать: ежели не дразнят, так и без хмельного терпится!
От природы неразговорчивый и до смешного неловкий на слова, Калистрат проговорил все это с очевидной охотой, причем голос его показался сегодня Капитолине каким-то уж очень нежным. Капитолине это понравилось, и в ней шевельнулось всегдашнее озорство: она опустилась на подушку локтями, подбородок – на кулаки, и, глядя на Калистрата снизу вверх, вкрадчиво спросила:
– Калистрат, ты вот в сию минуту про что думаешь?
– А так… про жисть, про баб еще….
Капитолина тотчас распрямилась.
– Я думала, что ты лучше, – резко произнесла она, оправляя подушку. – А ты оказываешься… факт налицо! Про баб помнишь, а про военкомат забыл!
Калистрат стушевался, перестал улыбаться.
– Про баб-то мы, слышь мол, страшенно подвидный народ, – проговорил он, подавшись лицом к Капитолине и для большей выразительности до шепота прижимая голос: – Примерно как Минодорья… А про военный райкомат сильно думавши!
– Думал?!
– После того разу, как с вами потолковавши, бесперечь кажииный день.
Капитолина пододвинулась ближе.
– А на что решился? – прошептала она.
– Покудов только одно вырешается, – полушепотом ответил он, – крадучи бы на фронт-от уехать, мимо райкомата. Залезти под вагон либо сверху к трубе привязаться – и айда до самой до битвы. А тамо заявиться к самоглавному и давай, мол, ружье.
Капитолина прыснула со смеху.
– Чудак Гаврило смолено рыло, – все-таки серьезно сказала она. – Как ты неученый стрелять-то станешь?
– А мы спервоначалу другим концом, – не сморгнув глазом объяснил Калистрат. – Как молотилой… Потом сутки за две либо за три и стрелять ребята научут!
По тому, как блестели его конопатые глаза, Капитолина поняла, что мужик говорит искренне; однако, не зная, как возразить против его сумасбродной, но, по-видимому, твердо решенной затеи, перевела разговор на другое:
– А как бы ты с Гурием – он ведь созлый дезертир?
Калистрат сурово запыхтел.
– Я вот свяжу его, как кутя, кляп ему в глотку да в омут, – прохрипел он, встряхнув кулаками. – Они с Минодорьей злодейство удумали супротив тебя да меня. Ихний потайной разговор я учул, тогда и решился… Пудовую гирю в погребу возьму, за шею Гурьке-то – да понижай плотины в тартарары!
Капитолина едва отлепила язык от гортани.
– Когда, Калистрат? – спросила она, помолчав.
– Завтра ночью на разъезд побегу и его с собой, – шепнул он просто, затем предупредил: – Никому не сказывай!
Девушка энергично потрясла головой.
Она ушла твердо уверенная, что Калистрат надежен; но вечером того же дня мужик снова заплыл в расставленные Минодорою сети. Выпроводив сестринство на подзвездные работы, Платонида тотчас отослала Калистрата к матери-странноприимице для «тайной вечери», а он не прочь был опохмелиться. Как и в прошлые разы, быстро споив угарной настойкой и раздразнив мужика притворными ласками, Минодора сама проводила его в обитель. Ополоумевший, он потянулся все-таки в свое жилье. Странноприимица распахнула перед ним дверцу Капитолининой кельи, схватила его за рукав и втащила вовнутрь.
– Привыкай, теля, к новому стойлу! – засмеялась она, толкнула Калистрата на топчанок и заговорила вкрадчиво: – Да ты приляжь, приляжь, вот сюда, на подушечку… Тут, тут Капынька почивает, добра молодца поджидает… Дверца не скрипнет, кроватка не звякнет, соседушек дома нету. А крикнет, так руки-то на что бог дал?.. Заступы не окажется… Да ты приляжь, приляжь вот так, дурачок!..
Калистрат зарычал, скребя ногтями соломенную подушку, топчан заскрипел под ним, будто разваливаясь на части. Минодора вышла из кельи и тотчас постучалась в дверцу к Гурию.
Неонилу пробрал ужас.
Будучи на подзвездной работе – они втроем чистили колодец, – старая странница вошла в подвал переобуться за минутку до прихода туда Минодоры с пьяным Калистратом. Невольно выслушав через стенку подстрекательские речи странноприимицы, она без труда поняла, какая западня готовится для молодой девушки. Но, войдя во двор, ни словом не обмолвилась об услышанном даже со своей неизменной спутницей Агапитой и только спросила, сколько ведер грязи вынуто из колодца.
– Двадцать осьмое, – ответила Агапита; она склонилась над колодцем и прокричала вниз: – Давай, давай, девушка, пошевеливайся!.. Еще двадцать два ведра до уроку осталось!
Но Капитолины в колодце уже не было. Пока Неонила ходила в подвал, Агапита вытащила окоченевшую в ледяной жиже девушку на поверхность и отослала ее на реку. Капитолина выкупалась, прополоскала свое пропитавшееся колодезной грязью платье, напялила его на себя и было отправилась к камню за письмом Арсена, но вдруг увидела парня сидящим в бузине.
Арсен явился только что и, помня уговор с девушкой о встрече, до боли в переносье вглядывался в громадный валун около Минодориной бани. Он намеревался встать перед Капитолиной нежданно-негаданно, чтобы доказать девушке свою удаль, – парень скорее позволил бы бороде на носу вырасти, чем пропустить такой момент. Капитолина лисой подкралась к нему с другой стороны, неслышно просунула руку меж кустов и крепко сжала в пальцах Арсеново ухо.
– Эх, сони-засони! – громко прошептала она, и даже в шепоте парню послышался крик укоризны. – Как не стыдно: пришли за делом и разлеглись, ровно наша директорша на кушетке!
– Тебя же… глядел, – промямлил Арсен, поднимаясь и кубанкой стряхивая пыль с своих галифе.
– Сквозь сон глядели, факт налицо!.. Слушайте, когда запоют петухи… Как запоют, так и наш пресвитер явится, либо раньше.
– Дальше?..
– А дальше Гурий оклемался и всю зорнюю на стуле отсидел. Дальше я у Калистрата на пожарный случай топор украла и в садике зарыла.
– Ух и молодец! – выдохнул он и схватил ее за руку.
– Нет, за руки браться фиг! – отстранилась она и высвободила руку, однако тут же рассмеялась, блеснув зубами: – Испужаете – с Калистратом на фронт порхну, вот вам и крупорушница… Вон меня Агапита зовет, пока!
Девушка убежала во тьму двора.
– Вот те и нос с бородой! – прошептал Арсен себе. – А милая, ох, ну и милая же заразочка, черт побери, страсть уважаю недотрог!
В обители странниц встретила Платонида.
В синем сатиновом хитоне, подпоясанная черным кушаком с белыми, как черви, буковками молитвы на нем, в темной парчовой шали, с только что подкрашенным охрою посохом проповедница выглядела и празднично и строго.
– Возлюбленные сестры во Христе! – начала она, буравя послушниц своим огненным взглядом. – Како явление спасителя ждем мы сына его, нашего отца и брата пресвитера. Сердца наши радуются, уста славословят, помыслы исполнены щедрот. Мать во странноприимстве Минодора за усердие в святом послушании возблагодаряет вас. Тебя, сестра Агапита, платом на главу и кофтою. Тебя, сестра Неонила, ботиками и чулками тож. Тебе, Капитолина, даруется новая келья…
«Гроб», – в душе усмехнулась Капитолина, но сердце сжалось, будто встала она перед разверзшейся бездной.
– …с воздусями и светом вседневным, – договорила Платонида, ткнув посохом в дверь кельи Калистрата. – Негоже-де отроковице во мраке хиреть… От моих трудов и во благословение дарую вам по святой лестовице, во имя отца и сына!
– Аминь, – сказали послушницы и низко поклонились.
Для Неонилы и Агапиты подобные милости не были новостью. Перед появлением пресвитера странноприимцы и проповедники любой обители оделяли странников каким-либо пустяком из своих обносков. Но щедрость к Капитолине поразила женщин: наилучшей кельей по обычаю отмечались заслуженные старцы и старицы, и вдруг канонизированная традиция общины грубо нарушалась, «светлое» жилье получила некрещеная девушка, еще не так давно наказанная и затвором, и голодным постом, и побоями. «Неужели этим приручить хотят?» – подумала Агапита, а Неонила скорбно покачала головой.
– Водворяйся, дево, – как будто и ласково, однако же настойчиво распорядилась Платонида. – Святовонными корнями покури, чистую наволочку сестра Агапита выдаст. Памятуйте, рабы, утреннюю зорницу сам брат пресвитер возносит с песнопениями и лобызанием его святого наперстянка тож.
Обдав всех запахом ладана, проповедница двинулась мимо странниц и заковыляла вверх по лестнице.
Капитолина не знала, на что решиться: водворяться или не водворяться, – а вдруг либо тем, либо другим повредишь начатому делу?.. Но заглянула в свою келью, увидела спящего там Калистрата и волей-неволей получила свежую подушечную наволочку и благовонные коренья – все, что полагалось страннику при вселении в новую келью.
– Не тужи, девка, помалкивай, – шепнула ей Агапита, помогавшая при окуривании. – Теперь, чуешь, не долго уж. Они чего-то мудруют, только бы на свои бока!
Эту идею Минодоре подсказал Гурий; замысел был прост: приглушить злость и настороженность девушки лаской и доверием; потом, учитывая, что Калистрат может не пойти в келью Капитолины и не совершить преступления, поменять их кельями; затем подпоить Калистрата, вызвать старших странниц наверх и спровадить мужика вниз. По старой памяти он непременно прорвется в свою келью, увидит спящую там девушку и не выдержит. Если умертвит – он вечный раб общины, если обесчестит – рабами станут оба: куда им, преступнику и опозоренной, деваться, кроме безвестного странствия?.. Но разговор Гурия со странноприимицей случайно подслушал Калистрат.








