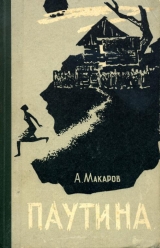
Текст книги "Паутина"
Автор книги: Александр Макаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Паутина
I. ГРЕХОПАДЕНИЕ СЕСТРЫ АГАПИТЫ
В погоне друг за другом летели над лесом невесомые светло-серые облака. Верхушки пихт и елей дремотно покачивались, и над мелкорослой бурой чащей неумолчно плыл тончайший гул. В него время от времени врывался то громкий крик, то трепет крыльев взволнованных птиц. Пернатые были суетливы, резвы, но удивительно мирны – ястребок улетал от дрозда, сыч – от малиновки, а дятлы, он и она, щеголяя своими алыми шляпками, самозабвенно танцевали вокруг дупла. Из сумрачных зарослей к узкой дороге струились запахи свежей соломы, прелой травы и сырости, а от гривки сочного вереска, если ее растереть между пальцами, уже веяло ароматом фиалок. В разрыв облаков глянуло и ярко вспыхнуло солнце. На черной дороге заблестели лужицы, кое-где просверкнули еще не успевшие дотаять льдинки. Однако солнышко спряталось так же быстро, как и появилось; по земле пополз холодок, лес опять помрачнел, и звучания его стали резче.
Женщина поежилась, оперлась на батог и встала.
– Пойдем, сестричка, – обернулась она к своей подруге, безмолвно и неподвижно лежащей у придорожной тропы на ветках вереска. – Дело к вечеру, а нам еще верст пяток осталось.
Лежащая потянулась было рукой к своему батожку, приподнялась, но застонала и снова опустилась на землю.
– Еще хоть минутку, – глухо проговорила она, – может, отойдет. По времени-то не срок бы…
– Срок ли, не срок ли, не знаю, а идти надо, – не грубо, однако повелительно произнесла первая. – Ты не волчица, Христос с тобой, чтобы под лесиной…
Она присела на корточки и заглянула в лицо спутницы. Еще утром круглое, полное, чернобровое, с широким носом и небольшим розовым ртом, лицо это стало длинным и и тонким, нос заострился, и, быть может, оттого что темные большие глаза были прикрыты, брови женщины казались светлее; она выглядела сейчас старше своих сорока лет.
– Вставай, сестричка. Я котомочку твою понесу; тебя, коль надо, под локоток поведу, доплетемся. Авось, мать Минодора примет нас; авось, у нее не людно. А людно в обители, так мы и в баньке у ней поживем. Банька ладненькая, чистенькая. Нам бы от чужого глазу укрыться да молитву воздать!
– Поди, не осилю. Поясница не моя, да и он бьется…
Женщина легонько провела ладонью по своему высокому животу, точно ласково погладила того, о ком говорила, и открыла глаза. Другая подметила в них теплившуюся улыбку и понимающе улыбнулась сама. Потом медленно распрямилась:
– Чу-ка, сестрица, никак кто-то едет? – торопливо, что с ней случалось редко, проговорила она.
Морща одутловатое с кривыми фиолетовыми прожилками лицо, – в минуты напряжения оно казалось испещренным кровоподтеками, – старшая стала прислушиваться; чуть согнутая фигура ее, длинная и костлявая, в сером домотканом полукафтане с мужского плеча, будто окаменела, но толстые обветренные губы шевелились, шепча молитву. «Сторожится», – подумала лежавшая, однако с приближением дробного перестука колес и сама почувствовала крадущийся по коже морозец. Поднявшись на колени, она взяла за лямки свой дорожный мешок и, волоча его по плесневелому мху, отползла в чащу.
– Разговаривают мужчина с женщиной, – сказала высокая той же необычной для нее скороговоркой и посоветовала: – Ты бы встала, сестричка: простынешь, мокренько туто. Встань, помогу.
Заморенная пегая лошадь едва тащила кулевозную телегу, поверх примятой соломы на телеге виднелся только зеленый ранец с привязанным к нему закопченным солдатским котелком. Люди шли по той тропе, где еще пять минут назад лежала беременная. Впереди не спеша шагал высокий сутуловатый мужчина в шинели. Одна рука его покоилась пониже груди на черной перевязке, а из-под защитной армейской пилотки выглядывал ободок белого бинта. Женщина была одета по-праздничному, а ее цветастый полушалок, казалось, излучал сияние радости.
«Встретила, – догадалась беременная, невольно позавидовав счастью незнакомой женщины. – Вот люди встречаются, а я…»
Она не расслышала, что сказала женщина на тропе. Мужчина резко обернулся к жене и удивленно переспросил:
– Минодора?.. Тебя в секту скрытников?.. С ума сойти!
– Не сама Минодора, а, видно, ее подружка, кривобокая такая, прихрамывает. Я ей отбой дала. Одинова, говорю, живем, чтобы не умерши в могилу лезть.
– В могилу – точно! Значит, секта снова живет?
– Видно, так… Знаешь, как мы сделали, чтобы узнать?..
– Ну-ну, расскажи…
Он приостановился, чтобы пойти рядом с женой. Звонкий голос женщины, постепенно удаляясь, слился с многообразным звучанием леса.
Немножко отстав от своей спутницы, беременная выбралась из чащи на придорожную тропинку и побрела, лишь усилием воли передвигая вконец отяжелевшие ноги. Уголок темной вязаной шали она держала в зубах, что выдавало ее волнение. Если четверть часа назад тело женщины разламывала тупая боль и мозг застилала единственная дума – как сохранить ребенка, то теперь у нее будто все застыло внутри. Зато мысли, нахлынув, заметались и загудели в голове, точно пчелы в улье. У Анны было такое чувство, будто она внезапно обрела слух. Слова раненого солдата и его жены донеслись к ней с такой силой, с какой доносится зовущий клич вольной птицы до птицы, заточенной в клетке. Она сразу поняла их значение, но раздумывать над обжигающей истиной услышанного не смела. Ведь все, что окружало ее до сих пор, выглядело либо беспросветно мрачным, либо святым и непорочным. Но слова, сказанные прохожими, не давали покоя. Они тревожили больше, чем кровяная мозоль на пятке. Мозоль она еще утром смазала лампадным маслом и перевязала чистой тряпочкой; но ведь слова не смажешь, ваткой не обернешь – они как живые свербят в самой середине мозга.
Женщине сделалось не по себе. Она собралась уже окликнуть свою спутницу, попросить ее пойти рядом, поведать старшей и многоопытной о вдруг нахлынувшей греховной тоске, чтобы вдвоем отогнать прочь и развеять мысли, но что-то необоримое, похожее на ревность, сковало ее волю. «Нет, я сама, – упрямо решила она. – Пусть Христос свидетель и больше никто. Да скоро ли они исчезнут?! И о чем, о ком, зачем я думаю, о господи!.. О себе, – так весь мой путь теперь освещен твоим неизреченным светом. О ближних, – так у меня их нет; одна душа моя мне ближница и советница, как учишь ты, господи. Ну скоро ли, скоро ли исчезнут?!»
И верно, едва за извилинами тропы скрылись, наконец, белый ободок на голове солдата и пылающий костром полушалок его подруги, женщина вздохнула свободней: быть может, искушения кончились и невольный грех сомнения удастся замолить. Она даже улыбнулась, резко прибавила шаг, но тотчас со стоном присела на тропу: ребенок шевельнулся внутри, и в поясницу снова ударила боль. «А-а, вот оно! – мысленно воскликнула она, вновь ощутив вместе с болью радость материнства. – Вот о ком, вот о чем думала я».
– Сестрица!..
Старшая обернулась и поспешила к спутнице, но та неожиданно махнула рукой:
– Не ходи, сестра, мне лучше!
Она сказала наполовину правду. Боль стихла так же внезапно, как и возникла, но не из-за этого больная отослала назад свою спутницу; причиной были следы на тропе. Женщина увидела их в тот момент, когда окликнула старшую, и вдруг ее охватило неодолимое желание побыть наедине с ними. Свежие, точно отлитые, на густом черноземе следы несомненно принадлежали солдату и его подруге. Случись это немножко раньше, странница, конечно, устрашилась бы своей находки, приняв следы чужих ей людей за новое искушение; возможно, снова позвала бы на помощь свою спутницу. Но теперь к ней возвратился прежний страх, страх за будущность своего ребенка.
Женщина брела, глядя на следы, и напряженно думала. В ее воображении отпечатки мужских сапог и женских туфель словно оживали. Будто ведя между собой осмысленную беседу, следы не перебивали друг друга, а время от времени, исчезая с тропы, смолкали, как бы для того, чтобы дать ей самой разобраться в смысле сказанного.
Широкостопный, с подковой на шипах след солдата, казалось ей, вздрогнув от изумления, воскликнул: «Тебя в секту скрытников? С ума сойти!» – и обернулся к следу туфли.
Женщина помнила, что в возгласе изумления будто действительно проскользнул тогда страх сумасшествия, – недаром при этих словах солдат так резко обернулся к жене. Ясно помнилось и то, что в этот момент волглый лист, на котором полулежала странница, показался ей колючим. Но чем грозит все это ее ребенку? Сумасшествием? Ведь он не скрытник, не странник, он только дитя!
Но с тропы, будто наяву, прозвучал голос другого следа. Лункообразный, будто ткнутый батогом впереди идущей странницы, он откликнулся первому тотчас: «Нет дураков, чтобы живьем в могилу лезть!» – и замолчал, словно ожидая чьего-то отклика.
Странница припоминала, что она тогда позавидовала счастливой солдатке. Позавидовала ее лучезарному полушалку, ее бордовому плюшевому жакету и розовому платью. Она позавидовала даже ее голосу: чистый, упругий, как звон струны, он исходил, очевидно, от самого сердца. Сначала умиленная нарядом женщины, потом оглушенная ее словами, странница забыла в первые минуты, кто она сама, где находится и что с ней происходит; только выбравшись на тропинку, она поняла смысл услышанного – и испугалась. «Нет дураков? – спросила она себя. – А если есть? Не я ли в их числе? Живьем в могилу лезть… Не верно ли это – живьем в могилу? Господи, что это со мной сегодня?.. А с ним, что будет с ним?.. Ведь я не встречала странниц с малютками, хотя беременных видела. Грех бродит с нами по обителям, грех и бесчестие, а младенцев нет. Вон Неонила говорит, что их в мир подкидывают. Сама сестра Платонида этим занимается. Ужели взаправду? А я… я не дам. Не дам! Не поддамся Платониде. Он у меня первенький!»
Она опомнилась, страшно перепугавшись: не крикнула ли последнюю фразу, последнее слово? Но ее спутница спокойно шла впереди своими мягкими шажками. Значит, не слышала, и все обошлось благополучно. Рукавом стеганой кофты женщина отерла пот с лица и, опять закусив уголок платка, побрела дальше. «Вот тебе и Платонидушка, – думала она. – На все руки мастерица. И обратит, и окрестит нас грешных, и с младенцами справится. Вот тебе и убогая, кривобокая да хромоногая. Везде успела. У нас побывала и здешних не забыла, даром что триста верст. Похаживает, попрыгивает!»
Женщина хорошо помнила странницу сестру Платониду, хотя не встречалась с нею ровно год. Это безликое, точно червяк, существо, появившееся на их хуторе с последними мартовскими буранами, было принято хуторянами сначала за нищую, затем за прежнюю монашку. Обойдя все семь дворов и благочестиво побеседовав с женщинами (она не спешила уходить – тут поест, там попьет или просто погреется), странница к вечеру зашла и в крайнюю избушку одинокой солдатки Анны Дреминой.
– Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! – произнесла она, глядя куда-то в сторону, от разукрашенной божницы, и поклонилась Анне чуть не земным поклоном.
– Аминь, – сказала Анна, как обычно отвечали гостям ее отец и мать – староверы.
Сама она, выйдя замуж за «поповца», давно отвыкла от этого слова и, если бы не церковь, быть может, и забыла бы его. Сейчас оно вырвалось у нее нечаянно.
Искривленная и будто подпертая посошком низенькая фигурка странницы вдруг стала выше, обтянутое белым платком темно-желтое лицо ее посветлело, безгубый рот вытянулся в шнур над острым клинышком подбородка, а огромные иссиня-черные глаза вспыхнули точно два угля.
– Не забыла древлего благочестия? – не то спросила, не то поощрила старуха, и от ее голоса на одинокую хозяйку повеяло теплом. – Не отринула родительского?.. Дай-ко сяду… Токмо и хвалить – погодить. Пошто идолят деревянных на пречестное место вознесла да изукрасила? Пошто святыя медницы вряд с треклятой осиной поставила?
Она повела вдоль божницы своим огненным взглядом и, не дожидаясь ни ответа, ни приглашения солдатки, проковыляла к столу и села спиною к иконам.
– Не гоже это, Аннушка, – продолжала странница, к удивлению хозяйки называя ее по имени. – Не гоже!.. Ночевать у тебя стану, душа к тебе льнет. Только ты, того, уважь старуху, сокрой от взоров осиновое поповское суемудрие вон хоть тем половиком от порога. Чистого идолы не достойны!.. Подь-ко, помоги хламидину снять, тепло у тебя.
Анна до сих пор не могла понять, как это она, потеряв в тот вечер всякое самообладание, оказалась во власти старухи-странницы? Видя мерцающие черным блеском, а иногда вспыхивающие огнем глаза старухи и слыша ее чаще молодой и певучий, чем резкий металлический голос, она делала все, что просила пришелица. Конечно же, она оставила ее ночевать, – солдатка была довольна, что хоть один вечерок побудет с человеком. Помогла старухе раздеться, удивившись при этом, что крытая дешевым бобриком шуба нищенки была на беличьем меху и весила не больше, чем пуховая шаль Анны. Этой-то шалью хозяйка и закрыла иконы, оставив, по приказу странницы, лишь одну медную иконку-раскладушку.
Через час обе сидели за прокопченным чугунком (самовар старуха назвала сатанинской посудиной) и пили кипяток с вареньем. Из уважения к гостье, а может быть, скорее из страха перед ней, одну воду без заварки пила и хозяйка. Прихлебывая из блюдца, странница не переставала говорить. Ее воркующий, словно подогретый кипятком и подслащенный вареньем, голос журчал ручейком, а из щели безгубого рта будто выкатывались точеными шариками одно к другому подобранные слова.
– Ведаю, Аннушка, все бытие твое, аки в воду зрю. Батюшка с матушкой припадали ко стопам евангельского благочестия – мир праху их и пресветлый рай душам, идеже праведники упокояются! Ведаю, что дщерь единственную воспитали в посте и молитве. Отроковицей ангелом бесплотным пребывала, былинку притоптать боялась, тварь неразумную не обидела. Аль не так было?
Она обшарила лицо Анны своим мерцающим взглядом; и та, отставив чашку, сунула в рот кончик уголка полушалка. Заметив ее смущение, странница продолжала:
– Ведаю, како девица Анна, заблудши во грех, прогневила родших ее, иновером да табашником, игрателем да скакателем прельстилась. Аль опять лжу? Не затворяй уста, Анна, не согрешивый да не кается, а не покаявый да не спасется!
– Было, – промолвила Анна, сжавшись под взглядом старухи. – Грешна и каюсь.
– Аминь!.. Христос ныне взыскал тебя, грешницу. По велицей милости его ты семнадцать годов нудилась в Содоме и Гоморре, семнадцать годов – нечет в числе-то, разумей, – зализывала раны на теле своем от смердящего пса, мужем нарицаемого!.. Пошто у попов-златоризцев благодати искала? Пошто в их идольское капище хаживала? Чернорясцы-монахи – грех грехов и суета сует, а златоризцы попы – геенна зловонная. Личина – во святых апостол, а по делом своим Вараввы-разбойники!
По мглистому лицу старухи прошла судорога, безгубый рот искривился и передернулся, устремленные на Анну зрачки глаз стали острыми, точно вся сила пламенного взгляда вдруг сосредоточилась в них. Анна выронила чашку и сперва даже не почувствовала ожога на коленях: такой хулы церковников она не слыхивала даже от отца. Старуха выпрямилась, вскинув голову, и с новой страстью повысила голос.
– Я, раба Платонида, – возгласила она, уперев сложенные щепотью пальцы в грудь, – провозвестница Христа истинного, господа бога единого, говорю тебе, Анна: восстань ото сна!.. Троюжды прокляни богомерзкое замужество твое, ибо язычник и мучитель твой с поля брани не воротится, яко в воду зрю!.. Христос покарал его. Подох, окаянный, яко Голиаф от десницы Давыдовой, истинно реку. Кинь, Анна, и худобу свою, ибо не твоя она, колхозова; плюнь и отшатнись от нее, как от скверны. Прозрей, слепица, грехи твои бесчисленны есть! Отринь мирское и спасайся покаянием. С покаянием же, раба нечистая, гряди за Христом во царствие его!
Петух в подполье откричал полночь, в семилинейной лампешке догорал керосин, в избе воняло гарью обсыхающего фитилька; и, быть может, от этого смрада или еще от чего у Анны кружилась голова, но проповедница не переставала говорить. Точно длинную кошмарную сказку выслушав от старухи всю свою жизнь, Анна уже не сомневалась, что Платонида – провидица: откуда же иначе знать пришлой страннице все Аннины горести, да еще в таких подробностях?.. Солдатка сидела, будто придавленная словами Платониды, а старуха толковала ей уже каноны богохранимой общины «взыскующих града святого», истинно православных христиан странствующих.
– Во свете его узришь свет, Анна! – наконец воскликнула она с неожиданной для ее тщедушного тельца внутренней силой. – Не мудрствуй лукаво над стезей своей, припади к нетленному Иисусу, ибо, зрю, спасешься с ним и возвеличишься!
– Аминь, – невольно прошептала Анна.
Старуха расслышала шепот женщины, по ее плоскому лицу проскользнуло нечто вроде улыбки, она отвернулась к божнице, потом заметно осевшим голосом попросила:
– Поставь-ка триликую медницу в другой уголок, помолюся я.
Приготовив постель для странницы на широкой лавке, Анна постелила себе поблизости на скамье. После молитвы Платонида не вымолвила ни слова, а на вопрос Анны, не низко ли будет под головой, она лишь неодобрительно покосилась на нее и отложила в сторону мягкую подушку. Не успела Анна убрать со стола и погасить свет, как странница натужно захрапела. «Ей думать не о чем, – вздыхая про себя, заметила Анна, – одной ногой она уже в раю… Пророчица!»
Не раздеваясь, солдатка осторожно присела на скамью и некоторое время с благоговейным трепетом глядела на гостью. Через окно на лавку падали белесые блики, и в их мертвенном отсвете уродливое тельце Платониды, вытянутое под простынкой, представлялось еще более хлипким и еще более призрачным, чем при свете лампы. Сухое лицо странницы с круглыми впадинами глазниц напоминало Анне маску, какими в ее молодые годы на святках парни пугали девушек. От этих круглых ямин все холодело внутри Анны; ей казалось, будто под темными старушечьими веками, точно под слоем пепла, то мерцали, то вспыхивали дотлевающие угли.
Истово перекрестившись, Анна легла, но с нею вместе устроились и ее думы; и чем ближе к ней придвигались они, тем дальше от нее убегал сон. Будто разворошенные остроконечным посошком странницы, изо всех углов выползали и во весь рост поднимались одно другого ярче, одно другого ощутимее, казалось, уже потускневшие от времени воспоминания. Было и обидно и стыдно, что чей-то чужой глаз – пусть даже всезрящее око провидицы – бесцеремонно заглянул в самые потаенные места ее жизни и безжалостно оголил вконец истерзанную душу.
Да, извилист и греховен путь, которым Анна шла с отрочества до этих дней, но он же и тернист, что угодно богу. Она помнит все и, помня, молится вон тем своим медницам; но разве ее вина, что бог не принимает ее молитвы, не слыша или презревая их? Да, она готова и впредь молиться и каяться, – но как сделать так, чтобы стать ходатайницей перед богом и за себя и за мужа? Ведь бабка и мать с колыбели твердили ей, что жена и в могиле раба своего мужа, а провидица Платонида учит проклясть его, мучителя и язычника. Где она, истина?..
В истинах – как в жизненных, так и в религиозных – Анна заблудилась давно. Единственная дочь благочестивых и не бедных родителей (как писалось в прочитанных Анной «житиях святых великомучениц»), она постигла грамоту не в школе, а от отца – по библии и по псалтырю, воспитывалась бабкой и матерью на ветхом завете и евангелии и лишь к шестнадцати годам впервые одна, без строгой матери, прошла по улицам родного села. Подружка у нее была единственная, слепорожденная и косноязычная Параша, та самая, которую изнасиловал и бросил в колодец молодой колчаковский офицер. Анну же природа не обидела ни лицом, ни станом; и не ее вина, что до двадцати пяти годов она невестилась. «За коммуниста не ходи: богохульник, – строго наставляли ее родители-староверы. – За комсомольца не моги: тот же коммунист». А ведь сватались. Засылали сватов и беспартийные, только первый был православным, а другой – католиком. Приходил и старообрядец, но уже вдовец с двумя детьми. Анна согласилась было, да снова вмешались родители, и свадьба не состоялась. Над Анной нависало вековушество. И вот весной на село приехал нездешний паренек, не красив, но с ремеслом шорника, в крестьянском быту незаменим; гармонист и певун, но ведь «с кем грех да беда не живет», авось с годами остепенится. Был он моложе Анны на четыре года, зато повыше ее на две головы – чем не жених? И Анна впервые пренебрегла заботой отца и матери, ушла из дома. Записались они с Павлом в сельсовете, сняли комнатушку и занялись шорничеством. Рукодельница с детства, Анна быстро одолела это ремесло. Зажили на зависть людям. Она ничего лучшего не желала, а Павла тяготило одно: он не знал, куда девать по вечерам свободное время. Ходить с гармошкой в табуне холостяков и орать песни на улице – стеснялся, а изба-читальня – ее почему-то называли народным домом – либо была под замком, либо зазывала на лекции о ликвидации трехпольных севооборотов или организации машинных товариществ. Скуки ради он дважды забрел в церковь, чтобы послушать пение. Понравилось. Любитель попеть, в другой раз Павел сам подладился к хору и с тех пор зачастил к обедням и вечерням. Через полгода, понимающий певец и способный музыкант, он стал церковным регентом. Звал Павел в хор и жену, однако, воспитанная по иным правилам, Анна отказалась, хотя не возражала, что муж прирабатывал в церкви ради достатка. Как-то в субботний вечер Павел пришел домой выпивши. «Провожали старого псаломщика и обмывали нового», – загадочно ухмыляясь, объяснил он жене. Этим новым псаломщиком оказался сам Павел… Для Анны это событие было страшным ударом: дочь исконных старообрядцев, сама старообрядка, она стала женою духовного лица православной церкви!.. Если до сих пор Анна сторонилась односельчан, переживая позор самовольного замужества, то теперь вовсе замкнулась в своей комнатушке с хомутами и уздечками, стыдясь показаться на глаза даже заказчикам. Павел являлся пьяным все чаще и чаще. Он угощался либо на именинах у священника, либо на поминках у дьякона, то на престольном празднике Фрола и Лавра в одной деревне прихода, то на Троеручице – в другой, или на крестинах у Петра Ивановича, или на бракосочетании у Ивана Петровича. Выпивал молодой псаломщик по случаю получки с ктитором и по поводу дружбы с регентом. В канун крещения, ровно через год после свадьбы, явившись с освящения нового дома сельского нэпмана-лавочника Карнаухова, Павел впервые избил жену и «вышиб из нее» первого ребенка, пятимесячную девочку. Через день, похмельный от крещенского угощения, Павел понес гробик на кладбище и, от двери обернувшись к жене, угрожающе проговорил: «Больше не смей беременеть! Отец Вениамин отказался крестить ребенка от тебя, от староверки. А какой же я псаломщик с некрещеным дитем?» Выздоровев, Анна решила сходить к отцу Вениамину с жалобой и с просьбой. «Муж – господин жене своей и чадам своим, – сказал священник, выслушав жалобу Анны, а на просьбу ее ответил: – Окрестить тебя мой долг, но прежде налагаю на тя епитимью при церкви. До праздника святого крещения, когда примешь крещение и ты, станешь блюсти всемерное благолепие храма сего. Чтобы не потерять мужа и, будучи с ним в церкви, попытаться охранить его от пьянства, Анна согласилась принять это тяжкое наказание. В течение года она изо дня в день безвозмездно мыла церковные полы, стирала и чистила покровы и коврики, протирала и начищала деревянную и металлическую утварь. Зато частенько уводила Павла домой трезвым и мирным.
Перед праздником рождества она по приказанию священника протирала паникадило, подвешенное к потолку в самой середине церкви. Стоя на лестнице-стремянке, женщина не заметила, как кто-то вошел в помещение, приблизился к лестнице и встал под нею. Почувствовав на себе чей-то слишком уж необычный взгляд, Анна глянула вниз, схватилась за подол юбки, крикнула: «Отец дьякон, что вы!» – и, потеряв равновесие, рухнула на пол вместе с лестницей. Она видела, как в северных дверях алтаря мелькнул подол серой дьяконской рясы, но сколько ни звала на помощь – церковник не вышел. Окровавленная, Анна выползла на паперть и закричала…
Так потеряла Анна второго ребенка.
Больше она в церковь не ходила; не стал ходить туда и Павел, он вдруг увлекся покупкой дома на хуторе. Анна понимала его по-своему: после неудачной церковной карьеры бывшему псаломщику, теперь лишенному права голоса, несносно было в многолюдном селе, его одолевал стыд. На хуторе Павел пил реже, видимо, на «старую закваску», но пил, а опьянев, бил жену, если она не успевала спрятаться.
Пил и бил потому, что он лишенец и ему «все равно», потому, что мало заказов на шорные работы, потому, что он православный, а она как была так и осталась староверкой. Чтобы избавиться от попреков мужа в их разноверии, Анна купила две деревянные иконы и украсила их, но свою медную, трижды раскладную иконку держала на той же божнице и молилась только ей, старообрядческой. Чтобы иметь работу, часто бегала в село, выпрашивала у крестьян неисправные хомуты, седелки, уздечки и, обвешавшись сбруей, радостная возвращалась на хутор. Ходила и в сельсовет, вымаливая Павлу право голоса. Наконец восстановленного в избирательных правах Павла приняли в колхоз; работы шорнику хватало – зажили безбедно, однако и тогда Павел не перестал пить и драться, очевидно, по привычке. И так до самой войны.
Осолдатев, Анна остро почувствовала одиночество. Трезвый Павел любил поговорить; работая, умел спеть, пошутить, рассказать побасенку, а теперь вдруг стало совсем пусто и в доме и во дворе. Соседки, и прежде очень редко заходившие к Анне из-за характерного Павла, теперь почти не заглядывали к ней: все семь хуторянок проводили мужей на войну. Село, где жил кое-кто из близких родственников, стояло в трех километрах от хутора, и Анна ходила туда раз в два месяца за керосином и за спичками. Домой же к Анне Дреминой заглядывал разве только старик-конюх – седелку починить либо хомут перетянуть, но, посидев немного, спешил к лошадям. Новости у деда третий год были одни и те же: «Сломя голову напирает фашист на нашу землю, а, слышь, англичанцы с американцами еще и не у шубы рукав!» Правда, по осени забегали к Анне пионерки, чтобы сагитировать ее связать носки либо варежки для фронта; потом побывала сельсоветчица, поинтересовалась, не нуждается ли красноармейка Дремина в помощи. И снова солдатка жила одна-одинешенька. Даже почтальон не заходил вот уже четыре месяца, хотя прежде бывал частенько… значит, незачем… Спасибо, бог занес к ней хоть эту странницу – в избе вроде живьем запахло.
Ночь показалась Анне светлей и короче. Но откуда и как Платонида рассмотрела самые сокровенные стороны жизни Анны и Павла, если Анна рассказывала о них только покойной своей матери? «Провидица, – шептал Анне уже знакомый внутренний голос. – Пророчица!»
Платонида гостила у Анны две недели. За это время Анна наслушалась откровений, каких прежде не читывала и в пятикнижии. Она целыми днями не дотрагивалась до шильев и ножичков, бродя по дому и двору как в тумане. Поздними ночами, после душеспасительных бесед, они уже вместе со странницей молились перед медной раскладной иконкой. Платонида, по праву наставницы, клала «начал», а хозяйка отвечала «аминем». Готовя постель, Анна теперь закидывала в угол обе мягкие подушки, по ночам часто просыпалась, чтобы снять нагар с фитилька Платонидиной дорожной лампадки и положить установленные проповедницей для грешницы предполночный, послеполночный и предзоревой поклоны. Но в последнюю перед уходом в странствие ночь Анна не сомкнула глаз. Сквозь сумрак и тишину ей чудилось, что вся ее немудрая домашность прощается с нею и жалостливо и строго. Перед послеполночным поклоном что-то зазвенело и зашуршало под печкой. Такое бывало и прежде, и Анна знала, что это котенок играет старой, бросовой уздой; но ей казалось, будто сегодня и шорох уже очень тих, и позванивание слишком нежно. Стало жаль котенка, все-таки целый год прожили вместе. Она позвала его, ласково погладила и посадила на теплую печку. Но едва успела прилечь, как под обоями завозились тараканы, шумно, торопливо, словно спешили вырваться из избы. «Неужто и они чуют, что ухожу?» – с жалостью к себе подумала Анна. С улицы доносился скрежет, это скрипел ставень. «Все родное, все своя… худоба! Как бросишь, кому доверишь, навечно-то…»
На рассвете ее испугал петух. Он проорал неистово и, казалось, озлобленно свое заученное, но Анне померещилось, будто петух приказывал ей: про-го-ни-ка! «Провидицу-то? – отвечая своим мыслям, ужаснулась Анна. – Святую… С ума сошел!»
Тотчас после утренней молитвы Платонида потребовала растопить печь. Анна принесла охапку хвороста и разожгла огонь. Помедлив, пока пламя охватило весь хворост, проповедница вспрыгнула на лавку, подхватила обе деревянные иконы, проворно швырнула их в огонь и схватила кочергу.
– Во имя Христа!.. Во имя истинного! – вскрикивала она, нахлестывая кочергой по иконам. – Прах!.. Прах!.. Прах!.. Идольский прах, и аминь!.. Аминь!.. Аминь!..
Старуха захлебывалась, приседала, подскакивала; казалось, что она вот-вот сама впрыгнет в печь и примется колотить по иконам кулаками. В ее огромных глазах металось осатанелое пламя.
Похолодев от ужаса, Анна сидела на полу. Она всхлипывала и протестующе трясла головой. Платонида подняла ее, усадила к столу, разложила перед ней исписанную бумагу и сунула в руки карандаш.
– Подпиши, – приказала она, – именем и… и это самое… бесово тавро.
Как и полагалось истинноправославной христианке странствующей, Платонида не произнесла запретного в общине слова «фамилия», назвав ее презрительно бесовым тавром.
– Пиши!
Как в тумане, Анна видела перед собой какой-то список. «Изба на два окошка… сенцы из досок… погребушка… три курицы с петухом… другая худоба… дарую…» Дальше следовало не менее знакомое: «Луке Полиектовичу Помыткину». Это был двоюродный дядя Анны, и она подписала бумагу.
К вечеру с Платонидой пришли в село. Еще скованная утренним потрясением, Анна не удивилась, что странница привела ее к дяде Луке Полиектовичу. В старинном пятистенном доме стояла сжимающая сердце тишина. Оставив Анну в прихожей, проповедница вошла в светлицу, а оттуда тотчас вышла другая странница, похожая на Платониду и платьем – темным саваном, и белым платком, повязанным под булавку, и серым лицом с фиолетовыми прожилками, даже запахом – от нее пахло ладаном.
– Можно раздеваться и проходить, – певуче пригласила Анну странница. – К святому приятию все готовенько, водичка тепленькая… Вот свечечка.










