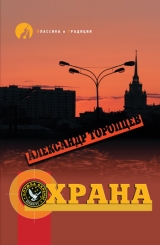
Текст книги "Охрана"
Автор книги: Александр Торопцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Майор Прошин хотел сказать видному онкологу о том, как часто в последние пять лет теща называла его фамилию в телефонных разговорах, как настойчиво пыталась прорваться к нему. Не смогла. Слишком видный был онколог. Сергей не сказал врачу об этом. Прощаясь с ним, он не смог сказать и другое: «Я в долгу не останусь. Машину продам, а то и дом деда, и дачу. Я все продам. Только сделайте что-нибудь».
Не сказал он этих слов и на следующий день и через неделю. Не потому что робость в таких делах деревенского парня, ставшего майором, была тому виной. Здесь было другое, двойное. Сергей видел, какие люди разговаривают с видным онкологом, и понимал: если уж давать, то… давать-то ему нечего! Хоть трусы свои последние продай с носками впридачу – все одно мало будет. Да и поздно, поздно о распродаже думать. Давай, не давай – все бесполезно. Уходит поезд, уносит жизнь единственного существа, с которым жизнь казалась Сергею Прошину счастьем.
Жена дотянула до октября и ушла в мир иной под утро. Во сне. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, в глубине, рядом с дедом, погибшим давным-давно.
Не прошло и девяти дней, как на майора Прошина свалилась новая печаль. Отказали ему в повышении почему-то. Несколько месяцев он понять не мог, почему же так несолидно с ним поступили. Сначала обещали, серьезные люди обещали, сам генерал по плечу похлопывал на совещании еще в начале лета, повторяя басовито: «Готовься к новой должности». И вдруг полковник Чагов Иван Ильич призвал его утром, за день до девятин, и как обухом по голове: «Не получилось у нас с твоим повышением. Времена сейчас такие, что… сам понимаешь».
Майор Прошин поднялся со стула, хотел сказать: «Разрешите идти?» но Чагов остановил его:
– Ты садись, поговорить надо по душам. И не кипятись. Держись. Ты человек сильный. Не размазня московская.
Они говорили по душам три часа. До обеда. Чагов, руководитель и офицер от Бога, как говорится, нашел верный тон, успокоил взволновавшегося Прошина. Волноваться-то ему было от чего. Какие-никакие деньги ему платили, службу он знал, нареканий не имел, с людьми ладил, считался человеком надежным. А теперь? У него же дочь на второй курс перешла. Ее тянуть и тянуть еще. А разве на пенсию офицерскую вытянешь?
– Поверь, Сергей, мы сделали все возможное. – Чагов прямо смотрел собеседнику в глаза. – Но не мы с тобой выдумали этот кавардак. И не нам за него отвечать. Нам работать надо. Детей поднимать. И – да ты не перебивай, слушай – я говорю тебе со всей ответственностью: будешь держаться за меня, на гражданке не пропадешь. Я ведь тоже увольняюсь. Уже рапорт подал.
– Как?! – вырвалось у Сергея, но окончание фразы он выкрикнуть просто не мог: – Как тоже? Я рапорт не подавал. И подавать не собираюсь!
– Я уже полгода наводил мосты. Связи у меня в Москве есть. Найдем дело. Для таких, как ты, как мы с тобой.
– Иван Ильич, – хотел о чем-то спросить майор полковника, но тот будто бы все вопросы его знал заранее.
– Ты сейчас в переводе на зеленые получаешь около сотни. Этого тебе не хватит. Не говоря уже о дочери. У меня в ЧОПах люди есть. Работа не бей лежачего. Сутки дежуришь, трое отдыхаешь. Три сотни долларов. Орехова помнишь из седьмого отдела?
– Он год назад уволился.
– Два года назад. Он банк ведет. Место у него есть. Я попросил подержать место недели три для тебя. А сам я людей в одну контору богатую набираю. Там тоже будет три сотни. Если хочешь, имей в виду. Тебе не откажу. Можешь работать и там, и здесь. Шесть зеленых плюс пенсия. Хватит на первое время, а, как ты думаешь?
– Хватит, Иван Ильич.
Для Сергея Прошина эти сведения не были новостью. Не на Луне он жил, а на Чистых прудах, и служил он в коллективе, который с 1991 года стал похож на какой-то проходной двор со множеством дверей, откуда постоянно вылетали новые люди и куда они быстро улетали. Причем, многие – на гражданские хлеба. Ротация была страшная. Прошин, хоть и надеялся на повышение, а значит, на возможность прослужить еще несколько лет, запасной вариант держал в уме. Он знал многое о ЧОПах, в том числе и о ЧОПе Орехова, но до разговора с Чаговым старался об этом запаснике думать поменьше. Чагов был человеком иного склада. Поняв, что долго его в органах держать не собираются, он уже три года активно готовил себе запасной аэродром на гражданке. Да не дачу с огородом и теплицами, а крупное дело готовил он. Чагов мог делать крупные дела.
– ЧОП для меня да и, надеюсь, для тебя будет своего рода смотровой площадкой с приличным по нашим временам окладом. Поработаешь, осмотришься, освоишься, дело себе найдешь. А я помогу. Вот моя визитка. Сейчас я впишу туда номер мобильника. Вчера купил. Не теряй со мной связь, Сергей. Не пожалеешь. В пиф-паф мы играть не будем. Наигрались. Но и свое упускать не станем. Мы сильные люди, верно?
– Верно, Иван Ильич.
Они продолжили эту тему в столовой, а на следующий день, как раз в девятины, поутру, Прошин подал рапорт. Сослуживцы отнеслись к этому спокойно. Те, что повзрослее, – с пониманием, их всех ожидала в скором будущем сия же участь; молодые – с уважением, неплохой был майор Прошин, врагов, завистников не нажил, впрочем, какие завистники у майора со стажем в двадцать один год?
Провожали его сразу после сороковин. Но уже до сороковин он две недели работал в ЧОПе Орехова. Чагов сдержал слово, помог Прошину добыть быстро и бесплатно документы на ношение оружия, на занятие частной охранной деятельностью, свел его с Ореховым. Тот отправил нового «инспектора охраны» в небольшой банк по соседству с «Олимпийским». Работа действительно не бей лежачего. Банк располагался на втором и третьем этажах кирпичного здания. Вход отдельный, две камеры. Крутая лестница – две камеры, на лестничной клетке – решетка – камеры, автоматическая дверь, открываемая с пульта охранников, – камеры, комната охранников – слева, дверь в банк – справа.
В комнате охранников – богатый кожаный диван, раскладной, прямо тебе сексодром, на котором, правда, этими делами заниматься строго запрещено. Строжайше. Орехов, бывший подполковник, человек дерзкий, но правильный, побывал в двух горячих точках, чуть не получил Героя, но разговорился слишком уж откровенно не там, где надо, и даже очередное звание не получил, не то что заслуженную награду. Рвался в очередную горячую точку – не прорвался, хотя люди там нужны были опытные. Но не говорливые. В 93-м он сгоряча написал рапорт. И был таков, хотя горячих точек на его горячую голову в стране, да и на земном шаре в целом, вполне бы хватило. Даже с лихвой. Говорил он грубо, с напором, с какой-то даже спесью, явно не по званию. Это настораживало Сергея. Но говорил-то Орехов все правильно.
– В этом банке я полгода. До меня тут такая публика была! Качки дутые, как детские шары. Мышцы – во. В глазах – ноль. Словарный запас вообще на минусе. Но горластые. Гориллы, честное слово. Они тут всех достали. Мало денег, мало денег, мы жизнью рискуем. А сами бордель развели самый настоящий. После них диван сменили. Тьфу ты! Так что имей в виду: на службе – только служба. Узнаю, что бабу сюда водишь или банковскую какую-нибудь пригреешь на этом сексодроме, обещаю – ЧОПов тебе не видать. Даже Чагов не поможет.
– Я же не за этим сюда устраиваюсь.
– Вот именно.
Орехов держал охранников банка в строгости. Они, однако, спокойно относились к этому, хотя каждый из них и мечтал по вечерам, когда служащие покидали банк, о каком-нибудь приключеньице. Догадываясь о мечтах подчиненных, Орехов добился от руководителей банка качественного улучшения технического обеспечения охранной службы. Одна из камер – на входе, другая – на лестнице, третья – у входной двери в помещение банка, четвертая – у входной двери банка и пятая – в коридоре, где постоянно, круглосуточно, днем стояли, а ночами сидели, не моргая, охранники на посту – выдавали сигналы на записывающие видеоустройства.
Неискушенному в банковском и охранном деле человеку трудно было понять, насколько улучшились дела этого финансового учреждения и качество охранной службы после этих нововведений, но Орехов, человек крайне строгих моральных устоев, был доволен. Во-первых, он пробил лишнюю должность и пристроил на нее своего боевого товарища, с которым бывал в чертовских переделках в Средней Азии, во-вторых, и в главном, ему удалось на треть увеличить собственный оклад за то, что он два-три раза в неделю по несколько часов кряду сидел в специально выделенном для этого помещении за монитором и отсматривал в быстром темпе видеозаписи со всех четырех видеокамер, подменяя на этой очень ответственной работе боевого товарища. Работа была не в радость. После каждого просмотра в соответствующей графе журнала он делал запись, ставил подпись. Затем делал еще одну запись о том, что он, начальник объекта, проверил работу «инспектора по видеооборудованию, замечаний нет». Затем Орехов ставил подписи в других журналах и бежал, если время позволяло, на другой объект заниматься тем же. Всего у него было три объекта.
И на всех объектах он сумел убедить вышестоящее начальство качественно, на современном уровне улучшить техническое обеспечение охранной службы. Владельцы были довольны, подчиненные вспоминали его недобрым словом по несколько раз в смену, радуясь лишь тому, что он не поставил камеру в комнате отдыха охранников. Тогда бы совсем дело – труба. Баб-то уж ладно, можно на объект не водить, но бывают случаи даже у охранников, когда просто надо выпить по соточке или по две-три. Скажем, юбилей кому-нибудь подоспел, а то и просто так, с устатку или с похмелья. Святое дело – соточку по делу пропустить да хорошенько закусить, а потом либо на пост в коридор, либо на диван – отрубиться от забот на несколько часов.
Алкашей и даже обыкновенных любителей крепких напитков в командах Орехова не было, он за этим делом следил, но даже он вместе со всеми инженерами земного шара еще не придумал видеокамеры с нюхательными приборами или с определителями алкоголя, принятого человеком на посту. И эта техническая несовершенность здорово помогала бывшим офицерам коротать ночное время, хоть на кожаном диване, похрапывая под звуки телевизора, а хоть и стоя-сидя на посту с книгой в руках. Кстати, о книгах. Орехов, запомнив еще в ранней юности ходкую в те годы фразу о том, что его славные соотечественники являются помимо всего прочего еще и самыми читающими в мире людьми, зная, что эта тяга к любому чтиву осталась у россиян, а также у некоторых других народов ближнего зарубежья, не попытался даже запретить на словах или письменным указом ночные чтения на посту. Хотя подобные, совсем не антиконституционные указы в некоторых ЧОПах столице уже появились, и Орехов об этом знал.
Орехов не то чтобы нравился своим подчиненным, но не вызывал у них чувства отторжения. Он был свой. Пусть и не в доску, но свой.И Чагов был своим, но не для людей уровня Прошина, и люди, которых он однажды собрал у себя на квартире неподалеку от метро Войковская, почувствовали это сразу. Четыре бывших майора, два подполковника, два полковника сидели в зале за круглым столом и внимательно слушали небольшое сообщение Чагова минут на тридцать. Прошин слушал эту речь во второй раз. Но терпел. Как терпел он партийные собрания в столь уж отдаленные времена. Терпеливым он был человеком – это даже теща заметила.
Наконец Чагов перешел к конкретике:
– Одна солидная контора решила сменить охрану. Там молодняк распоясался. Службу не знают. По ночам баб приводят, дым коромыслом стоит, в переговорных прямо на столах любовью занимаются, совсем с ума сошли. Откуда они только набрали таких ухарей. Солидная организация. Короче, если вы согласны, то завтра в 8.00 мы эту команду меняем. Всю. Решать нужно сегодня. Сейчас. Если кому-то не нравятся условия, людей я найду. Три сотни зеленых на дороге не валяются. Решайте.
Пять офицеров, в том числе и Прошин, сразу сказали: «Мы согласны». Один полковник отказался, майор и подполковник пытались потянуть время: «Можно завтра дать ответ или хотя бы сегодня вечером?» Чагов временем не располагал. Он знал возможности каждого из приглашенных. Это был действительно отработанный материал. Пенсионеры. Даже два относительно молодых майора – им бы еще служить и служить где-нибудь в штабной тиши или в каком-нибудь училище, или в райвоенкомате – прошли за пять последних лет через такие передряги, что врагу не пожелаешь. По-хорошему им нужно было прийти в себя, передохнуть, пройти, так сказать, курс реабилитации и после этого полный вперед на коне с шашкой наголо, как говаривал дед Чагова, герой Первой мировой и последующих войн, но в том-то вся и беда, что ничего другого судьба этим людям – да уж и не совсем это отработанный материал! – не предоставила. Только охрана как смотровая площадка и возможность найти дело посерьезнее. Или на даче спивайся потихоньку под присмотром верной жены.
– Даю на размышление два часа, – сказал Чагов, заметив удивленно, хотя и без особого огорчения. – Что же вы чай не пили?! Торт никто не попробовал!– Серега! Ты уже полчаса куришь! Дай немного походить, сил нет, в сон клонит. – В дверях конторы показался Касьминов и тут же скрылся, убежал к пульту сигнализации – там звонил телефон.
Прошин пожал плечами («Надо же, две сигареты искурил подряд!») и пошел менять еще совсем тяжелого на вид Николая.
Они познакомились на квартире у Чагова. Покинув ее, обмолвились двумя фразами в метро, на Белорусской расстались: «До завтра!»; «Будь здоров!»
Чагов расставил всех строго по ранжиру. Старшие по званию получили должности начальников смен, майоры – инспекторов охраны. Разница в окладах была десятипроцентной, и это всех устраивало.
Николай вернулся домой засветло. На станции его подхватил Петька, бывший прапор на «девятке», забитой товаром, и в городок они доехали с ветерком, осенним, сухо шелестевшим в кронах потерявших лист деревьев. Петька хорохорился. На станции он взял два ларька, надеялся раскрутиться и к осени купить «Газель», нанять водителя и грузчика. Может быть, даже двух.
– Летом начну стройку. Хочу купить второй участок, – говорил он, подруливая к дому, где жил Касьминов. – Так что если тебе не нужен твой участок, продай мне.
– Зачем тебе два? – спросил Николай, открывая дверцу.
– Чтобы жить по-человечески. Двенадцать соток маловато будет.
– Как у тебя с Кухановым? Расчет получил? Премиальные он выплатил, как обещал?
– Будь здоров и не кашляй! – пассажир пожал руку бывшему прапору и вылез из машины.
Петька служил срочную лет десять назад. Потом пять лет ходил в прапорах. Был он родом из воронежской глубинки, служил исправно, иначе его в части не оставили бы, несмотря на то, что он за пару месяцев до дембеля уломал одну местную девчонку и женился на ней. Майор Касьминов называл его хорошим солдатом. Но прапор он был так себе. А три года назад Петька не стал перезаключать договор, занялся мелким бизнесом и моментально перешел почти со всеми офицерами на «ты». Только командира дивизиона называл по имени-отчеству, и то только потому, что Петькина жена работала в части вольнонаемной. Работала за гроши. Наотрез отказываясь сидеть дома с двумя детьми, даже после того, как муж купил ей шубу из нутрии. В военном городке таких шуб было немного.
«Вот гнида!» – выругался про себя Касьминов, поднимаясь по гулкой лестнице.
Петька разонравился ему давно, еще тогда, когда, будучи сверхсрочником, стал ездить в Москву на оптовые рынки и завозить в городок всякую мелочь. Хитрый и скрытный был Петька. Над ним в то время посмеивались, не замечая того, как меняется бывший прапор и внешне, и внутренне. Менялись у него походка, говорок, мимика. Из шустрого, угодливого, преданноглазого он превращался… пока трудно было сказать в кого, но только не в степенного русского мужика из глубинки, возраст которого перевалил за тридцать.
Бывал он волей-неволей и на гаражной улице. Какого водителя минует участь сия! И здесь он вел себя обособленно. Поговорить не отказывался. Любил слушать местные новости. Быстро привык к тому, что гаражные мужики, частенько подваливающие к нему с одной лишь просьбой – «Дай на пузырь, буксы горят, через неделю вернем!» – выслушивают его безапелляционные приговоры по тому или иному предмету разговора молча, внимательно, не споря, не отстаивая свои позиции. О политике он, конечно же, ни с кем не говорил с тех пор, когда вынужден был, еще рядовым, выступать в ленкомнате на политинформациях или политзанятиях. И высокопоставленных начальников, даже районных, не говоря уже о прочих, он никогда в своих приговорах не касался. Зато всякой мелочи от него доставалось.
Буквально на днях мужики, среди которых, между прочим, было немало офицеров, в том числе и майоров, обсуждали ставшую вдруг насущной для Касьминова тему частной охранной деятельности. Петька подвалил к спорщикам на пике спорной волны. И каково же было удивление Николая, когда он, тридцатилетний бывший прапор, растолковал со знанием дела гаражному люду все о частной охране, поделив ее на три категории:
– Первая. Телохранители. Эти ребята свое дело знают и за него получают приличные бабки. Между прочим, мне их не жаль. Сами в пекло лезут. Но без таких мужиков никуда. Их ценить стоит. (И все гаражные мужики в этот момент поняли, что в скором времени такие телохранители будут и у Петьки, чем черт не шутит!) Вторая. Дутыши перед входами в разные казино-мазино, в престижные рестораны и так далее, как говорится. Эти тоже получают неплохой навар, в основном чаевые. Третья. Инженерье всякое и прочие неудачники по жизни. Они даже не охраняют, а караулят с умным видом на заводах, в разных мелких банках, в фирмах, помогающих тем, кому делать нечего. Так себе, шушера, сброд, подъедающий остатки с чужого стола, барского. Три сотни зеленых им кинут на лапу, они и рады вусмерть. Сброд, он и есть сброд. Дворняги, которым чуть-чуть повезло. Короче, все.
У Петьки нюх был отличный. Он ни словом не обмолвился об офицерах. Будто осенью 95-го года ни одного бывшего офицера в охранных предприятиях не было, и идти они туда не собирались. Будто многие бывшие офицеры военного городка не мечтали о трех сотнях зеленых за десять смен.
Касьминов, огорошенный, не зная, что и сказать в ответ, буркнул мужикам: «Пока!» – и пошел домой, быстро злея на ходу: «Вот гнида! Я за него еще и хлопотал, отпуск выпрашивал!» Он пришел в тот день домой совсем злой, но сдержал себя, сел за стол, жена налила ему тарелку супа, он сгоряча, не подумав, сказал:
– Налей стопочку. Настроение хреновое.
– Тебя же в любой момент могут вызвать на собеседование, подумай! Триста долларов на дороге не валяются. У Куханова ты за четыреста пятьдесят долларов каждый день по семнадцать часов вкалывал. Не надо сейчас пить.
– Он обещал мне премию заплатить всю. А я ему верю. Так что не четыреста пятьдесят, а больше.
– И все равно эту работу не сравнить с той, которую тебе нашел Володя. Не пей.
– Для аппетита. Что я, алкаш какой-нибудь? От одной стопки не будет запаха, усну быстрей.
– Только одну.
– Это разговор.
Они хорошо поели, Николай выпросил еще одну стопку, но больше пить не стал – быстро уснул, позабыв о Петькиных словах, которые, если разобраться, были абсолютно верными. Дворняги, они и есть дворняги. Нашелся добрый человек, пригрел их у себя, кость им кинул с барского стола, живите, грызите, охраняйте и свое место не забывайте. Дворняги – преданные животные. Своего спасителя они… впрочем, нет, и среди дворняг разной твари хватает. В городе недавно одна дворняга укусила прохожего, так тот концы отдал, вовремя к врачам не обратился. У Касьминова тоже такой случай был. Он, правда, успел. Двадцать уколов пришлось вытерпеть. Вот тебе и дворняга. Хорошая собака.
На следующий день Касьминову позвонили из Москвы. Он прибежал на телефонный узел, взял трубку, выслушал брата, сказал: «Спасибо! Обязательно приеду!» Положил трубку, вышел как ни в чем не бывало на улицу, увидел рыжую дворнягу, хватающую мятым боком последнее тепло на солнцепеке у домика почты, сказал ей: «Бестолковая ты псина!» – и гордой походкой направился домой. Жену удивил:
– Ты не горюй! Дворняги, между прочим, первыми в космос полетели.
– Это ты о чем? Договорился? Не сорвалось?
– Ничего у меня не сорвалось. Завтра еду на собеседование. Кусать никого не буду. Налей стопочку.
– О чем ты говоришь, какие дворняги?
– Это я так.
Она под борщ налила-таки ему и себе по стопочке, он не стал говорить ей о Петькиных разглагольствованиях, но сейчас, поднимаясь по лестнице, вновь вспомнил о них, открыл дверь, переобулся, прошел на кухню, спросил жену:
– Ну, скажи, какой же мы сброд, быдло, дворняги?
– Ты о чем? Как собеседование? Взяли?
– Взяли. Еще как взяли. Завтра в 7.30 нужно быть у метро «Проспект Мира». Будем объект принимать. Вот гнида!
– Ты можешь толком объяснить, что случилось?
Николай объяснил. Жена слушала его, не перебивая. Затем сказала, наливая мужу вторую стопку водки и завинчивая надежно пробку – больше ни грамма:
– Озлобился он на людей. Одно слово, младший брат в большой семье.
– Причем тут младший или старший? И потом, откуда ты это все знаешь?
– Помнишь, когда он еще срочную служил, ему в отпуск очень нужно было?
– У него отец-фронтовик умирал. Заключение врачей он мне лично показывал. Я к командиру ходил, еле уговорил. Учения ожидались. А он, гнида, такое говорит. Недоучка. Я с ним, знаешь, сколько возился, чтобы он нормальным специалистом стал. Дуб дубом. У нас такая техника, а он ни бе, ни ме, ни кукареку. А теперь… Не понимаю, при чем тут младший брат. Человеком нужно быть.
Николай замолчал, жалостливо поглядывая на холодильник, урчавший, как голодный желудок.
– Больше не дам. Хватит. – Жена строго поставила точку, продолжив Петькину тему. – В больницу он приехал вовремя, спасибо тебе. Отец жил еще два дня. Похоронили его, и тут только, на поминках, Петр заметил, что в избе отца ничего нет.
– А что у него могло быть-то?! И причем тут это все?
– Он нам в первый день после отпуска все рассказал, когда документы в штаб принес. Отец у него крепкий хозяин был. Пять лет председателем колхоза работал. Да завотделением больше десяти лет. У него в доме все было: хрусталь, серебро, старинные вещи от отца и деда. Да иконы на чердаке в сохранности. А тут – шаром покати. Стол да лавки. А Петр не маленький был, цену вещам знал. Он нам говорил, что однажды московский какой-то художник – он дом купил у них в деревне – отцу за одну икону почти новые «Жигули» предлагал.
– Светик! Зачем ты это мне говоришь? Лучше бы стопарик нацедила. Его словами не переделаешь. Если он так о людях говорит, значит, он человек гнилой, понимаешь? С таким в разведку не ходят.
– Он после того отпуска сильно изменился. Три брата у него старших. Все при деле. Всех отец успел поднять. А его не успел. Когда Петр их спросил, где вещи отца, они послали его на три буквы и сказали: «Мы за ним больше года ухаживали, ухайдокались, уйму денег на лекарства да на врачей потратили, а ты, сосунок, лезешь со своими вопросами». Он разговаривать с ними не стал и остаток отпуска провел у друзей. Даже не попрощался с братьями, сюда приехал.
– Ну и дурак! Может быть, братья правду ему сказали. Врачи сейчас да лекарства, знаешь, сколько стоят? И потом разве по трем братьям можно судить обо всех людях? Деловой он слишком. Зарываться стал.
– Ты его не суди. Не судим будешь.
Николай понял, что третьей стопки ему не видать, сказал жене «спасибо» и пошел смотреть телевизор.Утром он проснулся рано. Вышел из дома с запасом, опаздывать нельзя было, Чагов мужик с норовом. На станцию пошел по морозцу. О прапоре напрочь забыл. Салага он на всю жизнь. Салагой и помрет. Думать еще о нем, о его иконах. Чагов прав во всем. Нужно осмотреться. Не спеша. Такие кадры на дороге не валяются. Это не шарашмонтажконтора Куханова. Это не сельское воронежское образование. Это восемь старших офицеров. Почти пятнадцать высших образований. И служили они не в стройбатах и даже не в пехоте. Элитные войска, одно слово. ПВО, РВСН, погранцы, органы. Цвет армии. Ничего. Порядок в конторе наведем и найдем себе дело по уму и по соответствующему образованию, и опыту работы с личным составом.
Так думал бывший майор, а теперь молодой инспектор охраны, выходя из военного городка по темноте и испытывая гордость и спокойствие. Гордость, как известно, украшает мужчину. Спокойствие делает его в некоторых важных моментах жизни неотразимым и удачливым. Особенно в своих собственных мечтах.
По темноте, еще совсем густой, он шел, стуча четко каблуками полуботинок. Морозный воздух, оголенные деревья, слегка припорошенные снегом. Фонари – через один, а то и через два-три, освещали дорогу неровным светом. Позади послышался шум петькиной «девятки».
– Куда тебя черти несут! – выругался по-дедовски Касьминов, поймав себя на желании спрятаться в кусты. Не хотелось ему садиться в машину прапора, не хотелось видеть его, говорить с ним. О чем с этим неудочкой речь вести?
Руку он не поднял. Но «девятка» сама притормозила, остановилась аккурат передней дверцей возле недовольного майора. Дверца сама и открылась.
– Степаныч, доброе утро!
В голосе Петра послышались незнакомые, мягкие нотки. Он будто бы оправдывался. Да нет, не может быть. Такие не оправдываются. Показалось с утра. Надо садиться.
Николай пожал прапору руку, качнул головой: «Доброе утро! Спасибо!»
Не остановиться и не подбросить до станции знакомого ни один местный водитель просто не мог. Обычай здесь такой был. И не только здесь – по всей России периферийной. И не только по России. Это тебе не в тридцати километрах от Москвы и не на большаках, где можно и не волноваться: поднимай руку, не поднимай, все одно – пролетит любая машина мимо, со свистом.
– Степаныч, почему такой угрюмый? – и опять голос Петра показался Касьминову не то, чтобы ненормально вежливым для него, но располагающим к беседе. – И при параде, смотрю. Работу стоящую нашел?
– Предложили дело свои люди, – угрюмо выдавил Николай, давая понять, что говорить на эту тему он не намерен.
– В Москве?
– Да.
– Так это же хорошо! – водитель всколыхнулся. – «Копейку» свою до ума доведешь, после работы на оптовый заскочишь, товару наберешь. А я тебе список буду давать и забирать все, что привезешь. Навар будет. Пусть небольшой, но будет. Через год «девятку» возьмешь, а то и иномарку. Поди плохо. Все же по пути.
Николай даже в самом счастливом сне не мечтал купить через год «девятку». Но не это его поразило, а тон, с которым говорил с ним бывший прапор. Петр будто извинялся перед майором, и это удивляло.
– Некогда мне будет по оптовым шнырять, – деловито произнес Касьминов, машина остановилась на станционном пятачке, слабоосвещенном, окруженном старыми постройками и новыми палатками с вино-водочными витринами, круглосуточно вскрытыми. Открывая дверцу, буркнул: – Спасибо! До свиданья!
– Всего хорошего! А лишние деньги не помешают. Вон мои палатки. Две крайние.
Касьминов едва сдержался, чтобы не хлопнуть с силой дверцу, и, уже поднимаясь на перрон, подумал с нехорошим, даже опасливым чувством: «А ведь он взял палатки убитого летом Федотова. Странные дела. Их же хотел купить Куханов. Он и с матерью Федотова договорился. Он и нам из-за этого не доплатил по три-четыре сотни. А кому и больше. На пару месяцев попросил отсрочку. Странно все это. Раздумал? Может быть, теперь и с нами рассчитается?»
О Куханове думать не хотелось. Помог он ему крепко. Касьминов хоть к зиме подготовился, да сорок лет справил по-человечески. Все-таки юбилей. Дата. Сам командир части пришел, часок посидел, тост хороший сказал. А потом, уходя, пожал крепко руку и произнес: «Спасибо за то, что пригласил. Кто старое помянет, тому глаз вон. Будем живы, не помрем!»
Видимо, пронюхал он о хорошей работе Касьминова и ластиться к нему стал. А что? Его хоть и называли все перспективным, но мало ли что в жизни случается. Сегодня ты действующий подполковник, а завтра попал под сокращение и к кому? К таким, как Чагов, на поклон. А к нему тоже попасть в команду не просто. Глаз у него наметан. Кого ни попадя не возьмет.
Электричка уже бежала в столицу. Подмосковье просыпалось медленно, нехотя. Касьминов думал о приятном, в том числе и о трех сотнях долларов, которые – он был почти уверен в этом – не сегодня, так завтра ему вернет Куханов.
На «Проспекте мира», на кольцевой, в центре зала встретились девять офицеров в гражданке, естественно, поздоровались, вышли из метро. Москва уже проснулась. Но не совсем. Машин было немало, работали все ларьки, но лоточники, например, за углом, перед трамвайной остановкой, еще только разгружали товары, укладывая ящики с фруктами в кривые стопки под пирамидой стеллажей. И пассажиров сидело в трамваях немного, и вид у них был не деловой, будто с кроватей их подняли, на улицы вывели, в трамваи посадили, а разбудить забыли – сами, мол, просыпайтесь, не маленькие.
Сонным был и пивной закуток по соседству с булочной. На холодных пластмассовых, некрепкого покроя креслах сидели с бутылками в руках какие-то темного цвета люди. Нет, не негры и не лица кавказской национальности, но обитатели Средней полосы России, аборигены ее, может быть, даже подмосковичи, а то и москвичи, но такие замызганные, в таких засаленных одеждах, что даже на станции, откуда два часа назад отбыл по новому назначению судьбы Николай Касьминов, таких темных людей, совсем выцветших, полинялых, увидеть можно было нечасто. Пиво, впрочем, они пили со смаком, с оттяжечкой, с пониманием – и видно было, что не зря они теряют время на утреннем, почти зимнем морозце, что им хорошо. Не совсем это опустившийся, бродяжный люд, почему-то подумал Касьминов, если пиво им так нравится – аж завидно становится, глядя на их блаженные лица, давно не стиранные.
А еще дальше по пути следования отделения из старших офицеров за палаткой с громкой надписью «Галантерея» Николай увидел живое, то есть даже человеческое, сплошь закутанное в дряхлые, но, видимо, еще греющие платки, существо, неудобно поджавшее под себя ноги, облепленное со всех сторон сворой собак, почему-то связанных, рыжих как на подбор, скупо шевелящихся то и дело. На груди у этого живого существа висела какая-то табличка. Глаза существа (скорее всего это была женщина – так по-женски были подобраны под себя ноги в тряпочных густо пропитанных пылью сапогах) смотрели бездумно в угол дома, где еще не открылась булочная, и во всей этой композиции, несложной, впрочем, для какого-нибудь могучего скульптора нетленки типа Лаокоона было так мало жизни, что, казалось, поднеси ему (а скорее всего – ей) ту же бутылку пива или чебурек из ларька – не возьмет, поленится, и собаки не колыхнутся, пригревшиеся, согревающие собачьим теплом своим ноги и ягодицы женского рода существа, которое даже в отрешенности своей не выпускало из рук, упрятанных в тепло драных платков, веревку – совсем дешевый, то есть даже совсем бесценный поводок. Впрочем, никто им и не собирался подносить ни пива, ни чебуреков, и, видимо, поэтому в симпатичной скульптурной группе так мало было жизни, жизненной страсти, что вряд ли она всколыхнула бы воображение даже самого захудалого творца. Странно. Чем они жили, составляющие этого московского Лаокоона? На что надеялись? О чем мечтали? Об открытии булочной они мечтали. На кусок хлебушка надеялись. На какую-нибудь сердобольную старушенцию, которая еще не сдалась, не потеряла то, что вкладывалось в людей в голодные времена, а лучше сказать в послеголодные времена, потому что голод – плохой советчик, но хороший воспитатель тех, кому удалось голод осилить, пережить, выжить. Такие люди будут подавать всегда. На таких людей надеялась женщина, поджавшая под себя еще не старые ноги, – старые ноги не вынесли бы такой работы: поддерживать тело в монументальной строгости…







