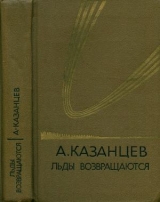
Текст книги "Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Льды возвращаются"
Автор книги: Александр Казанцев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Мария Сергеевна, Люда и Елена Кирилловна прилетели из Проливов на Внуковский аэродром. На летном поле их встречал Владислав Львович Ладнов, физик-теоретик, худой седовласый человек с молодым костистым лицом и злыми глазами. Он казался Люде насмешливым и высокомерным, делил мир на физиков и остальных людей, а физиков – на соображающих и сумасшедших, то есть тех, кто выдвигал неугодные Ладнову идеи, о ком говорил с яростью или презрением. Люда подозревала, что несумасшедшим считался только сам Ладнов, может быть, еще академик Овесян (задержался пока в Арктике) и Мария Сергеевна Веселова-Росова.
Ладнов взял вещи Марии Сергеевны, критически осмотрел Елену Кирилловну. Та ответила ему неприязненным, оценивающим взглядом.
Люда заметила это, но не подала виду. Ее радовало сейчас все: и то, что их встретил Ладнов, и то, что он такой умный и злой, и что вагончики бегавшего по летному полю поезда выглядят игрушечными, и что небо синее, и светит солнце, о котором она так соскучилась за полярную ночь.
Люда с удовольствием прокатилась бы по подвесной дороге, но Елене Кирилловне очень хотелось ехать непременно на автомашине.
Владислав Львович сам сел за руль и сразу же завел разговор с Марией Сергеевной о редчайшем случае в науке, когда теоретики не предсказали открытия Б-субстанции… Не будь Б-субстанция уже применена для защиты от ядерных взрывов, теоретики никогда бы не поверили в ее существование. Он сказал, что Буров не только типичный сумасшедший, но еще и «сумасшедший счастливчик», который вытащил выигрышный лотерейный билет, и что на скачках всегда везет новичку, ничего не понимающему в лошадях.
– Москва! Москва! – воскликнула Люда, схватив Елену Кирилловну за руку, хотя города, если не считать университета, еще не было видно.
Шаховская смотрела на причудливый контур университета, на россыпь его сверкающих на солнце окон и мысленно сравнивала его с чем-то…
Потом они ехали по Ленинскому проспекту. Елена Кирилловна почему-то интересовалась не новыми районами города, а теми, которые еще не успели снести, ей непременно хотелось посмотреть на кривые улочки Замоскворечья или Арбата.
Люда украдкой смотрела на Шаховскую. Кто же изменился из них? Губошлепик или «русалка»? По-прежнему безукоризнен профиль Елены Кирилловны, привычно подтянута фигура, не опиравшаяся на спинку сиденья, загадочен чуть усталый взгляд. Разве не восхищается ею, как раньше, Люда?
Как смешно она ревновала ее еще недавно ко всем… в особенности к Бурову. Бурова не было.
Он стал огромным, как его подвиг. Было странно подумать, что Люда знала такого человека, помогала ему, даже сердилась на него, словно можно быть знакомым с титаном, с Прометеем! Если бы Бурова приковали цепью к скале и орел стал терзать его грудь, Люда не плакала бы, как прекрасные и беспомощные океаниды, а своими руками разбила бы алмазные цепи, приготовленные гневом богов для титана. Титан скоро вернется. Никогда уже не станет он в глазах Люды обыкновенным. А Елена Кирилловна, а ее «русалка» с серыми глазами, думающая о таинственном ребенке?
Серые глаза Елены Кирилловны были словно прикрыты дымкой, а карие яркие глаза Люды широко раскрыты и по-новому впитывают мир.
Это был весенний мир, невозможно яркий, с пьянящим воздухом, с бездонным синим небом, с радостными и загадочными людьми, полными своих дум, желаний, стремлений, горя и счастья. Еще недавно Люда почувствовала бы, что хочет расцеловать каждого, кто идет под слепящим солнцем, а сейчас ей хочется совсем другого – заглянуть каждому в душу, узнать о нем самое сокровенное… Однако самое трудное, необходимое и невозможное заглянуть в собственную душу, в саму себя, где все было таким непонятным… Ах, если бы их встречал папа!.. Но летчик Росов всегда в полете, а сейчас… сейчас он даже готовится лететь к звездам вместе с молодыми космонавтами, которых воспитывает… Папа, огромный, как Буров, только спокойный, даже застенчивый, но отважный… он умел заглядывать в Людины глаза. Посадит перед собой на стул, чтобы коленки упирались в его большие и жесткие колени, заглянет в ее «миндалинки» и все поймет. Он бы и сейчас понял, что с ней творится… А сама Люда?.. Она только может смотреть по сторонам – на улицу, мокрую в тени и сухую на солнце, на последний апрельский снег, белый с чернью, как старое кавказское серебро, на его не убранные еще после прощальной метели гребни по обе стороны проспекта, на поток людей – и замирать от чего-то странного и необъяснимого, ловя себя на том, что ищет в толпе… Бурова.
Опять Буров! Это ужасно!
И Люда начинала рассказывать Елене Кирилловне о Москве. Она ведь должна заботиться о «русалке».
Шаховская поселилась в квартире Веселовой-Росовой. Люда самоотверженно готова была, как юный паж, повсюду следовать за Еленой Кирилловной, но та решительно уклонялась. Она, видимо, искала одиночества и, конечно, обидела тем Люду.
Ждали скорого возвращения Бурова и возобновления работы в лаборатории. Женщины нервничали.
Наконец Сергей Андреевич появился. Люда ахнула, когда он вошел в лабораторию – широкоплечий, высокий, чуть насмешливый. Он оглядел помещение: искал глазами Елену Кирилловну.
Ноги у Люды, ее тонкие и сильные ноги, которые она не раз в последнее время рассматривала, натягивая чулки, стали свинцовыми, она не могла встать с табурета.
Буров кивнул ей.
– Где мама? – спросил он.
– Маму куда-то срочно вызвали, а Елена Кирилловна ушла в Третьяковскую галерею. Она ведь впервые в Москве, – ответила Люда.
Он посмотрел на часы:
– Я сейчас поеду в гостиницу «Украина». Вечером постараюсь заглянуть к Марии Сергеевне.
– Хорошо, – сказала Люда. – Елена Кирилловна остановилась у нас…
Буров снова кивнул, глядя поверх Люды. Он даже не поздоровался с ней за руку. И руки у Люды повисли плетьми.
Буров ушел, а Люда, смотря перед собой сухими, невидящими глазами, мысленно произносила страшные клятвы навсегда уйти отсюда. Разве нужна она ему, если он не сделал разницы между нею и табуреткой, на которой она сидела!
Она уйдет отсюда, чтобы заняться самым тяжелым трудом, как это делают передовые люди. Если знаменитый дирижер в свободное время водит автобус, если Мария Сергеевна Веселова-Росова, ученый с мировым именем, каждый день ездит в оранжерею, занимаясь там черной подсобной работой среди любимых цветов, то Люда пойдет в больницу, в детскую больницу, будет выхаживать там самых тяжелых больных…
Когда Люда вернулась после работы домой, то застала там Елену Кирилловну и Бурова. Оказывается, они где-то встретились!
Мария Сергеевна обнимала Бурова, крепко целуя его в обе щеки.
– Спасибо, родной. Спасибо тебе, богатырь наш, от науки.
Буров наклонился и поцеловал руку Марии Сергеевны.
– Включать в Африке нашу аппаратуру мог каждый. Подвига в этом нет никакого.
– Подвиг в том, что все в мире изменилось, – проговорила Мария Сергеевна, садясь и тяжело дыша после быстрой ходьбы.
– Теперь позвольте и мне, – сказала Елена Кирилловна, вставая и подходя к Сергею Андреевичу.
Она притянула к себе голову Бурова и, встав на носки, поцеловала его.
Люда вспыхнула и отвернулась. Она бы выбежала из комнаты, если бы не побоялась выдать себя.
– Очень трудно разобраться, что происходит сейчас на Западе, – сказала Мария Сергеевна. – Представьте, к нам с особой миссией прибыла американская миллиардерша…
– Мисс Морган? – спросил Буров.
– Вы знаете ее? Завтра она посетит наш институт. Она распоряжается моргановским фондом женщин и передает его Всемирному Совету Мира для использования Б-субстанции в целях предотвращения ядерных войн.
– Они уже предотвращены, – спокойно сказал Буров, усаживаясь в кресло и доставая сигарету. – Вы разрешите? – спросил он Марию Сергеевну.
Люда отметила, что он начал курить.
– Вы, кажется, близко знакомы с ней, Сергей Андреевич? – безразличным тоном спросила Елена Кирилловна.
– Да, встречались в Африке, – так же безразлично ответил Буров, выпуская клуб дыма.
– Что же она там делала? Удовлетворяла свое любопытство в джунглях?
– Она ухаживала за умирающими, работала в госпитале, подкладывала негритянкам, страдающим лучевой болезнью, судна. Елена Кирилловна поморщилась:
– Что это? Современная эксцентричность американки?
– Я встречалась с нею в Доме дружбы, – вставила Мария Сергеевна. – По крайней мере, одета она удивительно просто.
– Эта простота дороже роскоши, – презрительно бросила Шаховская.
– Это не эксцентричность, а раскол, – улыбнулся Буров.
– Раскол? – повернулась к нему Елена Кирилловна.
– Да. Когда дело доходит до уничтожения апокалипсической саранчи, раскол не щадит и семьи магнатов, – непонятно для Люды ответил Буров.
Шаховская отвернулась к окну.
– Итак, друзья мои, приготовьтесь к завтрашнему визиту, – сказала Мария Сергеевна, поднимаясь с кресла.
Елена Кирилловна охватила виски ладонями, словно у нее разболелась голова.
– Хорошо, я приготовлюсь, – объявила Люда.
Буров не обратил на эту реплику никакого внимания.
– Надеюсь, американка не придет в нашу лабораторию? – небрежно поинтересовалась Елена Кирилловна.
– Нет, нет, – заверила Веселова-Росова. – Чисто официальный визит. Принимать ее лучше всего в кабинете академика.
– Но там рояль, – вдруг вспомнила Люда.
Мария Сергеевна задумчиво улыбнулась.
– Да… Наш Амас Иосифович любит играть «Лунную сонату», если что-нибудь не получается.
– Значит, он часто играет, – снова вставила Люда.
Мария Сергеевна нахмурилась.
– А ты оденься завтра как следует, – строго сказала она дочери.
– Может быть, я могу не приходить? – спросила Елена Кирилловна.
– Нет, дорогая, что вы! Она специально интересуется вами, женщиной – участницей открытия. Это связано с какими-то формальностями использования фонда.
Елена Кирилловна пожала плечами.
Буров встал:
– Ну что ж, значит, завтра свистать всех наверх. Начнем дипломатическое плавание…
– Я надену домино, а Елена Кирилловна – кокошник, – заявила Люда и с независимым видом вышла из комнаты.
Елена Кирилловна проводила ее настороженным взглядом.
– Кокошник! – усмехнулся Буров и, приветственно подняв руку, ушел.
На следующий день заместитель директора института профессор Веселова-Росова принимала американку мисс Морган.
Лиз, улыбаясь, быстро вошла в ее кабинет.
– Я счастлива пожать руку такому видному ученому, который заставляет гордиться собой всех женщин мира, – сказала она.
Мария Сергеевна радушно усадила ее.
Лиз рассматривала простое убранство профессорского кабинета, портреты ученых на стенах.
– Великие физики… Я не всех знаю. О! Это Курчатов!.. И две женщины…
– Мать и дочь, – подсказала Мария Сергеевна.
– О да! Мария и Ирэн Кюри!.. Как странно, физика оказывается женской областью. Она была бы страшной областью, если бы не ваши последние открытия.
– Справедливость требует отметить: Б-субстанция открыта мужчиной, физиком Буровым, у него была лишь одна помощница.
– О-о! Я уже знаю. Я должна ее увидеть. Мне это крайне необходимо! Вы мне устроите это, дорогой профессор?
– Я думаю, что Сергей Андреевич Буров согласится. Вы ведь встречались с ним?
– О-о! Сергей Буров, Сербург… Еще бы! Он никогда не видел меня в платье. Противоядерный костюм, монашеское одеяние сестры милосердия. Правда, странно?
– Вы сейчас встретитесь с ним, он ждет вас в кабинете академика. Я от всей души благодарю вас, мисс Морган, за передачу вашего фонда для антиядерных целей.
– Так поступила бы каждая женщина, которая видела то, что мне привелось, дорогой профессор. Позвольте мне вас поцеловать.
И американка обняла Марию Сергеевну.
Мария Сергеевна сама провела Лиз в кабинет академика, находившийся в другом конце коридора, – огромную комнату с лабораторными столами, столом для заседаний, роялем, киноэкраном и черной доской с мелом.
Буров, сидевший у окна в ожидании американки, поднялся им навстречу.
– Я полагаю, – сказала по-английски Веселова-Росова, – мне не требуется вас знакомить. Мисс Морган выразила желание встретиться с людьми, открывшими Б-субстанцию. Ей остается познакомиться лишь с вашей помощницей, Сергей Андреевич.
Буров поздоровался с Лиз и направился к телефону, но она остановила его:
– О, не сразу, мой Сербург, не сразу! Мне хотелось бы кое-что вспомнить только вместе с вами.
– Вы извините меня, мисс Морган. Я буду рада, если после беседы с нашими физиками вы снова зайдете ко мне, – учтиво проговорила Мария Сергеевна.
– О да, дорогой профессор! Я буду счастлива! – воскликнула Лиз, мило улыбаясь.
Веселова-Росова ушла.
Лиз подошла к концертному роялю, стоявшему около исписанной мелом черной доски:
– Формулы… и музыка…
Она открыла крышку рояля, взяла несколько аккордов, потом села за инструмент и заиграла.
Буров слушал, облокотившись о рояль и смотря на Лиз.
Зовущая мелодия сначала звучала в мужском регистре, потом отзывалась женским голосом, полным нежности и ожидания, потом слилась в бурном вихре, рассыпавшись вдруг фейерверком звучащих капель, наконец, задумчивая, тоскующая, замерла, все еще звуча, уже умолкнув…
– Лист, – сказал Буров. – Спасибо, Лиз…
Лиз осторожно закрыла крышку рояля.
– Правда, странно? – обернулась она к Бурову. – Взбалмошная американка бросает миллионы долларов и садится за рояль, чтобы сыграть «Грезы любви», словно слова на всех языках мира бессильны сказать что-нибудь…
– Лиз, вы хотели видеть мою помощницу? – напомнил Буров.
– Да, – оживилась Лиз. – Я почти догадываюсь, почему вы защищены не только от радиоактивных излучений. Я хочу ее видеть, Сербург… – И она вызывающе посмотрела на Бурова.
– О'кэй, – сказал Сергей Андреевич и снял телефонную трубку.
– Какая она? – спросила Лиз, смотря на телефон. – Почему в этом аппарате еще нет экрана? Она похожа на Ирэн Кюри? Она любит вас, Сербург?
– Простите, – сказал Буров и сказал в трубку по-русски: – Елена Кирилловна? Я попрошу вас сейчас зайти в кабинет академика Овесяна. Мисс Морган находится здесь и хочет познакомиться с вами, моей помощницей. Что? Елена Кирилловна! Алло! Что такое? Вы слышите меня? Так вот. Приходите сейчас же. Да что там такое с вами? Слова не можете вымолвить! Ждем вас. Все. – И он решительно повесил трубку.
Потом обошел вокруг стола и, усадив американку в мягкое кресло, сел напротив нее. Она достала из сумочки сигарету.
– Да, странно видеть вас в обычном платье, – сказал он, зажигая спичку и давая ей прикурить.
Лиз улыбнулась.
– Я многое предугадываю, Сербург. Я знала, что вы так скажете, и я знаю, что значит для вас ваша помощница. Я приехала, чтобы убедиться в этом.
– Вы могли узнать это еще в Африке, милая Лиз.
Лиз коснулась руки Бурова.
– Спасибо, дорогой, что вы так назвали меня. Я не хотела этого знать там… А теперь я хочу ее видеть. – И она, откинувшись в кресле, затянулась сигаретой.
– И не остановились перед затратой миллионов долларов вашего фонда? – усмехнулся Буров.
Лиз стала серьезной, положила сигарету в пепельницу. Она отрицательно покачала головой.
– Не думайте обо мне хуже, чем я того стою… Мы с вами вместе вытаскивали из-под обломков умирающих. Я готова отдать все миллионы, какие только есть на свете, чтобы этого не было.
– И все-таки вы молодец, Лиз!
– Правда, Сербург?
Буров взглянул на приоткрывшуюся дверь.
– Ну вот и моя помощница, которую вы хотели видеть, мисс Морган, – облегченно сказал он.
Дверь открылась.
Лиз смотрела на женщину, вошедшую в кабинет академика, и не могла видеть изменившегося лица Бурова.
– Хэллоу! – весело сказала вошедшая и бойко, почти правильно заговорила по-английски: – Я очень рада видеть вас, мисс Морган.
– О-о! Вы действительно хороши, как и следовало ожидать от женщины, которой будут поклоняться в мире, избавленном от всеобщего несчастья. Скульпторы станут высекать ваши статуи, – сказала американка, светски улыбаясь и протягивая руку.
– Благодарю вас, мисс Морган. Я никогда не мечтала стать натурщицей.
– О-о! Прелестная леди! В женщине всегда живет натурщица, которая позирует во имя красоты, пленяющей мир. Говорят, великий скульптор за деньги делает статую моего жениха. Мне смешно. А что бы вы подумали о своем женихе?
– Я думаю, что он уже превратился в каменное изваяние. Посмотрите на него сами, мисс Морган, и вы в этом убедитесь.
Обе женщины обернулись к Бурову.
Он стоял, действительно окаменев от изумления, возмущения или растерянности, он смотрел на «свою помощницу» и не верил глазам.
Нет! Перед ним, конечно, не Елена Кирилловна. Но это и не Люда, не та Люда, какую он знал, которую никогда не замечал.
Природа знает величайшее чудо: неуклюжая, прожорливая гусеница вдруг преображается, расправляет отросшие крылья и, блистательная в своей неожиданной красе, летит над землей, по которой лишь ползала, взмывает выше деревьев, у корней которых ютилась, летит на аромат прекрасных цветов, с которыми соперничает ныне в яркости…
Перед Буровым, смело и остро беседуя с американкой, стояла стройная девушка в модном платье – само совершенство форм! – с искусной прической, с огромными миндалевидными глазами, удачно оттененными карандашом. И сколько непринужденной грации было в ее позе, когда она присела на ручку кресла, сколько уверенности во взгляде!
Буров поражался всему: и насмешливым ноткам в грудном женском, откуда-то взявшемся голосе, и смелому вырезу платья, и великолепному рисунку чуть покачивающейся ноги в изящной туфельке с высоким каблуком, и полуоткрытому рту в загадочной улыбке полных жизнелюбивых губ.
– Простите, – наконец опомнился Буров и подчеркнуто сказал, – мы еще не виделись с вами.
Они действительно «никогда не виделись»!
И, подойдя к Люде, – да это была Люда… или, вернее сказать, это была та удивительная женщина, которая еще в свою пору куколки или гусеницы была Людой, – он взял ее руку, чтобы церемонно пожать, но она поднесла ее к его губам, и он непроизвольно поцеловал тонкие пальцы. Американка наблюдала, какой нежный взгляд подарила Бурову его помощница…
Она резко встала, прощаясь…
– Вы извините меня за этот маскарад, Сергей Андреевич, – насмешливо сказала Людмила Веселова-Росова, когда, проводив иностранную гостью, они остались вдвоем. – Меня попросила об этом ваша Елена Кирилловна…
И новая, гордая, знающая себе цену, она ушла.
Буров крякнул и потер лоб.
«Хорошенькая стюардесса в кокетливо заломленной пилотке попросила пассажиров застегнуть привязные ремни.
– Нью-Йорк! – мило улыбнулась она.
Самолет кренился, ложась перед посадкой на крыло.
Мне не терпелось. Я спешил. Я знал, что даже в нашем тресте «Ньюс энд ньюс» этой весной начались серьезные затруднения с распространением газет. Мой дневник мог, если его печатать фельетонами, оказаться спасительной гирей, которая перевесит чашу деловых весов. В нем есть все, как хотел того босс: и ужас, и интимность, и правда, все то, что я видел за этот год, и особенно в те несколько дней – в самом пекле… Бесценные странички лежали в несгораемом портфеле, который словно набит был долларами. Он послужит защитным костюмом против всего, что началось сейчас в Америке.
Я выскочил из самолета первым, сбежал по ступенькам приставленной к фюзеляжу лестницы и протянул паспорт полицейскому чиновнику. Нас почему-то встречала толпа людей. Они бросились ко мне, наперебой крича:
– Великолепное авто, сэр! Совсем новенькое!..
– «Шевроле», сэр! Последней марки. Уже обкатано!
– К черту, к дьяволу всех! Нет лучшей машины, чем «кадиллак»! Не упустите, парень! По цене велосипеда… Комфорт, изящество, скорость!..
Мне не давали сделать и шагу.
Полицейский чиновник, возвращая паспорт, усмехнулся.
Действуя локтями, я пробивался через толпу комиссионеров и коммивояжеров, которые предлагали мне коттеджи, яхты, обстановку для новобрачных, полный мужской гардероб и, конечно, автомобили, великолепные американские автомобили! Я приятно ощущал портфель, сознавая, что скоро смогу купить все это не размышляя. Мы будем жить с Эллен в сказочной Калифорнии, на берегу ласкового океана. У нас будут безмолвные слуги. Мы станем охотиться и скакать на взмыленных лошадях, собирать цветы и купаться в лесном бассейне. Я куплю ей самый звучный рояль и научусь понимать ее любимые пьесы Листа и Бетховена…
Я проходил через удивительно пустынный, словно вымерший, аэровокзал. Сумасшедшие комиссионеры атаковали отставших от меня пассажиров.
Какой-то хорошо одетый джентльмен распахнул передо мной двери, просительно протягивая руку.
Со всех сторон на меня ринулись парни в форменных фуражках. Я видел разъяренные лица, вылупленные глаза, открытые рты. Люди отталкивали друг друга, наперебой предлагая свои такси. Я улыбнулся, не зная, кого выбрать. Едва я сделал шаг к одному из шоферов, как остальные конкуренты накинулись на него и сбили с ног. Я отступил и оказался под защитой огромного детины, вставшего в оборонительную позу. Он пятился к своей машине, делая знак следовать за ним. Мне это не удалось. Я еле вырвался из свалки, поплатившись пуговицами пиджака, и в аэровокзале попал в объятия комиссионера, предлагавшего «кадиллак» по цене велосипеда.
– Я жду вас, сэр, – прошептал он, беря меня под локоть.
В конце концов, я мог себе это позволить, держа под мышкой неразмененный миллион. И я истратил в пути все деньги, оставив лишь мелочь, чтобы доехать до редакции в новом собственном автомобиле… Он был просто великолепен, не стыдно проехаться и с самой Эллен!..
Лишь много позже я понял, что увидел привычный наш мир как бы через «ЛУПУ ЖИЗНИ», когда все выглядит яснее, выпуклее, понятнее, но в существе своем остается самим собой, рожденным все теми же привычными нам кризисами: топливным, валютным, инфляцией, конкуренцией, стремлением к всемирной гегемонии и остальными гримасами. Сейчас все это столкнулось, исказилось, выросло, безобразя и без того отталкивающие нелепости нашей жизни. Словом, я увидел свой мир в микроскоп. Но не сразу, не сразу понял это!..
Я уже слышал, что Нью-Йорк бьет лихорадка, но ее проявления показались мне странными. У светофоров не было пробок, поток машин был непривычно редким. Зато у тротуаров их стояло несметное число, и чуть ли не все с надписями «Продается»…
Поистине паника, начавшаяся на бирже, подобно радиации, поразила здесь всех… кроме меня. Я-то был в защитном костюме удачи.
Остановиться около небоскреба треста «Ньюс энд ньюс» оказалось невозможно, я проехал две мили в тщетной надежде где-нибудь пристроиться около тротуара. Наконец, плюнув на грозивший мне штраф, я оставил машину во втором ряду.
На панелях бесцельно толкалось множество людей. Витрины сверкали товарами и наклейками с перечеркнутыми старыми ценами. Повсюду «дешевая распродажа», но магазины были пусты. Продавцы и хозяева стояли на пороге, зазывая прохожих, хватая их за рукава, как на восточных базарах. А некоторые, видимо уже потеряв надежду, смотрели на толпу унылыми глазами.
Тревога закрадывалась мне в сердце.
– Что, парень? Тоже в Нью-Йорк за работой? – спросил меня крепкий детина моих лет, бесцельно бродивший, засунув руки в карманы, у счетчика платной автомобильной стоянки.
– Я из Африки и плохо понимаю, что здесь происходит, – ответил я.
Безработный выплюнул окурок на тротуар.
– Что ж тут понимать? Закрылись атомные заводы. Шабаш. Кому они теперь нужны, если бомбы не взрываются? А мы, которые на них работали и кормились на будущих несчастьях, оказались за бортом. Ну и примчались сюда в надежде схватить работенку, а здесь…
– Но ведь здесь нет атомных заводов!
Парень усмехнулся.
– Все одной веревочкой связано. Порвалась веревочка – вот все и развалилось. Оказывается, не только мы там, но и все тут работали на войну. Автомобиль военной гонки на ходу затормозил, а мы все вылетели из кузова…
Мне стало жутко. Я подходил к тресту «Ньюс энд ньюс», замедляя шаг.
Все было уже ясно. Существовала ли хоть одна фирма, которая так или иначе не была связана с военным производством? Экономика наша была уродливой. И вот аннулирование военных заказов, замораживание средств, отсутствие кредита… Владельцы фирм хватаются за головы: нечем платить в очередную субботу рабочим и служащим. И они увольняли их, хотя те и должны были производить самые необходимые, совсем даже невоенные вещи. Цепная реакция краха распространялась с ужасающей быстротой, парализуя организм цветущей страны.
Мы отмахивались от устаревших, как нам казалось, выводов Карла Маркса о неизбежности промышленных кризисов. У нас в последние годы бывали только временные спады производства. Их всегда удавалось компенсировать военными заказами. В такие дни мы, журналисты, особенно старались разогреть деловую конъюнктуру на угольках военного психоза. Оказывается, военная истерия, страх, балансирование на грани войны нам были необходимы как наркотики, без которых не могло жить дряхлеющее тело мира свободной инициативы… И вот теперь шприц сломался… И словно выпал из арки запирающий ее центральный кирпич, арка нашего хозяйства рухнула… Рухнула как после взрыва. Да, да! Это был антиядерный взрыв, бесшумный, бездымный, но не менее разрушительный, чем тот, который я видел в пекле… Вся страна лежит сейчас в развалинах своего былого благополучия. Так неужели же перспектива ядерной войны была спасительной силой нашего хозяйства? Неужели без нее нельзя обойтись? Неужели только в работе военных заводов спасение?
Лифт в вестибюле небоскреба не работал… Значит, действительно произошло что-то ужасное, если в Нью-Йорке перестают работать даже лифты!
Знакомый швейцар грустно улыбнулся мне. Он признался, что не знает, служит он или нет:
– Все вокруг сошли с ума. Фирмы лопаются как мыльные пузыри, сэр. Сына выбросили на улицу. Он пекарь. Перестали выпекать хлеб. У хозяина не стало кредита на покупку муки. Мука гниет. Ее владельцы тоже разоряются. Не могут ее сбыть. Небо обрушилось на нас, сэр.
Воистину так! Небо обрушилось. Но ведь хлеб не снаряды!
Газеты треста «Ньюс энд ньюс» не выходили. Рабочие были уволены, помещения закрыты. Так бывало, но лишь при всеобщих стачках.
И тут я увидел босса. У меня потемнело в глазах, словно меня нокаутировали. Он шел через вестибюль.
Я бросился к нему. Ведь я могу оказать его тресту решающую помощь. Здороваясь, я протянул ему портфель. Босс тускло посмотрел на меня исподлобья. Его глаза казались сонными.
– Это дневник, мистер Никсон, – неуверенно начал я, расплываясь в улыбке. – Здесь все описано… Здесь ужас…
Босс усмехнулся.
– Ужас там, – показал он глазами на окно и отстранил портфель. – Ужас сейчас валяется повсюду, он дешево стоит. Вот так, мой мальчик. Идите к дьяволу и можете использовать свой дурацкий дневник для подстилки, когда будете ночевать в сквере на скамейке или под нею.
И он отвернулся. У него был крепкий, как у тяжелоатлета, затылок, переходящий прямо в шею.
Я не существовал для босса. Он не оглянулся.
Я выскочил за ним на улицу, но рука не послушалась, не ухватила его за полы пиджака.
Он сел в «кадиллак», почти такой же, как и мой, новый, никому теперь не нужный, и уехал.
Куда? Зачем?
Неужели и он погребен в развалинах антиядерного взрыва? Я видел улицы руин, которые лишь казались домами, толпы людей, которые лишь казались живыми, город, который лишь казался существующим, страну, которая лишь считалась богатой и сильной, страну, у которой отказался работать мозг… Да работал ли он когда-либо? Ведь у нас все было построено на стихийном регуляторе, на звериной борьбе, на конкуренции, на страхе быть выброшенными на улицу.
Я мог размышлять сколько угодно, даже стать нищим философом или философствующим нищим…
Мне некуда было идти. Домой, где домовладелец поспешит предъявить мне счет за квартиру, который мне не оплатить?
Начались страшные дни.
Газеты нашего треста закрылись. Еще выходил «Нью-Йорк таймс» и еще несколько старых газет. Я тщетно старался сбыть свой товар.
Один редактор, возвращая мне рукопись, покачал головой и посоветовал продать дневник в Москву… Я был ошеломлен. Мне казалось, что мои симпатии сквозили в каждом моем слове. Я всегда был предан свободному миру.
Я ночевал в своем проклятом «кадиллаке», на который истратил столько денег. С ними можно было бы протянуть, а теперь…
Я не смел и подумать о том, чтобы попросить помощи у отца. Каково-то ему теперь?
Пособия по безработице отменили. Государство не могло принять на себя весь удар антиядерного взрыва. Но голодным толпам все еще пока выдавали бобовый суп.
Да, я опустился до этого и часами стоял в длиннейших очередях, чтобы получить гнусную похлебку.
В кармане я сжимал потной рукой несколько своих последних долларов…
Мы ели похлебку стоя, прислонившись к столбу или к стене с плакатами, призывавшими посетить модный ресторан…
Мы не смотрели друг другу в глаза.
Я испачкал похлебкой свой серый костюм, но не смел показаться домой, боясь домовладельца.
Я ничего не делал. Оказывается, я ничего не мог делать, я решительно никому не был нужен со своими мускулами, со своими знаниями. Моя судьба ничем не отличалась от судеб миллионов людей, безнадежно толкавшихся на панелях Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии…
Если я не сошел с ума в городе, разрушенном атомной бомбой, то я терял теперь рассудок в городе, парализованном антиядерным взрывом.
Перестал работать сабвей. Взбешенная толпа однажды переломала турникеты, отказалась платить за проезд, взяла штурмом станцию «Централь парк»… и поезда перестали ходить. Биржевикам придется выбирать другие места для самоубийств… А может быть, не только биржевикам?
Обросшие, голодные люди бродили по великолепному и жалкому параличному городу.
Я брился электрической бритвой, сидя в своем «кадиллаке». Его аккумуляторы еще не разрядились. В баке еще был бензин. Я берег его, словно он мог пригодиться. Может быть, для того, чтобы разогнать машину до ста миль в час и вылететь на обрыв Хедсон-ривера?
Я понял, что должен напиться.
Я поехал во второразрядную таверну со знакомой развязной барменшей с огромными медными кольцами в ушах. Она видела меня с Эллен. Мы сидели тогда на высоких табуретах, и я сделал Эллен предложение за стойкой…
На табурете теперь сидела какая-то подвыпившая женщина. Я взобрался на соседний и заказал виски.
– Хэллоу, Рой!
Я вздрогнул. В ее голосе послышались такие знакомые нотки.
Да, знакомые! Это была Лиз Морган.
– Рой… – Она вдруг обняла меня за шею. – Выпьем, Рой.
Я обрадовался ей.
Мы выпили и заказали еще по двойной порции. Барменша налила стаканы и ободряюще взглянула на меня.
– Снова вместе, – сказала Лиз, смотря на меня через бокал.
– И снова после взрыва, – мрачно ответил я.
– Все плохо, Рой.
– Все плохо, Лиз.
– Но я рада вам, Рой. Вы единственный на земле, кого я хотела бы видеть.
Я промолчал, выпил и потом спросил:
– А как поживает мистер Ральф Рипплайн?







